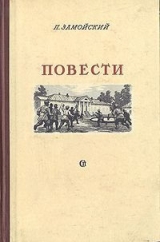
Текст книги "Повести"
Автор книги: Петр Замойский
Жанры:
Советская классическая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 29 (всего у книги 40 страниц)
Крепкий, как дуб, старик Гагара. Вот он лежит передо мной. Левый глаз его, злой и хищный, уставился на меня. Правый закрыт. Не хочет Гагара умирать, нет! А если уж постигнет смерть, то к ней он готовится прилежно. Много на душе у старика грехов, много он нанес обид. Раньше, когда был здоров, не думалось. Теперь, боясь «того света», решил очиститься. Гроза бедняков – он намерен отправиться на тот свет в белых ризах.
Впервые вчера я читал Гагаре неохотно, но затем узнал, чего старик боится больше всего, и стал выбирать для чтения самые страшные места из «святых» книг. Я пугал Гагару, грозил ему адом, тягчайшими муками, и, когда прочел притчу о бедном и богатом Лазаре, он тут же позвал Николая и при мне приказал простить кое–кому старые денежные и хлебные долги. Это мне понравилось. На следующий вечер я добился того, что он простил долг Ванькиному отцу. Нет, я его буду мучить и изводить медленно. Я отомщу Гагаре за всех, кого он обидел. Святое писание старик иногда понимает плохо. Ласковым голосом я поясняю ему прочитанное так, как хочу. Особенно настойчиво внушаю ему две мысли: одна – трудно богатому войти в царство небесное и другая: «Прости нам долги наши, яко же и мы прощаем должникам нашим».
При двух свечах, под завывание ветра в трубе я сижу сейчас перед Гагарой и торжественным голосом не читаю, а как бы проповедую, беспощадно бичую. Гагара вздрагивает, иногда в ужасе кричит мне: «Уйди, змей!», но едва я замолкаю, как снова просит: «Читай!»
– «Каплям подобно дождевым злые дни мои оскудевают, помалу исчезают», – читаю я и смотрю на него.
Он вздыхает.
– «Ныне душу мою объял страх велик, трепет неисповедим и болезнен есть, егда душе моей изыти из телесе».
– Да, – шепчет Гагара и поднимает тяжелую руку, он хочет перекреститься, но у него не хватает сил.
– «Нощь смертная мя постигне, мрачна и безлунна к пути страшному».
– Господи, прости. Дай пить.
Капли воды стекают по бороде на одеяло. Даю Гагаре передохнуть и, когда он начинает дремать, испуганно вздрагивая, напоследок читаю ему:
– «Сладок сон трудящегося, мало ли, много ли он съел. Но богатому пресыщение не дает уснуть… Богатство во вред ему. Как вышел он нагим из утробы матери своей, таким и отойдет».
Я закрываю книгу, оставляю Гагару и ухожу.
Спи, старое чудовище!
Несколько раз присылала мне Соня записки, просила зайти к ней в учительскую, но с тех пор, как она стала учительницей, я еще более робел перед ней, избегал встреч. Как‑никак Соня дочь дьякона, образованная, учительница, – я не ровня ей.
Сегодня записку от нее принесла из школы моя сестренка.
«Милостивый государь, – пишет Соня, – господин полковник и сельский писарь, сочинитель стихов и неумеренный молчальник, внезапный говорун, угрюм и нелюдим!
Придет ли срок вашему молчанию? Когда отзоветесь на мои записки? В одиночестве скучает девушка, молит зайти, а Вам… тьфу!
Сегодня вечером вместо посиделок отправляйтесь в учительскую. Во–первых, уготован цейлонский чай с кусковым сахаром, во–вторых, есть поразительная новость! Хочу, чтобы о ней Вы узнали раньше, чем все.
Жду!
Софья».
Сестренка смотрела, как я читал, и, когда окончил, заявила:
– Учительша наказала ответ прислать.
– Будет ответ, – говорю я и пишу.
«Царь–девица Софья!
Спасибо за все звания, в которые вознесли Вы меня пылким воображением, а также за проборку, коей истинно достоин. Искуплю вину. Приду.
Петр».
Идет снег, сухой, мелкий. Иногда рванет ветер и белая пыль промчится по сугробам. Кое–где сквозь приваленную к окнам солому видны огни. Ничто не нарушает тишины глухого села.
Стою возле своей избы, зорко осматриваюсь. Боюсь, увидит кто‑нибудь меня, сразу догадается, куда я иду.
До школы совсем недалеко. Я ускоряю шаги. Вот церковь. Очертания ее видны сквозь тонкую кудель снега, как сквозь мелкое сито.
Хорошо, если бы Сони не оказалось в учительской, ушла бы к родным. Нет, в учительской мерцает огонек. Некоторое время стою в раздумье, еще раз оглядываюсь и, никого не видя, взбегаю на крыльцо школы. Дверь заперта. Стучу ногами, отряхивая снег, и слышу, как открылась дверь из учительской. Мелкие шаги в сенях, певучий голосок Сони:
– Кто?
– Гость, – почти шепчу я.
Стукнула щеколда, и вот я в кухне, у порога. Как знакома мне эта кухня и учительская! Не раз бызал я тут у покойного учителя Андрея Александровича. Но нет уже того таинственного запаха табака, который всегда очаровывал меня. Теперь здесь иной запах – духов.
– Что же вы стоите у двери? – спрашивает Соня. – Ну–ну, проходите. Наверное, на посиделках куда храбрее держитесь?
– Простите, я жду, когда снег на валенках растает.
– Ого, придумал! Раздевайтесь.
– Спасибо, царевна, но где обещанный самовар?
– Сейчас подогрею это сокровище.
– Может быть, вам нужна помощь со стороны?
– Не беспокойтесь. Проходите в келью.
Она поставила на скамеечку небольшой самоварчик, подложила углей, и скоро он зашумел. Я стою перед небольшим книжным шкафом и сквозь стекла читаю на корешках названия книг. Многие из них мне знакомы еще с детства. Особенно вон те, толстые, «Книга за книгой», переплетенные покойным учителем.
В отражении стекла мелькает лицо Сони. Она собирает на стол. Лицо ее то дробится, то вдруг становится ясным. Иногда замечаю на нем чуть видную усмешку. Видит ли она, что я за ней наблюдаю?
Мне стыдно, что она так усердно и торопливо хлопочет. Подумаешь, какой гость заявился 1 Да, она догадалась, что я смотрю на ее отражение. Мы на миг встретились взглядами. Она еле заметно усмехнулась.
– Будьте любезны к столу.
Она задернула занавеску на окне, внесла самовар, и вот мы сидим с ней вдвоем. Что‑то плохо клеится у нас разговор. Она говорит грамотно, а у меня нет–нет да и вырвется деревенский неправильный оборот. Я спохватываюсь, смущаюсь, но она как бы не замечает этого, не поправляет меня. Я понимаю, как мне далеко до нее!
Уютно у нее здесь, тепло. В углу туалетный столик, перед зеркалом все так хорошо расставлено, будто это само тут выросло. Флаконы с духами, разные фигурки, даже Будда попал на столик дочери дьякона.
Рядом еще стол, на нем тетради, чернила, ручки, книги, учебники. В заднем, а не в переднем углу – небольшая икона с лампадой. Там, между выступом печи и стеной, за цветным занавесом, ее кровать.
– Очень странно, Петр Иванович, ваше поведение, – вдруг говорит она в тот момент, когда мы еще раз встретились взглядами в зеркале.
– Я… ничего, так…
– Что так? С тех пор как я стала учительницей, вы совсем избегаете меня. Раньше хоть редко, но заходили.
«Ага, вон о чем она», – облегченно вздыхаю, но не знаю, что ж все‑таки ответить.
– Видите, Софья Павловна, я вообще никуда не хожу.
– Это неправда. Я знаю, где вы бываете. Но почему дичитесь меня, не пойму. Ответьте точно.
– А что вам во мне? – уже спрашиваю ее. – Зачем я вам? Вы – образованная и не нам чета.
– Кому вам?
– Деревенским парням.
– Совсем остроумно! – вспыхнула она.
Подумав, внимательно уставилась на меня и сказала:
– Я не так глупа, чтобы не различать деревенских парней, хоть и сама не ахти как далеко ушла от деревни. Смущает, что я дочь дьякона? Чин высокий, куда там! Послушайте и вы правду. У вас положение, пожалуй, не лучше, чем у меня. Говорить?
– Очень интересно, – насторожился я, – говорите.
– У вас есть товарищи?
1– Есть…
– …Которые понимают вас с полуслова, которые по природе развиты, как вы?
– Павлушка.
– Знаю. Поверьте, и он вам не полный товарищ, а подтоварищ.
Я молчал.
– Выходит, что вам тоже скучно. Потому вы и ходите то к одному, то к другому. Мое положение такое же. У меня нет подруг. Поповых дочек я презираю ровно настолько, насколько они глупы. Я предпочитаю дружить с Катей. Она очень славная девушка. Самостоятельна, умна, деловита. Если бы вы спросили меня, кого вам взять из деревенских в жены, я бы назвала Катю.
– Спасибо.
– Серьезно. Только и она вам не пара. Почему? Все потому же! Вы по своей начитанности – интеллигент. Больше того, вы – интеллигент–самородок. Это ценнее, чем какой‑нибудь… хотя бы мой старший брат, получивший духовное образование.
– Не пойму, Софья, кто и что я теперь, – проговорил я пересохшими губами. – Верно, читал я много, но…
– И видел, пережил, передумал, – добавила она.
– Все это в куче.
– В хаосе. Вот так… – и она развела руками, в воздухе, изображая хаос.
– Верно, – согласился я, и снова вспомнились слова учителя, сказанные мне давно–давно: «Обычная история всех бедных, но способных учеников: вместо того чтобы учиться дальше, они всегда угождают в пастухи или батраки!» – Что же мне делать? – спросил я Сошо.
– Что делать? Об этом я и думала. Но сначала вот что. Предупреждаю, не подумайте, слышите, – не подумайте, что я навязываюсь в дружбу. Я знаю ваш характер, скажу прямо: я очень рада была бы почаще встречаться и говорить. Мы найдем о чем. Вас заметил покойный учитель, но он ничем помочь не мог, а я помогу. Вы хотите учиться?
– Зачем спрашивать об этом?
– Я больше чем помогу, я… заставлю вас учиться! – убежденно проговорила она. – Вы слышали, что в Москве есть народный университет Шанявского? Только не пугайтесь слова «университет».
Правда, я слышал про такой университет, но и в мыслях не держал, что мог бы в него поступить. Для этого надо жить в Москве.
Она словно догадалась, о чем я задумался.
– В нем заочно можно обучаться. Весь материал будут присылать сюда, а вы письменно будете отвечать.
– Вряд ли я что пойму.
– Сначала нелегко пойдет дело, но тут‑то вам и понадобится моя помощь.
– Ваша помощь?
Она кивнула головой.
– Подумаю, Соня. Спасибо за совет. И за все спасибо.
– Не стоит. Пейте чай… Хотите, расскажу новость?
– О которой в записке?
– Та особо. С Настей давно не виделись?
– А что?
– Ничего. Сговорено тихо и мирно.
– За кого?
– Готовьте стихи на свадьбу. Начните так: «У нашего барина, Макара Гагарина», а окончите просто: «Пью я эту чарку за Настю с Макаркой».
– Замечательно. Только меня это совсем не трогает.
– Гагару все еще отчитываете?
– Перестал.
– Напрасно. Это озорство, ей–богу, мне нравится. Пугать пугало, изводить его! Нет, вы… ловко придумали.
Мы рассмеялись. Я подробно рассказал, как своим чтением довожу Гагару до исступления. Он рычит: «Уйди, змей!», а потом снова обещаю ему царствие небесное, и старик утихает.
Соне особенно понравилось, что Гагара, простив почти все долги, вдруг вспомнил старый долг Марье Ручкиной и крикнул Николаю:
– Отдай Марье три рубля. Сними старый грех с отца.
Соня весело хохочет. Она сидит рядом со мной, я слышу ее теплое дыхание, ощущаю запах духов и ловлю себя на мысли, что если чаще буду встречаться с ней, то влюблюсь в нее. Отодвигаюсь, она понимает и не обижается. Она будто не видит. Когда мы напились чаю и я уже собрался уходить, Соня вскользь, будто к слову, бросила:
– Распутин убит.
– То есть как? – опешил я. – Откуда знаете?
– Это мое дело. Ну, довольны новостью?
– За такую… спасибо, Сонечка, – внезапно назвал я ее так и покраснел.
– Придете?
– Обязательно.
Мы пристально посмотрели друг на друга, крепко пожали руки, и я чуть не бегом направился от нее.
– Филя, Распутин убит! – прибежал я на другой день к нему.
Он с размаху вонзил топор в ступу и уставился на меня острым глазом.
– Да, убит, – и я рассказал ему все, что слышал от Сони.
– Собаке и смерть собачья!
– Теперь подумай, куда дело может пойти, – намекнул я ему.
– К тому и пойдет.
– Не зря эти штуки делаешь, – указал я на дере-вянные винтовки.
– Пригодятся.
Мы уселись на верстаке. Сейчас самый удобный момент узнать его мысли. Осторожно намекнул ему на бунт в нашем селе, упомянул про Харитона – вожака и пожалел, что теперь его нет с нами. Филя отвечал резко, пересыпал свою речь бранью. Когда я вновь упомянул про царя и царицу, он, даже не оглянувшись, страшно выругался. И тогда я осторожно спросил:
– Филя, в случае опять начнется, как в том году, ты как?
– А так же, как и ты! – ответил он прямо.
– Правда? – обрадовался я. – Значит… вместе. Эх, жаль, Харитона нет!
– Мы сами большие.
– И злые, – подсказал я. – Но ты, Филя, иногда очень горяч.
– Не бойся.
– Все‑таки, в этом деле, чуть что… а время военное… Не думай, что я не смел, нет, но меня учил Харитон беречь тайну.
– Будем беречь тайну!
– Хорошо, Филя. Хочешь, я тебе принесу одну или две книжки? Запрещенные. Очень понятно напечатано.
– Принеси.
– Ладно. Может, вместе соберемся…
– Еще лучше!
– Ну, Филя, я пойду. Да, вот что… в нашем обществе есть десятский Шкалик. В случае чего ты с ним ни–ни. Он из тех, которые…
– За ноги да в прорубь! – быстро вынес Филя приговор.
Стоят рождественские морозы. Свирепо воет вьюга. В нашей избенке такой холод, что не раздеваемся. В пазах намерз снег,’ всюду иней.
Сегодня вечером ко мне зашел Степка. Он был взволнован. Снял свои очки н, протирая их, прохрипел:
– Ванька при смерти. Пойдем… Семена позовем.
Шагаем через сугробы к Семену и, уже втроем, идем к умирающему другу. Семен на деревяжках еле плетется.
Стучу в окно, густо покрытое снегом. Дверь в сени открывает Ванькина сестра Марфуша. Лицо у нее заплаканное.
Ванька лежит на кровати. Отец его топит голландку, мать сидит у стола. Встречают они нас молча. Я подхожу к Ваньке, Марфуша держит лампу. Вглядываюсь в лицо своего товарища, когда‑то румяное, с веселым блеском в глазах. Сейчас оно бледное, щеки впалые, как бы сжатые тисками. Глаза полуоткрыты. Я тихо окликаю его, но он не слышит. Он смотрит в темный потолок. Лишь частое, со свистом дыхание вырывается из его тощей, прикрытой дерюгой груди.
– Ваня, Ваня, – снова зову я его, низко нагнувшись, – ты слышишь меня?
Чуть заметно дрогнуло его лицо, он открыл глаза, попытался голову повернуть к нам, но не смог.
Спазмы сжали мне горло, и я, боясь, что вот–вот разрыдаюсь, отхожу, уступая место Степке. При свете тусклой лампы синие очки придали Степкиному лицу зловещий вид. Казалось, сама смерть наклонилась над Ванькой и хриплым голосом зовет:
– Друг, Ванька, очнись!
Приковылял Семен. Снял с Ваньки дерюгу, положил ему руку на грудь и громко позвал:
– Ваня, вставай. Что все лежишь? Пойдем на улицу…
Безногий Семен пытался кричать весело, но голос выдавал его. Еще раз окликнул его Семен, и вот стеклянные глаза Ваньки повернулись в сторону Семена, синие губы что‑то прошептали.
– Пить, – сказал Семен.
Подошла Марфушка с кружкой воды и ложкой.
– Кто… при… шел? – еле слышно спросил Ванька, попив воды из ложки.
– Мы, мы! – закричал Семен. – Я, Петька, Степка. Ты бы встал на часок! Умереть мы тебе не дадим.
– Не–ет… ум–ру… Вот… дух… – едва выговорил он, и глаза его остекленели, а на лице выступил крупный пот.
Марфуша повесила лампу, прикрыла Ваньку дерюгой. Мы сели на лавку. Сидим, молчим. О чем сейчас говорить? Вдруг тихо заплакала мать, всхлипывая, заплакала и Марфуша, слезы застлали глаза и мне, и Семену. Семен принялся утешать, что Ванька дотянет до весны, что на свежем воздухе ему будет легче… Словом, говорил то, во что никто, – и сам Семен, конечно, – не верил. Ванькин отец, широкобородый, с морщинистым лицом, сидел на ступе возле голландки и, низко свесив голову, о чем‑то думал, тяжело вздыхая.
Мы сидели, изредка переговариваясь, почти до полуночи. Затем ушли. Возможно, что мы не успели дойти до своих изб, как с Ванькой уже началось и кончилось то, что было неминуемо.
…Его величество, государь император, всея великия, малыя и белыя Руси, царь польский, великий князь финляндский, эстляндский, курляндский, лифляндский, и прочая, и прочая – Николай Второй приклеен к бревенчатой стене нашей избы разжеванным хлебом.
Мы со Степкой срываем портрет царя. Вот он, в наших руках! Кладем царя на стол, смотрим на него. Степка хрипло дышит, скрипит зубами, а меня пронизывает дрожь. Вот он, из‑за которого столько людей погибло на войне, по повелению которого десять лет назад расстреляли наше село, угнали наших мужиков; он, который оставил нас совсем без земли, загубил Ваньку, искалечил Степку и меня.
Бросаем портрет царя на грязный пол и долго топчем.
В это время входит мать. Увидев, что мы делаем, она, смертельно побледнев, безмолвно опускается на лавку. А мы, истоптав портрет, бросаем его в печку, открываем трубу, чиркаем спичкой.
Опомнившись, мать говорит сквозь слезы синими, сухими губами:
– Что это вы? Урядник узнает – обоих прямо на каторгу…
– Молчи, мать! – злобно кричу я. – Скоро ему не то будет. Ско–оро!
19«Деревенской бедноте сначала надо на помещиков ударить и хотя бы только самую злую, самую вредную барскую кабалу с себя сшибить, – в этом многие богатые крестьяне и сторонники буржуазии тоже за бедноту будут, потому что помещичья спесь всем оскомину набила. Но как только мы помещичью власть посократим, – так богатый крестьянин сейчас себя покажет и свои лапы ко всему протянет, а лапы у него загребущие, и сейчас уже много загребли. Значит, надо держать ухо востро и заключить крепкий, ненарушимый союз с городским рабочим человеком».
Несколько вечеров мы читаем эту книжку. Читаем ее с Семеном на переменки, а Филя, Степка, Игнат, Карпунька–припадочный и безрукий Зятев Сергей слушают, затаив дыхание. Сейчас книжка в моих руках. Вернее, это не книжка, а тетрадь, помятая, видимо побывавшая во многих руках. На полях попадаются карандашные отметки, иные места подчеркнуты. Да, это одна из потайных тетрадей, – о них я много слышал, но еще не держал в руках. И вот смотрю на нее с некоторым страхом, с удивлением и радостью. Смотрю с тем же сложным чувством, с каким, будучи пастухом, смотрел на ключевой родник, что в глубоком овраге. Из жерла непрерывно бьет холодная, чуть–чуть синеватая вода. Казалось, глубоко под землей стоит невидимый огромный насос и качает. Вид ключевого родника всегда поражал меня своей таинственностью, непрестанным рождением воды. Ключ родит воду, потому народ и называет такие ключи «родниками».
Как хотелось бы прочесть эту книгу всему народу на сходе, но… книга тайная. В ней так и говорится, что эта правдивая книга напечатана тайно и разослана тайно и того, у кого ее найдут, затаскают по судам да по тюрьмам. Значит, всем ее читать или давать нельзя, и мы должны молчать о ней и даже не спрашивать Семена, где он ее взял. И кто ее писал, не знаем, и как называется, неизвестно. Ясно одно: написана эта книга человеком не простым.
Уже наступает вечер. Фиолетовые буквы трудно разобрать. Я почти к самым глазам подношу книгу. Чувствую запах ее, таинственный, еле ощутимый.
– Надо лампу зажечь, – говорю я.
Филя встает со скамьи. В темноте он кажется еще огромнее: рукой достанет не только до лампы, но и до потолка. Лампа освещает наши лица. Мы смотрим друг на друга, как бы впервые увидевшись, и каждый из нас уже чувствует себя таким, каким учит быть эта книжка. Садимся у стола еще теснее, чем прежде.
А на улице все та же вьюга и ветер бросает охапки снега в приваленную к окнам солому.
Время идет, читаем страницу за страницей. Сегодня прочтем всю книжку, осталось немного. Семен уже устал, начинает заикаться. Я вновь беру у него тетрадь. Читаю, как царское правительство расправилось с крестьянами Полтавской и Харьковской губерний за то, что отобрали хлеб у помещиков и разделили.
– «…царское правительство послало против них войско, как против неприятелей, и крестьяне были разбиты, в крестьян стреляли, многих убили, крестьян пересекли зверски, засекали до смерти…»
Последние строки книги звучат грозно, зовут к восстанию. Огненные слова проникают в нас. Филя крепко сжал кулаки, положил их на стол, готовый вот–вот ударить ими, глаза Степки блестят, а я, встав, уже не читаю, а кричу:
– «Скоро настанет день, когда рабочий народ в городах поднимется не для того только, чтобы пройтись по улицам с криками, а поднимется для великой, окончательной борьбы, когда рабочие, как один человек, скажут: «мы умрем в борьбе или добьемся свободы!», когда на место сотен убитых и павших в борьбе встанут тысячи новых, еще более решительных борцов. И крестьяне поднимутся тогда, поднимутся по всей России и пойдут на помощь городским рабочим, пойдут биться до конца за крестьянскую и рабочую свободу».
Стучат в окно, слышен чей‑то крик. Семен качает головой жене. Пусть не отпирает. А я продолжаю:
– «Никакие царские полчища не устоят тогда. Победа будет за рабочим народом, и рабочий класс пойдет по просторной, широкой дороге к избавлению всех трудящихся от всякого гнета, рабочий класс воспользуется свободой для борьбы за социализм!»
Кончив чтение, я отираю вспотевший лоб.
Некоторое время сидим молча. Снова застучали в окно. Семен убрал книгу.
– Иди, открой!
В избу, запыхавшись, вбежал мой брат Николька.
– Ты что?
– Миша приехал! – выкрикнул он.
…Вот рядом со мной за столом – брат мой Миша. Его не узнать. Не виделись мы с ним десять лет! Как исчез осенью в шестом году, так о нем и слухов не было лет пять. Года за два до войны приезжал на призыв, но я уже служил в Пензе в трактире, так и не повидались. Изредка присылал мне из солдатчины письма, и по намекам его я понял, что он от царской расправы в шестом году сбежал сначала за Волгу, потом уехал в Томск, а затем подался еще глубже, в тайгу, к кержакам. Много видел мой брат, много перенес и встречался с теми людьми, которых царь ссылал на каторгу.
Смотрю на него, и не верится, что он таков. Помню его загорелым оборванным парнем, а сейчас он возмужал и лицо иное, а на голове со лба уже пробивается лысина, – в отца. Глаза попрежнему синие, голос стал сипловатый. Писал, что однажды во время атаки попал в газ.
Сидим, слушаем его рассказы. Собрались соседи, больше женщины. Одет брат чисто; на плечах у него серебряные погоны. Что это за чин? Потом Миша рассказал, что, признав негодным к строевой службе, его, как хорошего грамотея с красивым почерком, взяли в штаб писарем, через некоторое время перевели в старшие, а затем дали звание зауряд–военного чиновника.
– А ты Как живешь? – обратился он ко мне.
Коротко рассказал ему, что я тоже писарь и не просто писарь, а зауряд, то есть подряд двух обществ.
– Вся семья – писаря, – заметила мать.
На второй день он осмотрел наше хозяйство и печально проронил:
– Плохо живем. Избу надо новую.
– Об этом я сокрушаюсь, да денег нет.
– Будем сруб искать.
Не успел он с дороги как следует отдохнуть, мы, узнав, что в соседних выселках продается сруб, отправились туда на нашей Карюхе. Ехали тихо, кобыла совсем не обращала внимания не только на наши понукания, но и на удары по ее толстым бокам.
– Лошадь тоже надо купить, – сказал Миша.
Я смолчал, но был рад, что он оказался таким хозяйственным.
По дороге он много рассказывал: в Питере, в Москве и других городах забастовки. В Москве была демонстрация, которую разогнала полиция, в Питере некоторые солдаты перешли на сторону демонстрантов. Говорили о том, что в центральные города почти не подвозят съестных припасов, на железных дорогах развал.
– Чем все это кончится? – спросил я брата.
Он посмотрел на меня и, прищурившись, не скоро ответил:
– Уберут Николая.
– Как Распутина?
– Может, и так. Есть слух, будто он хочет заключить с немцами отдельный мир.
– Другого поставят.
– В том все дело, кто его уберет. Если союзники, то они поставят нового, если сам народ, то свое правительство изберем.
– Миша, – спросил я, оглянувшись, хотя никого и не было возле, – скажи, ты в каком‑нибудь тайном кружке бываешь?
– А что? – повернулся он ко мне.
– Я догадываюсь.
– Да. Бываю…
– Кто в нем?
– Большевики, – ответил он. – Понятно?
– Не думай, что раз я в деревне, то ничего и не понимаю.
И я рассказал ему все, что знал, поведал, где я был в тот вечер, когда он приехал, и что там делал.
– Ого, «К деревенской бедноте» читали?
– А ты сам ее тоже читал?
– Давно еще, в Сибири. Книжка хорошая, но вот что ты учти…
– Что, Миша?
– По земельному вопросу в ней говорится только о возврате крестьянам отрезков. Сейчас другая обстановка и другая линия: все земли помещичьи, царские, монастырские отобрать и передать в бесплатное пользование крестьянам.
– И об этом книжка есть?
– Есть и книги, и статьи.
– Не тот ли человек писал их?
– Тот самый.
– Где он сейчас?
– Ленин? – спросил он.
– Да, да, – говорю, а сам первый раз слышу такую фамилию.
– Ленин за границей.
– Ведь он главный?
– Он вожак, руководитель и, как ты говоришь, верно: главный.
– Ленин, – повторил я про себя.
Сруб продавал богатый мужик. У него было несколько участков покупной земли. Низенький, уродливый, с толстым, как бы опухшим носом, он встретил нас довольно приветливо. Осмотрев сруб, мы с братом переглянулись. Сруб подходящий. Сладились быстро.
На обратном пути ехали немного навеселе: после магарыча. Вот она, наконец‑то, та покупка, о которой я так мечтал.
– Теперь, брат Миша, начнем обзаводиться гнездом. Ты сруб купил, я строить буду. А что дальше, покажет жизнь…
Сходил к Филе, к Игнату, рассказал им кое–какие новости, сговорился о перевозке сруба. Оба охотно согласились, – им хотелось познакомиться с моим братом, а Мише тоже необходимо узнать их.
За эту неделю я по–настоящему узнал характер брата и его познания. Он очень много читал и, о чем бы я ни спросил, давал мне точные ответы. Характер у него твердый. Видно, что суровая судьба не сломила его, а, наоборот, закалила. Его, как и меня, печалила наша бедность. И мы планируем с ним, высчитываем, сколько надо вложить в хозяйство, чтобы оно хоть чуть походило на хозяйства других. Из этих разговоров я понял, что Миша после войны вернется домой. Мне было от этой мысли и радостно, и в то же время жалко Мишу. Не хотелось мне видеть его мужиком. Однажды я сказал ему об этом, но он ответил, что надоело мыкаться по людям, что уже немолод он и хочет пожить в своем доме.
Иногда становился он задумчивым и грустным. Мне было жаль его, а спросить, о чем он думает, отчего грустит, – неудобно. Мать тоже замечала за ним это и настороженно посматривала на него. Однажды, когда Миша, посидев так, вышел на улицу, мать подошла ко мне, села и вздохнула. Я прекратил работу, посмотрел на нее. После некоторого молчания она тихо заговорила:
– Сынок, погляди на Мишу. Чтой‑то он, нет–нет, а вроде затоскует.
– Сам вижу.
– Спроси‑ка его, не вздумал ли он жениться?
У меня даже ручка выпала на бумагу. Чего–чего, а такого от матери не ожидал: Миша и вдруг… жениться?
– Что ты, мать! Он всего‑то на один месяц приехал в отпуск. Когда ему с этим делом возиться!
– Чую я, Петька. Есть у него эта думка в голове. Побай с ним, намекни.
– Намекну, – обещался я. – Но я тебя, мать, не пойму. То меня собиралась женить – не вышло, теперь Мишу. Плохо, что ль, с холостыми сынами?
Мать вдруг расплакалась, да какими горючими слезами!
– Что ты, что – ты? – встревожился я. – О чем? Какая ему жена, раз он на войне? Нынче в штабе, а завтра в штыки.
Еще что‑то говорил я матери, но она, видимо, не слушала меня и продолжала плакать. Что у нашей матери на сердце? Слишком много хватила она с нами горя.
– Кончится война, все женимся, – утешаю ее. – Нагоним тебе снох целое стадо.
Наверное, я угодил ей. Она начала всхлипывать:
– Хочу я, сынок, пока жива… как все люди. Какая же я мать – ни одного из вас не женила. От людей стыдно.
И я понял ее, понял ее горе. Мы – ее дети. Нас шесть сыновей. Из них четыре взрослых. И никто не женат. Какое ей дело, что война? И я снова говорю утешая:
– Мамка, никто тебя осуждать не будет.
Она перестала плакать и сердитым голосом произнесла:
– Поговори с Мишей.
Я еще раз успокоил мать и решил как‑нибудь поделикатней поговорить с братом. Что‑то он скажет?
Народ бывал у нас почти каждый день, а вечерами особенно. Больше всего – солдатки. Каждая полагала, что Миша обязательно где‑нибудь встречал ее мужа или по крайней мере знает, где он.
Пришла солдатка Маша. Тоже спросила о своем Ефиме, а украдкой шепнула мне, чтобы я зашел к девкам «почудить».
В один из вечеров, когда в избе никого из чужих не было, я, хоть и чувствуя, что неловко оставлять Мишу одного, стал собираться на посиделки. Мать, которая давно не спрашивала, куда я ухожу, как нарочно, спросила:
– Далеко ли, солдат?
– Прохладиться, – говорю ей.
– На улицу, што ль?
Это спросил Миша. Я даже вздрогнул. В его тихом голосе послышались мне тоска, одиночество.
– Я, Миша, на часок. Солдатка Маша просила написать письмо ее мужу. Ну, там девки у нее. Словом, посиделки.
И шутя предложил ему:
– А хошь, пройдемся? Девок поглядишь.
Никак не ожидал, что брат так быстро согласится.
– Что ж, пойдем!
Невольно посмотрел я на мать. У нее торжествующее лицо. И еще моргает мне, видимо намекает на тот разговор с ней. Я киваю головой.
Миша уже облачается в свою форму, да так, словно ему скомандовали в поход.
Скоро скрип наших сапог четко раздается в морозной тиши. Искоса поглядываю на брата. От лунного света искрятся его погоны. Словно по кусочку льда с изморозью положили ему на плечи. Некоторое время шли молча. Первым заговорил он.
– У тебя что, присуха там есть?
Я ответил, что присуха была, да дело рассохлось, и что теперь у меня есть настоящая присуха, но не в своем селе. И я подробно рассказал брату о встрече с Леной. Дослушав меня, он воскликнул:
– У тебя же настоящая любовь!
– Как видно, Миша.
– Так чего же… – Он даже приостановился и сказал твердо: – Сватай и женись!
– Видишь ли, Миша, – решил я отшутиться, – в солдатах я привык рассчитываться по порядку номеров. А у меня с правого фланга двое.
– Кто?
– Номер первый ты, второй – Захар.
Миша замолчал. И тут‑то я догадался: как раз подходящий момент спросить его, выполнить просьбу матери.
– Не только девки должны блюсти – младшей не выходить раньше старшей, но и мы. И я до тех пор не женюсь, пока ты не откроешь мне дорогу. Ведь ты‑то когда‑нибудь женишься?
– Конечно.
– Только не на деревенской, наверно?
– Почему? – изумился он.
– Ах, та–ак? – подхватил я, чувствуя, как щеки мои запылали. – Миша, брат, в чем же дело? Давай, я тебе такую девку подберу, век будешь спасибо говорить.
– Давай, – сказал он.
Помолчав, я уже серьезно спросил:
– Ты… в самом деле?
– Видишь ли, я думал об этом… А раз такой разговор зашел, скажу. Мне скоро тридцать. Я все ждал, вот–вот наступит время, когда мне доведется спокойно пожить, семейно, как всем. Но где конец ожиданью? Рассудим здраво: женитьба, будут дети. Их надо вырастить. Когда же я буду растить их?
Миша обстоятельно говорил о том, что ему необходимо жениться, но ни разу не упомянул о любви. Любил ли он когда‑нибудь? А может быть… тоже некогда было!
– Я понял тебя, Миша. Верно все, что ты говоришь. Но как же так, сразу? Ведь надо сначала влюбиться или хоть человека узнать…








