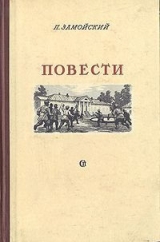
Текст книги "Повести"
Автор книги: Петр Замойский
Жанры:
Советская классическая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 24 (всего у книги 40 страниц)
– Кушайте яблоки, – ввела она меня в небольшой сарайчик. В нем тихо, уютно, стоит убранная кроватка. Окошечко с разноцветными стеклами.
Мне очень хочется яблок, так бы и набросился, но ем медленно, будто яблоки мне не в диво и уже оскомину набили. А она, схватившись за Купера, даже забыла показать мне свои книги.
– Соня, я пойду.
– Чего вдруг? – подняла она на меня голубые испуганные глаза.
– Придет ваш папа, скажет: что это за солдат у моей дочери? Люди увидят, гадость какую‑нибудь выдумают про вас.
– Какую гадость? Не понимаю, что вы говорите.
– Ну, поймите же: вы – девушка образованная, а я кто? Солдат, парень, мужик. Словом, я вам, как это сказать, – некстати.
– Э–э, ерунда. И вы поймите, что мне поговорить не с кем. Подруг у меня нет. Есть тут одна девка, да совсем неграмотная. Хочу ее грамоте обучить.
Вдруг погрозила пальцем и прищурилась.
– А что она мне про вас говорила…
– Что, что? – заранее покраснел я.
– Вот и не скажу. Ничего не скажу… Или после. Знаете что? У папы есть работа. Метрики переписывать. Копии снимать. Я ему посоветовала дать вам. Перепишете?
– Что ж, метрики, так метрики. Писать я могу. Живых там и мертвых. А сейчас идти надо… Нет, нет, Сопя, в другой раз приду, – обещаю ей, видя, как опечалилась она.
«Зачем я ей? – думаю, идя к себе в мазанку. – Скуки ради?»
9Старательно вывожу фамилии, имена и годы рождения своих односельчан в книге метрик. На особом листочке записываю время рождения некоторых знакомых девок.
Переписывал я чисто. Почерк легкий, чуть–чуть с завитушками в заглавных буквах.
Дьякон очень доволен моей работой. Платит мне по семьдесят копеек в день. Работы хватит недели на две.
Мать гадает, что она мне купит на базаре за эти деньги. Особенно довольна моей работой Соня. Сказала, что мой почерк лучше, чем ее, и что я угодил дьякону.
Однажды перед вечером, когда я, не торопясь, переписывал прихожан деревни Тучино, ко мне вбежал Илюшка и едва не опрокинул чернильницу на метрики.
– Что тебя, собаки рвали? – испугался я, схватив чернильницу.
– Бросай, пойдем, – прошептал он.
– Куда пойдем?
Плюха всплеснул руками, горестно сморщил лицо и в изнеможении произнес:
– Э–эх! Козулю завтра сватать приедут!
Е)он какое дело‑то! Черт его привязал к этой Козуле! Есть девки получше, посмирнее. Что его волнует? Мельница? Но и та у них пополам с Дериными. Дурак, Илюха, больше ничего.
А не пойти ли и впрямь? Промяться, язык почесать, на людей посмотреть! Ради потехи. Правда, щекотливая штука – сватать! Да еще самим парням. Но… мы же солдаты!
– Что ж, пойдем! – говорю я и закрываю книгу.
Как он обрадовался! На глазах у него слезы выступили.
– Верно ли, что ее кто‑то сватать хочет? – спросил я, когда уже вышли.
– Из Пунцовки. Отрубники, богачи. Три участка земли куплено. Парень на службе еще не был.
Ну, наговорил на свою голову. Куда же с такими тягаться! Чем прельстит невесту хромой идол? Чубом, что ль? Опять гвоздем завил.
– Ничего, – все же решаю утешить Илью, – тот еще молокосос, это раз; Пунцовка – деревня, и там Козуле будет скучно, это два; в своем селе, когда захочешь, и к матери сходишь, это три.
Илюха расцвел. Такие резоны, видимо, ему самому в голову не приходили.
– Эка, ты говоришь‑то как!.. Давай огородной межой. К тетке забежим, хлебанем для смелости!
Тетка его, Степанида, жила недалеко от Козулиных. Когда в избу ввалились два инвалида – хромой да безрукий, – тетка цедила молоко.
– Здорово! – громко и бойко поздоровался Илюха.
– Ох, батюшки, Илюшенька пришел! Кто там с тобой?
Илюха отрекомендовал. И на это тетка охнула.
– Ох, знаю, Аришкин сын.
– И дяди Ивана, – добавил Илюха.
– Ох, знамо, не чужой, – согласилась Степанида. – Молочка парного не хотите ли?
– Нам бы не этого, а от бешеной коровки.
Тут Илюшка прищелкнул пальцами. Окончив цедить, тетка вздохнула, охнула и понесла горшки в погреб. Становилось уже темно. В окно видно было, как наплывала тяжелая, черная дождевая туча. Далеко гудел гром. По дороге проезжали то порожняком, то с возами проса. Что‑то долго пропадала тетка в погребе.
Мы сидели молча. Мне хотелось уйти. Ну его с этим сватовством! Себя сконфузишь. Но какой‑то бес подмывал меня. По правде сказать, и Илюшку было жаль: хоть и дурной, а все же товарищ.
Вошла тетка, снова охнула, поставила на стол черепушку с малосольными огурцами, бутылку самогона, взяла остальные два горшка с молоком и ушла. Илюха принялся хозяйничать. Нашел хлеб, две чайные чашки, налил самогонки. Оглянувшись на окна, быстро выпили. Какие замечательные огурцы! Тут и укроп чувствуется, и мятная трава, и еще что‑то!
Илюшка еще наливает, но у меня уже слегка кружится голова, и я отказываюсь.
– Язык будет заплетаться, Илюша, – говорю. – Дело у нас с тобой не выйдет.
Он опечален. Ему хочется еще выпить для храбрости.
– Боишься, друг? – спрашиваю.
– Да, немножко того.
– Ну, выпьем, только не по всей. Тетке оставь.
Как раз она и вошла. Зажгла лампу, посмотрела па нас, охнула и села на лавку.
– Давай за стол, тетка, – говорю я, повеселев. – Ты не догадываешься, зачем мы пришли? Говорить, что ль, Илья?
Но он сам заговорил.
– Тетка, родная, – начал он, и тут я заметил, как охмелел мой хромой друг.
– Илюша, сразу говори все, – подтолкнул я его. – Тетка, она, как мать родная, поймет. Если, конечно, хорошая тетка.
Я поднес ей полчашки самогона, она взяла, охнула и, сказав: «Дай бог удачи», выпила.
– Догадалась, что ль? – спросил я ее.
– А то нет? – подмигнула она на Илью.
– Как, советуешь?
– Чем черт не шутит, – сказала тетка. – Не отдадут, другую найдем. Мне идти с вами?
– Обязательно! – воскликнул я. – Сам хотел тебя об этом просить, но ты умная. Сейчас пойдем.
– Чуток погодим. Они только–только ужинать сели.
Все знает тетка. Видимо, когда за самогоном ходила, подглядела.
– Василий‑то весе–елый, – сказала тетка, – корову ялову на базаре чужому мужику за стельную всучил. А чего мужики понимают в коровах?
– Зато в девках понимают, – совсем ни к чему вставил охмелевший Илюшка и рассмеялся.
– О–о-ох! – вздохнула тетка. – В девках! Куда вам! Любая девка вокруг пальца вас обведет, а баба и подавно. Мы, бабы, хитрые! Не мытьем, так катаньем возьмем.
Тогда я решил спросить тетку о Козуле. Как‑никак, дело‑то серьезное.
– Скажи, тетка, правду: Таня Козуля какова?
– Нарядов у нее много, – сказала тетка. – Сама работящая. Только горяча. С матерью при всех ругается.
– Люблю боевых, – не умолчал Илюшка, и глаза его заблестели. – Тетка, собирайся.
Пока тетка ходила в мазанку, я снова уговаривал Илью, чтобы одумался, приглядел бы другую, а не эту – из богатого дома. Но все напрасно.
Навстречу тетке шла сноха. Возле крыльца они пошептались. Сноха крикнула девчонку, что‑то сказала ей. Девчонка опрометью бросилась бежать. Снова тетка начала шептаться со снохой и вздыхать, а та сдержанно и озоровато смеялась. Девчонка прибежала быстро и с разбегу крикнула:
– Поужинали! Дядь Василий хомут чинит, тетка Маланья по избе ходит.
Значит, девчонка бегала на разведку.
– Ну, ребята, – сказала тетка, войдя, – чуток погодите, я пока одна пойду. Немного погодя и вы…
– Сосватает? – спросил меня Илюшка, когда тетка ушла.
– Наступление ведем верно, – говорю. – Сперва разведка, потом авангардом тетка, и вот уже мы, пехота инвалидов, – храбрюсь я, а самого тоже дрожь берет. Задал же мне хромой бес задачу!
Кажется, прошло порядочно времени. Не пора ли? Знать бы, как там дела у тетки. Может, идти нам не следует. А может, как раз самая пора?
– Пошли, брат Илюха!
– Дай бог, пошли! – испуганно произнес он.
На улице совсем темно. Ходят девки и парни, поют песни. Громко кричат, перекликаясь, звенят гармоники. Мы идем тихо, чтобы нас не заметили.
Навстречу гурьба девок. Протяжно и однообразно поют они припевы. Вон на бревнах сидят две девки. Мы проходим мимо. Вдруг девки встали, забежали нам вперед, о чем‑то пошептались и теперь идут навстречу. Не успел я опомниться, как одна из них крикнула:
. – Илюхан хро–мой!
Обе взвизгнули и убежали.
Это и была Козуля со своей подругой Нюркой. Ноги у меня отяжелели. Явная насмешка прозвучала в голосе Козули. Но Илюха, откашлявшись, довольно заявил:
– Сразу узнала меня, черт. Слыхал?
– Ну да, слыхал.
– Говорит, Илюхан… мой. Любит она меня.
– Еще как, – соглашаюсь я. – Души в тебе не чает.
Вот дом Козулиного отца. Он состоит из трех изб и называется «семистенник». В детстве, побираясь по селам, я всегда испытывал страх перед такими домами. Еще тогда я убедился, что самые скупые, черствые и жестокие люди, к тому же еще и насмешники, живут в таких вот домах. И теперь если не со страхом, то с робостью подхожу к этой крытой тесом трехизбяной махине, построенной глаголем. Три брата Козулины живут нераздельно. Во главе у них старик, сухой, с удивительно курчавой седой бородой. Он – член церковного совета.
Во всех избах горел огонь. Значит, все в сборе. Я уже подумывал, как бы наскоро отговорить Илюшку, но бесполезно. Будь, что будет – не съедят.
И мы открываем дверь. Сени между двух изб широкие. Еще с улицы я заметил, в какой избе народ, и поэтому, чтобы скорее перебороть охватившую меня робость, открываю дверь в эту избу.
В ней много народу, и тетка тут сидит в простенке. Лицо у Нее невеселое. Озорное чувство, смешанное с отчаянностью, охватывает меня. Так бывает, когда бросаешься в холодную воду. Снимаю фуражку, усердно молюсь на богатый иконостас. Икон там – не перечесть сколько. Илюшка тоже молится и сопит.
– Здравствуйте, добрые хозяева, – громко говорю я и добавляю по–городскому: – Добрый вечер!
– Здравствуйте, – весело отвечает мне сноха.
Остальные пытливо, насмешливо, с недоумением уставились на нас, двух вояк.
– Прекрасная погода, – говорю я, а сам думаю: с чего же начать‑то?
– Погода? – переспрашивает сноха и хохочет. – Когда погода, тогда снег.
– Это неверно. В городе погодой называют вёдро. Мы – дождь. А снег есть снег. Про снег так говорят: ох, какая снежная погода. А у нас в деревне погода – снег.
– Ничего не поймешь: снег, дожжик, погода.
– Тут и понимать не надо, Марья Ильинична, – называю я ее по отчеству, хотя в семье зовут ее – кто Марьей, кто Машкой. – Просто и обыкновенно.
Болтаю, а глазами ищу хозяина. Отец Козули преспокойно сидит возле голландки, перед ним хомут. Он чинит его. Так, так, начнем с него.
– Василию Афанасьевичу бог помочь! – подхожу я к нему и протягиваю руку. – Пореже чинить, побольше носить. Чтобы не рвалось, не трепалось, чужим людям не давалось.
И он дает мне руку, пахнущую дегтем. На лице его – сдержанная улыбка. Бабы засмеялись. Вон и Меланья стоит у шкафа, сложив на груди руки. Она сухощава, Глаза у нее злые, зеленые, а нос совсем острый. Козуля в мать. Я иду к ней смело. Слышу, как сзади меня Илья пробормотал Василию: «Здорово!»
– Тетке Меланье два короба добра, три бочки серебра, полстада коров, восемнадцать бобров и тысячу рублев!
– Эх–те, черти! – расплылась в улыбке и эта хмурая баба. – Полстада. Куда мне? Грешно столько!
– Не бойся за грехи, найми меня в пастухи. Житель я местный, пастух известный.
– Заставишь тебя нынче пасти. Ишь, говорун какой. Научился в городу.
– Не в городу, а так написано на роду. Басни сочинять, людей потешать, чтобы смех был и грех был. Я, тетка Меланья, человек простого званья. Станет невмоготу, брошу колготу.
Совсем им смешно. А сноха чуть на кровать не упала. И муж ее, Петр, хохочет, и тетка Илюшкина повеселела, и еще какие‑то две бабы. А надо поздороваться со всеми, пока кипит у меня в сердце, пока складные слова лезут в голову.
Иду к Петру. Фуражку держу на левой руке и боюсь – вот–вот она упадет, а я не хочу показывать свою руку. На Илюшку уже не обращаю внимания. Пусть его, как умеет, здоровается.
– Петру Васильичу, лучшему косцу в нашем селе. О таких говорят: он и косец, и жнец, и в дуду игрец. Доброта сердца, могучая сила да еще жена такая милая. Так, что ль, Петр Васильич, первый силач во всей волости?
– А пущай и так, – соглашается он и до того жмет мою руку, что в глазах у меня темнеет.
– Спасибо, – говорю я и машу побелевшими пальцами. – Здравствуй, прекрасная супруга, мужу подруга, Мария Ильинична. Цвет сиреневый, алая, как вишня, спаси тебя всевышний. Не будь ты весела да на язык остра, не видать бы тебе Васильича Петра. Что муж и жена – партия равна. Жить вам, поживать, сеять хлеб, пожинать, богатство умножать, в церковь ходить, бога молить, мясо есть, самогон пить и веселыми быть!
Сноха совсем задохнулась от смеха. Она действительно была смешлива. Да и все хохотали. Даже дурак Илюшка, для которого я и стараюсь, и он гогочет. На шум и смех из кухни, отворив дверь, идет сам старик Афанасий. Я немного оробел. Как‑то ему покажется мое шутовство? Человек он набожный, скажет слово – сразу срежет. Эге, а черта ли мне бояться? Иду к нему бравой, солдатской походкой, широко улыбаясь, и протягиваю руку.
– Здравствуй, милый дед, чуть постарше моих лет. Верно, праведным людям бог жизнь продляет, скверным убавляет. В одном псалме царь Давид на гуслях говорит: «И даже до старости и престарения, боже мой, не оставь меня, пока не возвещу силу твою роду грядущему». О тебе это, дед. Псалтырь я знаю наизусть. Могу по–славянски и по–русски. И по тебе, дед, буду читать, но только лет через семьдесят пять.
– Смышленый ты! – крякнул старик. – В кого бы?
Вон как повернул. Выходит, родители у меня дураки. Но я не обижаюсь. Не для себя же, для друга разыгрываю.
– От святого писания, деда. Оно уму–разуму учит.
– Начитан. И отец твой начитан. Писарем ты будешь, – изрек он, к моему удивлению, – волостным! А этот чей такой? – указал он на Илюшку, проходя к столу.
Тут‑то и взялась тетка Степанида.
– Племянник мой, Давыда Мартынова сынок. Раненый пришел, вчистую.
– А–а, – протянул дед, – на супостатов ходил. Убил хоть одного? – обратился он к Илье.
– За горой не видать… Стреляли, – пробормотал Илья, не зная, что ответить старику.
– Врушную, как? – заинтересовался дед.
– И врушную было, – опять неохотно ответил Илья.
Он ждал, когда же мы начнем сватовство. Я сел рядом с теткой и в упор посмотрел на нее. Она поняла меня и чуть заметно поджала губы. Я догадался, что со сватовством у нее ничего не вышло. Это видно и по лицам Козулиных, особенно матери, которая все еще стояла около шкафа. Видно, мне вплотную надо браться. Но с чего начать?
– Повоевали, дедушка, – обратился я к старику, – горячо приходилось. Мой друг, Илья, скромный, хвастать не любит, а допытайтесь: сколько раз он в атаку ходил? Нет, он сам не скажет, вот я за него скажу. Говорить, что ль, Илья? Эх, краснеешь, как девка! Ну, ругай меня после, а я все равно скажу. Илья, братцы, человек отчаянный. Одиннадцать раз в штыковых боях сражался. Если бы не был он тихим да стыдливым, три «Георгия» звенели бы у него на груди. Ротного из огня вынес, человек двадцать пять пленных захватил. В разведку ходил по своей охоте, а не по наряду. Диву даюсь, как он жив остался, и зло меня берет, почему он такой скромный. Это не человек, а буря в стоячих водах! – воскликнул я со всем ни к чему. – А характер у него веселый, хитрости с наперсток нет. Вернулись мы, он сразу за хозяйство. Успел избу оштукатурить, сбрую починить, сапожному ремеслу за три дня выучился. К домашности у него бо–ольшая прилежность!
– Это хорошо, – проговорил дед, посмотрев на моего хромого друга, у которого чуб закрыл весь лоб.
– О–ох, золотой человек Илюшенька наш, – подхватила тетка, – весь в отца. И невесту, о–ох, золотую бы ему.
– Дядя Василий, что молчишь? – сразу обратился я к хозяину. – Говори! И ты, тетка Меланья…
– Говорили, – промолвила Меланья.
– А я не слыхал. За кого другого совести не хватило бы прийти к вам, а за друга ручаюсь. Это будет такой зять, какого в трех губерниях не сыскать.
Наконец‑то я выговорил. Снова дрожь прохватила меня. Что‑то они на это скажут? Лица каменные. Только сноха все еще тихонько усмехается, но ведь она такая смешливая по натуре. Василий колол шилом в шлею, дратву держал в зубах, Меланья села на лавку, а Степанида завела глаза под лоб.
– Дядя Василий, бросай шлею, давай наденем хомут на Илью.
– Как мать хочет, – кивнул он на Меланью. – Бабам виднее. Говорили тут.
– Еще поговорим, – догадался я, какой у них тут был разговор. – Это дело сурьезное, и можно сказать, по гроб жизни. Давайте со всех сторон, без ошибки. Илье очень нравится… – чуть не сказал я «Козуля», не запнулся, – по уши влюбился в вашу Таньку. И она его, ей–богу… Сейчас шли к вам, они с Нюркой навстречу. Танька и шепчет Нюрке: «Глянь, Илюха мой идет!» – И голос у нее ласковый. Ей–богу, хороша будет пара.
Говорю–говорю, а сам думаю: какие же еще доблести найти в моем друге? Может, пенсией их прельстить?
За окном внезапно блеснула молния, раскатисто грянул гром. Подул ветер, зашумел ветлами.
– Дождь! – сказал дед. – На току все прибрано?
– Все, – спокойно ответил Василий.
Разговор сам собой перешел на хозяйство. Про нас как будто забыли. Я взглянул на Илюшку. Он совсем понурил голову.
– Таньке пора бы домой, – проговорила Меланья, взглянув в окно. – И самим спать.
Хотя это было намеком, чтобы мы уходили, но я сделал вид, будто не понял. Выждав еще немного, я громко, уже без шуток, но с робостью в голосе спросил:
– Что ж, давайте говорить прямо. Дело добровольное, сердечное. Илья, вот он, весь тут, дочь вашу вы знаете. Конечно, вы богаче, чем Илья, да дело не в богатстве. Говорите – и запой. Свадьбу хоть на престольный праздник, хоть на Покров. Да или нет? Давайте нам ответ.
Тогда Василий отложил шлею. Вопрос был поставлен всерьез. Свернув цыгарку, он закурил, подумал, взглянул на Меланью и, нахмурив брови, ответил так:
– Не можем мы о свадьбе думать в такое время. Народ гонят и гонят. Чем кончится, бог знает. И девка у нас не думает о замужестве. Пусть погуляет. Какая теперь свадьба, если нет ничего? Перед гостями стыд. Петра вон тревожат в город. Видать, тоже возьмут. Кто работать будет? Мать прихварывает. Дед не работник. Нет, сваты, не обессудьте, – заключил Василий.
– А ты, тетка Меланья, что скажешь? – обратился я к ней, догадавшись, что дело тут решенное. Все, о чем говорил Василий, пустяки. Просто не хотят за Илью отдать.
– Я мужу не перечу. Сама я больная, за ребятами ходить некому. Погодим со свадьбой.
Но мне все же не хотелось, чтобы нам так прямо отказали. Больше всего я обиделся за самого себя. Будто не Илье отказали, а мне. Илюшка молчал. Что он мог в таком случае сказать?
– Может, еще подумаете? – говорю я.
– Подумать? – переспросил Василий. – Что же, подумать всегда можно.
Дед тоже молчал. Умный старик. Впрочем, какое ему дело!
– Дождь, кажись, перестал? – взглянул я в окно. – Ну, Илья, и ты, тетка Степанида, пойдемте: Такое дело сразу не делается. А время, верно, горячее. До свиданья, хозяева. Надумаете, дадите знать.
Вперед пошел Илюшка, за ним тетка, а потом я. Лицо мое горело от стыда.
– Заходи покалякать, забавник! – крикнул мне дед.
– Обязательно зайду. Будь здоров.
Вышедшая вслед за мною в сени сноха дотронулась до моего плеча и в темноте прошептала:
– Больше не ходи сватать за него. Не отдадут.
– Я ему говорил, – тихо ответил я снохе. – Привязался, черт: иди да иди.
У мазанки догнал Илью. Он хромал еще сильнее. Я ударил его по плечу и с горечью, со злобой спросил:
– Кому же ты башмаки‑то чинил, дурак хромой?
Ничего Илюха не ответил.
…Места не нахожу себе. Такая тоска. Пойти бы, что ль, куда? Ванька все еще в больнице, Павлушки нет, Филя Долгий не такой уж близкий товарищ, а Илюха? С ним, кроме как о девках, и говорить не о чем. По правде говоря, я был рад, что так случилось у Козулиных.
Мать, видя мою грусть, нет–нет, да и посмотрит на меня. И так посмотрит, что сердце сжимается от боли. Она жалеет меня молча.
Отправился в поле. Побывал в Варюшином овраге, межами и отрубными участками прошел к лесу – Дубровкам. Как знакомы все эти места! Сколько раз шагал я тут за стадом, сколько избил лаптей! Давно это было и будто вчера. Вот степь… Где степь? Нет ее! Она разрезана на участки. Раскуплена, распахана, заселена хуторами. И Дубровки не те. Тоже разрезаны, куплены богатыми мужиками, спилены па дрова. Глядеть страшно, как изуродован лес. Все, что раньше заслонялось дубами, теперь оголено. Кое–где маячат невесть почему оставленные дуб или осина.
Лишь у кромки леса нашел я небольшую полянку степи с засохшей травой. Сюда мы пригоняли коров на утреннюю лежку. А вон моя «печурка», где когда‑то хранил я свои книги и тетради. Она совсем обвалилась.
Теперь и стадо не то. Отрубники пасут отдельно, общинники особо. Все пошло в разные стороны. Раскололись мужики. Отрубники, участники, общинники. Вон торчат по полям хутора. Скучно смотреть на них. Какая тоска жить одиноко! А что тут зимой? Выйти некуда. Вместо соседей – поля, занесенные непролазным снегом. Все сидят дома, ребятишки растут неучами. Дичает народ, волки друг другу.
Возвращаясь, я решил заглянуть к Ванькиной матери, навестить ее, узнать, что слышно о Ваньке.
– Здравствуй, тетка Матрена, – вошел я в избу.
– Вот спасибо‑то, Петя пришел. От Вани весточку привезли.
В коротенькой записке полуграмотно, – едва–едва понять, – Ванька сообщал, что ему «чуток полехше», только голосом ослаб и «по суставам» тоже ослаб. «А вопче ничаво»… Это «вопче ничаво» мать‑то и обрадовало.
– Выздоровеет, – говорю я Матрене, – скоро увидим его. Поеду на комиссию, зайду к нему.
– К нам‑то что редко стал заходить? Аль без Ваньки не к кому?
– Оно и так. Да все некогда. Тоска вот какая‑то напала на меня.
– Тоска–а? – удивилась Матрена. – Ой, сынок родимый, аль ты вдова, аль безродная сирота?
Матрена задумалась. Чудно! Молодой солдат, парень, и вдруг тоска.
– От безделья, Петя, она у тебя.
– Сам не знаю, тетка.
Она села рядом, пристально посмотрела на меня. И я только сейчас, вблизи, рассмотрел ее глаза и лицо. Красивая, видно, была в девках. Черты лица правильные, глаза яркие, чистые. И что‑то нежное, материнское, во взгляде.
– Эх, Петенька, таких молодых вас и покалечило.
Мне горько стало от ее слов, но я шутливо отвечаю:
– За веру, царя и отечество.
– Не надо бы вам воевать.
– Как не надо? – удивился я.
– Эдак. Бросить ружьишки и уйти.
– Нельзя, тетка Матрена. Тогда неприятель всю Россию заберет. Мы будем, как в плену. Или думаешь – немецкий помещик добрей нашего?
– Оно и теперь, сынок, не лучше.
– Ой, тетка Матрена, гляди, при людях так не скажи. До урядника дойдет.
– Ничего я не боюсь. А вера наша, – продолжала Матрена, – вера никому не нужна. Те по–своему лоб крестят, мы по–своему.
– А царь? – тихо спрашиваю я.
Матрена вздохнула и как бы сама себе ответила:
– Что ж царь? Пущай его, коль добрый.
– Царь, верно, добрый у нас, – сказал я и пытливо посмотрел на Матрену. – Только бог смерти ему не дает. А давно бы пора на осине его повесить.
Матрена даже отшатнулась от меня – и моими же словами:
– Петя, при чужих людях так не говори. Дойдет до урядника.
– Спасибо. На фронте у нас такая загадка ходила: пьяница Николашка, шпионка Сашка, Распутин Гришка, – чей это домишко? Отвечали: царский.
Матрена рассмеялась. Принесла молока, налила.
– Пей, сынок.
– Ты что меня все «сынок да сынок»? – смеюсь я.
– По Ване тебя так. Вы как родные братья. Стадо вместе пасли, в трактире служили вместе, на войне вместе и опять вот…
Еще хотела что‑то сказать она, но в это время мимо окон мелькнула огромная тень. Скоро в сенях послышались шаги, открылась дверь. Такого гостя никто не ожидал. Он вошел, нехотя помолился, сквозь зубы поздоровался. Матрена тихо ответила и прижалась к печке. Она так испугалась, будто к ней пришел разбойник. Это был Николай, старший сын Гагары.
– Матрена, – густым басом начал он, не отходя от порога, – что рожь не ведете?
– Пригонит мужик стадо, скахсу ему.
– Выходит: дал руками, ходи ногами?
– Может, подождете, Николай? – мертвым голосом спросила Матрена.
– Говорить зря нечего. Нынче же везите две четверти.
– Небось не всю сразу… Постой, постой, это какие же две четверти? За работу мою и девкину разь нет скостки?
– Муж твой знает. Не ты брала, не ты и отдашь. Что ж, думаете, баш на баш? А за подожданье?
– Вона! Да мы ведь дней десять аль больше работали вам. По полтиннику, само дешево клади, и то пятерку сбросить. У нас и ржи‑то не ахти… До нови куда не хватит. А ранетый Ванька? Ему кой‑что надо справить. Покормить его надо…
Вспомнив про раненого сына, Матрена осмелела. Но Николай не слушал ее и не смотрел ни на кого. Зато я в упор уставился на его огромную рыжую бороду. Как похож он на своего отца, страшного Гагару!
– Ранетыми нынче хоть пруд пруди, – наконец‑то сказал он безразличным голосом.
– Чай, пожалеть надо. Не на своем деле пострадали они, за веру.
– Все страдаем за веру, – опять проговорил Николай, – только долги платить надо.
Это меня взорвало: «Все страдаем за веру!»
– Которые не страдают, дома сидят, – сдержанно заметил я.
– Кто сидит? – взглянул он на меня.
– Разные, которые похитрее, побогаче…
– Про Макарку намек?
– Я не виноват, если сам отец догадался.
Лицо Николая покрылось пятнами. Конечно, мой намек не первый для него. Все знают, почему Ма–карка, наш сверстник, здоровый парень, все время ходит «льготным». Воинский начальник не брезгует ни деньгами, ни мясом, ни пшеничной мукой.
– Макарка рад бы идти, да не берут.
– Что у него – грыжа?
– Камень в печенке, – сказал Николай.
– Ого, камень в печенке! – усмехнулся я. – У многих в печенках и в селезенках по пяти фунтов свинцу набито и то воюют. У одного – осколок снаряда так и зарос в бедре, а его опять на фронт. Нет, кому другому говори, только не нам. Уж мы‑то нюхали порох.
– Ваше дело нюхать… Кому‑нибудь надо воевать.
Тут зло совсем меня взяло, и я почти закричал:
– Да, да, кому‑нибудь надо, только не вам! А за что мы воевали? За что калеками остались? Твой Макар с камнем сидит в тепле, сыт, вшей не кормит. Работает, как черт. И есть на чем работать, – у него земля и руки–иоги целы. А мы к чему руки приложим? Хотя бы вот эту одну? – показываю ему здоровую руку. – Где для нас земля? Всю вы ее распахали, отрезали себе. А мы, выходит, воюй за нее, защищай, чтобы от вас кто не отобрал. Здорово рассудил! Умник нашелся… Вам земля, а нам война? И вот тут еще нас грабите. Те же помещики, а то и похуже. Недаром в шестом году, когда мужики к барыне за хлебом тронулись, ты ее упреждать поскакал. Одной вы крови.
– Про тебя тоже кое‑что знаю. Отца жалею, а то бы давно уряднику шепнул.
– Шепни, шепни. Только гляди, как бы опять не завернуло, да покрепче. Мы с фронтов пришли злые, остервенелые. Мы видали смерть…
Я уже встал, лицо мое горело, я весь дрожал. Так и хотелось броситься на него, схватить здоровой рукой за бороду, трясти эту громадину, которую, конечно, не осилю.
– С твоего отца тоже десять мер.
– Десять дыр он тебе отдаст!.. Ты лучше, – прямо говорю, – лучше ты не ходи по инвалидам, не тревожь их. Обеднять не обедняете, но горя с нами наживете.
– Угрозы?
– Нет, молитвы за упокой ваших душ… Мы за вас, гадов толстопузых, головы клали, рук–ног лишались, кровь лили, мозгами брызгали, а вы тут – как пауки. Подожди, скоро придет время… Скоро. Запомни это, а дверь тебе вон!
Ни слова больше не сказав, Николай вышел. Тень его снова метнулась мимо окон.
– Гляди‑ка, черт принес, – промолвила Матрена. – Пей, про молоко забыл.
Но меня так трясло, что зуб на зуб не попадал. Будь при мне винтовка, я, не задумываясь, всадил бы ему штык в широкую грудь. Нет, теперь он не бросится ни на кого из нас, инвалидов. За пять дворов будет обходить наши избы.
– Вот кто настоящий враг, тетка Матрена И внешний и внутренний сразу, будь он проклят!
Она подлила еще молока, и зубы мои стучала о край кружки.








