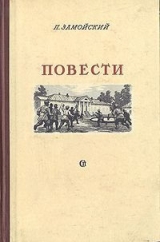
Текст книги "Повести"
Автор книги: Петр Замойский
Жанры:
Советская классическая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 26 (всего у книги 40 страниц)
Кто‑то оторвал меня от Насти, закружил. Это соседка Гагары, солдатка Фрося, старше меня лет на пять. Она румяная, крупная, жмет меня к себе, и я уже рад бы отвязаться, но не могу. Что‑то шепчет мне в ухо, и я ей шепчу, сам горя от стыда и от близкого тела ее…
«Все так хорошо, – думаю я. – Да–да, женюсь на своей чернобровой Насте!»
Танцуя, вижу, как среди народа ходит старик Гагара, рослый, могучий. Он ходит, чуть согнувшись, этот владыка нашего села. А Насти все не вижу. Не в той ли избе? Я говорю Фросе, что устал, и отхожу в сторону, к углу. И вот тут‑то, в углу, сквозь дым и пьяный туман в глазах вижу Настю… Сердце мое замерло. Они сидят с Макаркой в обнимку, они не видят меня. Макарка шепчет ей что‑то, она целует его, гладит по щеке, и света для них нет, и людей для них нет…
Схватив фуражку, я крепко нахлобучил ее на голову. И долго еще неслись мне вслед звуки гармоники, топот и взвизги женщин.
…Венчалось десять пар. Из женихов пять – инвалиды. Свадебные поезда прибыли к церкви не сразу. Первый поезд примчал Ваньку Павлова, за ним приехал Филя Долгий, затем пунцовский жених, который сосватал‑таки Козулю; следующим – Илюха с дочерью знаменитого вора Палагина из деревни Тучино; потом – контуженный Сергей Зятев, припадочный Захар Макаров, совсем еще мальчик, Никита Цырьков и Другие.
Видимо, по порядку записи сторож расставил венчающихся в две шеренги: пять пар вперед, пять сзади. Но какое совпадение! Первой парой стояли Ванька Павлов с Катькой, второй – Филя с невестой, третьей – пунцовский парень с Козулей, за ними Илья. И вышло, что бок о бок с Филей, по правую сторону, стояла Катька, бывшая его невеста, а рядом с Ильей стояла Козуля. Когда священник начал, как и полагалось перед венчаньем, опрос женихов и невест, по согласию ли они женятся, Филя рядом с собой из‑под вуали услышал очень знакомый ему шепот: «По согласью». Он вздрогнул. До этого ему, видимо, было невдомек, кто там с ним рядом – ведь правый глаз его остался на войне. Он резко повернулся, взглянул левым глазом, увидел Ваньку и побледнел. Когда священник, ничего не подозревая, обратился к Филе с таким же вопросом, Филя не шепотом, а громко заявил:
– Батюшка, в строю непорядок!
Сначала священник, не поняв, в чем дело, отшатнулся, даже испугался, потом тихо осведомился:
– Что, Филипп, сказать хочешь?
Филя молча сделал два шага вперед, приложил ногу к ноге и так круто сделал кру–угом, что батюшка отвернул в сторону, едва не ударившись о подсвечник. Народ в церкви замер. Филя и до фронта был отчаянный, а теперь… Избил урядника на базаре, и до сих пор ему ничего за это не было. При общем молчании Филя зорко осмотрел свой «взвод». Его особенно обидело то, что три инвалида стояли во второй шеренге сзади, а Ванька Павлов, пунцовский парнишка молокосос да сын старосты, портивший себе ногу керосином, – впереди. Осерчал Филя от такой несправедливости и, забыв, а может быть и хорошо помня, что он в церкви, сказал ни к кому не обращаясь:
– Беспорядок в строю! Кои фронтовики – позади, а кои симулянты – впереди.
И уже громко, поднявшись на носки, хотя и так был высок, отчетливо приказал:
– Слушать команду! Правофланговым становлюсь я. В первой шеренге мои товарищи – Илья, Захар, Сергей, Никита. Остальные в затылок. Перестроить ряды!
Не только народ, не только женихи– $1симулянты», но и фронтовики обомлели от такой команды. А невесты замерли. Только невеста Фили была очень довольна. Вот будет муж. Отчаянный!
Церковный староста начал было совестить Филю, увещевать. Филя молча слушал, подняв вверх лицо, затем уставился единым глазом на старосту и так грозно произнес: «Н–ну?» – что тот безмолвно и торопливо принялся за передвижку женихов и невест. И лишь, когда инвалиды заняли передовые позиции, а Филя стал на правом фланге, что ему полагалось даже по росту, священник, вздохнув, принялся за свое дело. С испугу он забыл спросить остальных «по согласию» они женятся или по неволе. Скорее бы развязаться…
12– Гони, Андрей, гони. Дождь нас захватит.
Дождь вот–вот, – согласился валяльщик Андрей, с которым мы ехали в город: он – продавать валенки, а я по вызову в пенсионный отдел.
Навстречу навалом шла черная туча. Село, к которому мы подъезжали, было недалеко. Виден барский сад помещика, в нем деревянный синий флигель, березовая аллея.
Андрей несколько раз хлестнул кнутом лошадь, крикнул, и лошадь понеслась галопом. Скоро показалась мельница на краю села, первые избы. Теперь дождь нас не захватит.
– Остановимся переждать? – спросил Андрей.
– Надо.
Я посмотрел на ближайшие избы. Две–три приглянулись. У них навесы над воротами – стало быть, можно лошадь поставить. Указал на ближнюю.
Кроме рыжей небольшой собачонки, никто нас не встретил у этой избы. Андрей, подъехав, принялся отпрягать лошадь и затем, взяв за оглобли, ловко вдвинул телегу в поднавес. Здоров же бородатый!
– Ступай в избу, – сказал он, – чего стоять!
– Вместе пойдем. Одному неловко.
– Здорово, хозяева! – громко произнес Андрей, помолившись на передний угол.
Я тоже перекрестился, но не поздоровался, так как в избе никого не было.
Андрей взглянул в окно, вздохнул и сел на лавку. Свертывая цыгарку, я мельком осмотрел переднюю избу. Дверь во вторую – горницу – закрыта. Все обычно. Стол, лавки, печь, видимо недавно побеленная, возле печи кровать, на ней покрывало, из‑под покрывала видны две подушки в синих наволочках. Дверь в горницу створчатая, побеленная. Самовар на лавке. Над самоваром висячий шкаф для посуды.
– Хозяйка идет, – сказал Андрей.
От мазанки торопливо шла пожилая женщина. Впереди девочка с палкой или цепельником. Нам стало неудобно. Андрей смущенно махнул рукой, разгоняя дым: мы успели начадить в чужой избе.
Первой вошла девочка и бросила цепельник в угол, где лежал веник. Она без удивления посмотрела сначала на Андрея, потом на меня и обернулась к двери. Вошла женщина. Увидев чужих людей, она тоже не удивилась.
– Какой дожжик иде–ет, – сказала она.
– Здорово, баушка! – громко воскликнул Андрей.
– Здорово, – ответила ему женщина и усмехнулась. – Это какая же я тебе бабушка?
– Н–на! – удивился он. – Аль не угадал? По годам‑то, кажись, быть тебе как раз.
– И года мои не такие.
Обратившись к девчонке, она строго сказала:
– Иди в ту избу.
– Навес не худой? – спросил Андрей.
– Аль зерно в возу?
– Валенки.
Женщина ничего на это не ответила.
– Девки бегут! – послышалось в той избе.
Мы посмотрели в окно. Народ бежал с гумен. Промчались три пустые подводы.
Поднялся вихрь, взметнул пыль на дороге, пепел и всякий мусор. В стекло ударили первые капли.
– Эх, силен будет, – сказал Андрей.
Запыхавшись, вбежали две девки. Первая похожа на мать – такая же длиннолицая. Глаза живые, озорные. Ей лет шестнадцать. Она быстро оглядела нас и, на ходу сняв платок, прошла во вторую избу. Второй девке лет восемнадцать. Ростом чуть повыше первой, а лицом совершенно на нее не похожа. Круглолица, белокура, глаза голубые, нос чуть вздернутый, хороший высокий лоб. Повязана платком, на висках волосы из‑под платка выбились, – как бы легкие кудри. Движения спокойные, плавные.
Взглянула она в нашу сторону чуть искоса и как бы не знала – тут ли ей стоять или тоже пройти в горницу. Посмотрела на руки, подошла к рукомойнику и принялась умываться, не торопясь, не брызгая водой, аккуратно. Так же не торопясь, взяла полотенце, вытерла лицо и каждый палец в отдельности.
Я наблюдал за ней. У меня с детства сложилась привычка всматриваться в людей, изучать их лица, движения, походку и, неизвестно для чего, по всем этим признакам догадываться о характере. Так смотрел я и на эту девку, имени которой не знал. Она уже сняла платок и, повернувшись, еще раз взглянув на нас, будто спросить хотела: «Хороша ли я?», ушла в другую комнату.
– Вы чьи будете? – спросила женщина.
– Дальние, – ответил Андрей и назвал наше село.
– Слыхала. Бывали у нас ваши, ночевали. У нас ведь много народу бывает, – добавила она устало.
– Вам постоялый двор надо открыть.
Женщина засмеялась.
Вдруг сверкнула молния, раскатываясь и все усиливаясь, загремел гром. Сразу хлынул дождь. И какой! Снова молния, снова гром и уже застлало всю улицу косыми сплошными прядями, и пыль на дороге прибило вмиг; Андрей молча смотрел в окно.
– Хотите, самовар поставлю? – предложила женщина.
– В город как бы не опоздать, – ответил Андрей.
Женщина взяла самовар, налила воды.
– Санька, Елька, чурок наколите! – крикнула она.
Я насторожился. Кто из них Санька, кто Елька? Вышла младшая. Нашла косарь, схватила чурбачок и ловко принялась колоть.
Но как ее зовут? Хорошо бы эту Елькой, а старшую Санькой.
Когда самовар загудел, Андрей, повеселев, спросил:
– Что же мужиков не видно?
Женщина вздохнула.
– Были. Муж и два сына. Теперьче один Костя. В лазарете, ранетый. А старшенький…
И женщина, не договорив, заплакала. Но поплакала она немного. Посмотрев на меня, вдруг спросила:
– Чего с рукой‑то?
Жар бросился мне в лицо от ее внезапного вопроса.
– Тоже… раненый.
Девка уставилась на меня, и в глазах ее была жалость. А женщина подробно расспрашивала – каково ранение, остались ли пальцы. Не хотелось мне отвечать ей, но ответил уже весело, с задором:
– Пустяки. Которых пальцев нет, весной вырастут.
Она горестно усмехнулась, усмехнулась и девка, бросив еще чурок в самовар, а бородатый, умом недалекий спутник мой залился хохотом.
– Ловко сказал, а? Он у нас молодец. Он парень бывалый. Не троньте его, укусит. Укусишь, Петя?
– Укушу, – обещался я.
– Ходок за всех ранетых, увечных и убитых! – воскликнул Андрей. – Пенсию да разные пособия вдовам хлопотать мастер. Мужьям от солдаток письма на фронт пишет. Заработок на этом имеет. Имеешь, Петя?
– Имею, – соврал я.
Андрей мне нравится. Нехотя, шутя, а ведь он хвалит меня. И говорит громко. И мне хочется, чтобы его и мои слова были слышны во второй избе.
Самовар готов. Девка принялась собирать на стол, Андрей пошел посмотреть лошадь. Без него мне вдруг стало скучно.
– Мать с отцом есть? – спросила женщина.
– Есть, – ответил я.
– Сестры с братьями?
И на это ответил. Женщина удивилась нашей большой семье, позавидовала, что все живы.
– Чего теперь делать будешь? – кивнула на руку.
Я хотел опять ответить ей шуткой, но открылась дверь, и вошла старшая. Она в голубой кофте, на ней узкий черный сарафан.
– Есть хочется, мама.
Сказала тихим грудным голосом. Мне он показался музыкой. Теперь я ее хорошо рассмотрел. Хотел найти в ней какие‑нибудь недостатки, но не находил. Была надежда, что голос у нее какой‑нибудь… неприятный, и вот услышал ее голос.
Черт возьми, что же Андрей долго не идет?
– Выньте картошку из печки и ешьте, – сказала мать.
Младшая, которая теперь тоже показалась мне очень хорошей, поставила самовар на стол и чуть зарделась, неся его. Старшая хотела быстро открыть печь, мать отстранила ее, сняла заслон и полезла ухватом за черепушкой. Я догадался, что старшую мать очень бережет. Может быть, она больна? Нет, не хочу, чтобы она была больная. Теперь совсем не хочу видеть в ней какие‑нибудь недостатки, хотя бы они и были.
Наконец и Андрей заявился.
– Воз‑то пролило, – словно радуясь этому, произнес он.
– Подмоченные валенки дороже, – заметил я.
– Оно так, Петя.
Тут впервые я встретил на себе взгляд девушки. Она посмотрела на меня так, как посмотрела бы на любого проезжающего.
Сели чай пить. Девки ели картофель с маслом. Уселась и маленькая девчонка. Она успела поругаться со своей сестрой. Но поругалась беззлобно. Видно, они и все‑то незлобны.
– Что чай не пьешь, солдат? – обратился ко мне Андрей, усевшись под образами, как крестный отец на свадьбе.
Он уже успел выпить чашек шесть, а передо мной стояла нетронутая.
– Он и не ест ничего, – заметила женщина.
Все обернулись ко мне. И эта девка. Она сидит на скамейке, почти рядом со мной. Я начал пить чай. Кажется мне, что и пью я не так, и дышу не так, и сижу не как люди. Куда там есть! А мать в дорогу дала мне пирог с капустой да цыпленка вареного. Ну как я тут разложу все это добро и буду есть?
– Может, картошки хочешь? – участливо спросила мать. – Девки, дайте ему картошки.
– Нет, нет, – совсем смутившись и покраснев, отказался я. – Ничего не хочу.
Тогда женщина вышла из избы, принесла молока, налила в стакан и молча поставила передо мной.
– Спасибо, – сказал я, невольно взглянув на девку.
Она чуть–чуть улыбнулась. У нее на щеках ямочки! Маленькие такие! И ровные белые зубы!
Андрей, кивнув на женщину, сказал мне смеясь:
– Гляди, как за тобой теща‑то…
Черт бы его побрал! Я поперхнулся и, чтобы совсем не смутиться, храбро ответил:
– Значит, стоящий… зять.
Младшая прыснула и отвернулась. Засмеялась и женщина. Бородатый болтун очень был рад. Теперь указал женщине на меня:
– В карман за словом не лазит. Голова!
– И ты не одни валенки валяешь, – загадываю ему.
– Ну‑ка? Что ж еще? – насторожился Андрей и чуть заметно подмигнул женщине, словно говоря: «Слушай, скажет».
– Дурака… тоже… валяешь.
Словно ждал он этого слова, даже затылком о бревно ударился, чему особенно обрадовалась маленькая девочка.
Хозяйка подложила мне ломоть пирога, и пирог их показался мне таким вкусным, будто такого я и не ел никогда.
Девки пили чай. Младшая, шумно прихлебывая, дула на блюдце так, что брызги летели, старшая пила тихо, совсем неслышно. Мне хочется посмотреть на нее пристально, впиться в нее глазами, но не смею. И лишь когда она стала наливать чай себе, я украдкой покосился на ее руки, на пальцы. На безымянном – серебряное кольцо с камешком. Руки до локтя в загаре, чуть покрыты золотисто–русым пушком.
Она поставила перед собой чашку и вдруг обратилась ко мне:
– Налить?
Я взглянул в ее синие, чистые, особенные какие‑то глаза, каких никогда и не видел. Чуть–чуть сдвинутые брови придавали ей некую строгость.
– Да, – поспешно сказал я, подавая чашку.
Ее пальцы коснулись моих пальцев. Что тут такого! Вновь – который уже раз! – покраснел я и уже не помню, как взял из ее рук чашку… А чаю‑то мне совсем и не хотелось.
Андрей, уже насытившись, тоже вприщурку уставился на старшую девку и что‑то, видимо, соображал. Я боялся, вот–вот скажет он опять какое‑нибудь слово невпопад. Так и есть! Погладив черные усы, он посмотрел на мать, затем еще раз на девку и буркнул:
– А хороша у тебя старшая!
– Чем младшая хуже? – обиделась женщина.
– Этой расти.
– У меня все хороши.
– Коль невеста, замуж пора.
– Успеет и замужем горя хлебнуть.
– Какой муж выйдет, – все болтал Андрей. – Бывает, хорошие подвертываются.
– Сватали ее, не хочу отдавать. Работать некому.
– Чай, не век держать будешь?
– Зачем век! Найдется хороший, смирный, работящий, отдадим. Года ее не ушли.
– Ну, дело хозяйское… Петя, ехать пора.
– Поедем, дядя Андрей, – быстро согласился я, боясь и в то же время желая продолжения их разговора.
Вышли из‑за стола, помолились, поблагодарили хозяйку.
– Сколько тебе за угощенье? – спросил Андрей.
– Давай все, – засмеялась женщина.
Он сколько‑то дал ей. Хотел дать и я, но женщина, увидев, что я полез в карман, предупредила:
– С тебя ничего. Ты воевал. Я вроде не тебя, а сына Костю угощала.
Старшая вышла в сени. Андрей пошел запрягать. Я стою среди избы и смотрю то на скамью, где она сидела, то на чашку, из которой пила. По–новому представились мне эта изба, и стол, и младшая, и белокурая девчонка, в которой уже видны черты старшей. Где же та? Неужели я ее больше не увижу?
Торопливо выхожу в сени. Сквозь плетень вижу – Андрей отвязывает лошадь, убирает кузов.
Заглянул на крыльцо и невольно вздрогнул. Облокотившись на перила, она стояла там и смотрела в улицу. Она не видела меня. А если бы и видела? Мало ли проезжих людей! Прислонившись к косяку сенной двери, тихо покуривая и сдерживая кашель, я украдкой любуюсь ею.
Чуть ощутимо дует ветерок. Так нежно и тихо ласкает он ее лицо, шевелит на висках светлые волосы, завивает их.
После дождя ярко светит солнце. Всю пыль прибил дождь, и воздух чист и прозрачен, и небо синее, глубокое. Вид улицы совсем иной. Избы как бы поновели, крыши словно только что покрыты свежей соломой, окна светлые.
Нет, мне обязательно надо что‑то сказать ей. Пойти наперекор своей застенчивости, ведь буду жалеть потом, что промолчал. Жалеть? Нет, буду терзаться. Это же она, она! Сердцем, всем своим существом чувствую, что это «она».
И, переборов свою несмелость, самого себя переборов, я шагаю через порог, подхожу к перилам, облокачиваюсь рядом с ней, набираюсь отчаянности и спрашиваю, лишь бы заговорить:
– Перила мы не сломаем?
– Они и так чуть держатся, – отвечает она не оборачиваясь.
– Чинить надо.
– Дядя хотел, да не собрался.
– Давайте я починю.
Она смотрит на меня и мельком, мгновенно – на мою руку и ничего не отвечает. Но я напрягаю все свои мысли, не–ет, я молчать не буду.
– Дома я все делаю. Грабли, табуретки, столы, – хвалюсь я. – А это ерунда. На обратном пути заеду, починю.
– Что ж, чини. Только лесу нет.
– Найдем. Поеду мимо березника, срублю.
Она смеется. И тогда я решаюсь спросить, как же ее зовут. Но выходит мать из избы и спрашивает:
– Елька, напишешь ты Косте письмо или нет?
– Что‑то не хочется.
Обращаясь ко мне, женщина поясняет:
– Сноха неграмотна, Санька каракули выводит, а эта – мастерица, да ленива.
«Елька, Елена, Лена, Леночка», – мысленно перебираю я и ни с того ни с сего предлагаю женщине:
– На обратном пути заеду, напишу.
– Вот спасибо, – отвечает женщина.
– А на ленивых воду на том свете возят, – совсем смелею я.
– И то правда, – соглашается женщина.
– Вас как зовут? – спрашиваю мать.
– Ариной кличут.
– Ариной! Мою мать тоже Ариной зовут. Тезки, стало быть. Заехать, что ль, тетка Арина? Мы раненого из больницы повезем.
– Заезжайте!
Арина уходит. Я долго молчу. Андрей уже запряг лошадь.
– Лена, – тихо, чувствуя, как дрожит голос, зову я, но она не откликается. – Лена! – произношу громче.
И она с удивлением смотрит на меня.
– Ну?
– Так, я… ничего. Леной тебя зовут… Хорошо!
13Как мы ехали и что мне говорил Андрей, – никак не мог потом вспомнить. Все мои мысли, чувства там, возле нее. Сколько ласковых, нежных слов нашлось теперь у меня для нее!.. И чудилось, что я давным–давно ее знаю, что не только люблю ее, но уже глубоко привязан к ней и жить без нее совсем не могу.
Перед глазами все теперь в новом свете. И осенние поля, и зеленая озимь, омытая дождем, и далекие леса на холмах, и село, к которому подъезжаем, – все хорошо.
Журавлиный перезвон в выси. Хорошо! Редкие, отставшие от большой тучи клочья. Хорошо! Телеграфные столбы гудят. Хорошо! И дорога хороша, и лошадь хороша; даже болтун Андрей, и тот, черт его возьми, очень хорош!
Мнится мне, что она все еще стоит, опершись грудью о перила на крыльце, и смотрит в улицу, и ветерок все еще колышет ее белокурые волосы, и румянец чуть заметно играет на ее щеках, и глаза немного грустны. О чем она сейчас думает?
– Н–но, идол! – покрикивает Андрей на лошадь. – Время‑то зря сколько провели.
– Зря, – шепчу я, – нет, не зря. Вот ты, борода, говоришь это действительно зря.
В пенсионном отделе мне удивительно быстро выдали книжку. Я внимательно прочел в ней историю своей болезни. Очень понятно сказано об отсутствии трех пальцев на левой руке и совсем не понятно, что на указательном у меня нет каких‑то «фаланг».
«Наверное, суставы так называют», – догадался я.
Зашел в казначейство, подал книжку. Кассир внимательно осмотрел ее, что‑то вписал, и вот в окошечке видна его рука, в руке моя книжечка, а в ней деньги. Первая плата за мою инвалидность! Не считая, сколько мне выдали, я иду на базар.
Андрей возле собора; открыл свой воз с валенками разных размеров и торгует. Он весел, торговля идет хорошо.
– Твои как дела? – спросил он. Я рассказал. – Иди к Ваньке, я подъеду.
Многими корпусами легла больница среди парка. Из здания в здание мелькают люди в белых халатах.
Ваньку я увидел в окне палаты выздоравливающих.
– За мной?
– Пора. Гляди‑ка, – показал я ему пенсионную книжку.
На вид он вполне здоров, поправился и, пока я с ним говорил, ни разу не кашлял.
Выехали из города перед вечером, накупив гостинцев. По дороге я рассказал ему почти про все, что произошло без него в селе, но, как мне ни хотелось рассказать ему про Лену, язык не повернулся. Лес. Я вспомнил, что обещался срубить березку на перила, завезти им. Лес почти во тьме. Пока заедешь, да найдешь, да вырубишь, – уже ночь. И стало грустно.
Андрей погнал лошадь, а я, сидя с Ванькой, почувствовал, как он дрожит и задыхается.
– Что с тобой? – испугался я и положил руку на плечо Андрею. – Потише.
Ваньке холодно. Мы уложили его и ехали уже тихо.
С до боли сжатым сердцем въехал я в это село. Неотрывно смотрел в сторону знакомой мне избы. Темно. Ни у кого нет огней.
«Спит Леночка, – мысленно говорил я, – спит и не знает, что я думаю о ней».
Тихая осенняя ночь. Едем молча. В прохладном безветренном воздухе уже чувствуется приближение зимы. Меня клонит ко сну. Я С ногами забираюсь на телегу, ложусь рядом с Ванькой. Лошадь идет ровным шагом. Равномерно, как сверчок, поскрипывает заднее колесо. И под мерное покачивание, под скрип колеса, под тихий топот копыт и под неотвязные сладостные думы о Лене я засыпаю.
Проснулся от холода. На востоке горит заря. Надо мной чистое небо, почти не видно звезд, лишь одна крупная, желтая, как одуванчик, стоит не мигая.
А Ванька спит. И пусть его спит на свежем воздухе. Так сонного и домой привезем.
– Где… мы… едем?
– Да ты не спишь? Скоро дома будем, Ваня, – говорю я. – Ты не зазяб?
– Есть… немного, – отвечает он дрожащим голосом.
– Может, промнемся? – предлагаю ему и спрыгиваю с телеги.
Он кивает головой. Андрей останавливает лошадь, я помогаю Ваньке сойти. Как он ослаб! Едва удерживаю его, взяв под руку, и мы тихо плетемся обочиной.
«Эх, Ванька, – с горечью думаю я, – ты ли это? Где же тот удалой Ванька, здоровяк, смельчак?»
Не один год мы пасли с ним коров, дружили, ругались, но никогда не дрались. Это он обучил меня как следует хлопать плетью, он заставлял меня как можно больше есть у богатых «на череду», он смело лазил к попу в сад за яблоками. И курить научил меня он, и о коровьих повадках рассказал он, и многое еще другое преподал мне в жизни вот этот Ванька. Нет, не этот, а «тот»!
От того Ваньки только и остались зубы одни: ровные, чистые.
Вдруг блеснул острый луч света, поиграл на высокой придорожной траве, перебежал с полыни на макушку козледа и растаял.
– Ваня! – указал я на восток. – Гляди, какой хороший восход!
– Да… Очень…
– А какое крупное солнце! Даже пятна видны.
– Отец… стадо…
– Да, выгнал, Ваня, сейчас он выгнал.
– А я уж… теперь…
И он закашлялся. Мы остановились. Кашлял он мучительно, с надрывом. Чтобы не видел он сострадания на моем лиде, я отвернулся и смотрел на поля. Влево от нас большое имение помещика Климова. Сквозь кровавые, пронизанные лучами солнца яблоневые листы темнеет огромный дом. Сзади него риги, гумна, ометы соломы, клади хлебов, амбары. На взгорье уже паслись, рассыпавшись, шленские овцы. Над двумя каменными салотопнями дым. Он идет из высоких, словно фабричных труб. Чудилось, что ветер доносит сюда запах бараньего сала. Начался убой скота. Скоро мужики нашего села и других деревень поедут брать у Климова потроха, чтобы на следующий год летом отработать за них: скосить ему рожь, овес. Все есть у Климова, только на фронте нет у него ни одного сына из четырех. Все пристроились: кто у воинского начальника, кто в лазарете, а двое закупают скот для интендантства.
Что ж, всюду так! Черт с ней и с землей! Все равно мы теперь не работники.
Успокаиваю себя… а внутри, помимо моей воли, нарастает злоба, яростный гнев. Мне хочется кричать на все поля, на все села и деревни: «Зачем?» Вместо этого я ору во всю глотку:
– Дя–дя Андр–рр–е-ей! Оста–анови–и-ись!
Он придержал лошадь, обернулся, и его черная борода тоже освещена и пронизана солнцем.
… У солдатки Маши полные глаза слез. Она поймала меня на улице, когда я шел к Ваньке, умолила зайти к ней. Вот я в ее двухоконной избе. Небогато живет Маша, когда‑то в девках первая красавица на все село, да и сама‑то она вышла из бедной семьи за этого здоровяка и забияку Ефима, по прозвищу «Копыто». В детстве Ефима ударила лошадь копытом, шрам на лбу остался на всю жизнь. Взял Ефим Машу себе в жены с боя. Из‑за нее больше всего и сражался он. У Маши, когда она ходила в девках, отбоя не было от парней. Она знала себе цену, знала, что хороша, и в первые годы их жизни не один раз ее густые волосы побывали в крепких руках Ефима.
Вот и теперь про нее ходили слухи. Чьей‑то досужей заботой слухи эти достигли и Ефима, то есть угодили на самый фронт. Словом, Ефим прислал грозное письмо. Вот оно передо мной на столе. Письмо кажется мне овеянным пороховым дымом, запахами окопов, на нем явственно видны следы огромных немытых пальцев Ефима. Солдат в словах не стеснялся. Обзывал Машу так, что мне даже про себя читать стыдно, а она просит вслух. Что ж, вслух так вслух. Сначала хорошо. Поклоны до сырой земли ей, поклоны двум девочкам, бесчисленной родне. Внезапный переход на окопную жизнь – чем кормят: гнилое мясо, фасоль–шрапнель, хлеб не урубишь, сахару нет. За этим следуют окопные вши, маята, грязь, страх смерти, тоска. Этой хорошо знакомой мне картиной Ефим явно рассчитывал вызвать у Маши сострадание, а уже дальше, в последней части письма, он, как гром, обрушился на нее. Трудно судить, сколько в письме было правды и сколько наплели ему, только в конце письма он чуть ли не всех мужиков села уложил с Машей спать… Очень жаль, что Маша неграмотна. Пусть и читала бы и отвечала сама. А она просит меня… ответить этому грозному вояке, разуверить его, а главное, успокоить. Даже мне, привыкшему писать разные письма от разных людей на фронт, не легко это сделать. Надо написать что‑то особенное, надо мысли Ефима перевести на другое.
Помня о военной цензуре, я приступил к составлению письма.
Отвесив до сырой земли поклоны от Маши, от девчонок, которые где‑то бегают на улице, от родных и знакомых, которым своих забот хватает, я, не слушая Машу, перешел к перечислению всего того, что случилось в селе.
Маша чуть слышно говорит свое, я пишу свое. Она диктует: «Не верь ты, Ефимушка, свет родненький, ни одной собаке. Все они врут тебе, окаянные, терзают твое сердце тоской, хотят разлучить нас», а я пишу:
«Много в село заявилось раненых: кои без ног, кои без рук, и к работе не способны. И ты, Ефимушка, свет мой, подумай, за какие грехи люди эти всю жизнь свою исковеркали. Береги ты себя, не оставляй нас сиротами, а то богатеи от войны откупаются, а вы одни воюете, а придете в село – опять те же богатеи. У них и земля, у них и здоровье, а вы что? Подумай, Ефимушка, про эту чертову жисть».
Иногда, увлекшись, я забывал о цензуре и от лица Маши писал Ефиму такое, что он несколько раз оглянулся бы, читая письмо, и, конечно, не поверил бы, что это диктует его неграмотная Маша. Я писал: «В деревне живется день ото дня все хуже и хуже, землю солдаткам никто сеять не хочет, пособие не выдают».
Писал про Климова, про Сабуренкова, Шторха. Смутно напоминал Ефиму о том, что было в селе десять лет тому назад. От лица Маши выражал уверенность, что «это самое будет еще, только похлеще».
– Спасибо, Петя, – сказала Маша, прослушав письмо. – Сейчас самовар поставлю.
– Нет, мне к Ваньке надо сходить.
– Сходишь, успеешь. Посиди, расскажи что‑нибудь про войну.
Маша поставила самовар на скамеечку, ловко подхватила ведро с водой, налила, и скоро самовар весело запел. За чаем я подробно ей рассказал, как однажды нас, изнуренных и обмороженных, решили отвести с передовых позиций в тыл, отдохнуть. Бестолковый офицер всю ночь водил нас где‑то, кружил, а к рассвету, вместо того чтобы очутиться в глубоком тылу, мы оказались в тылу у противника, как раз сзади его окопов. Сначала мы опешили, растерялись, затем, опомнившись, отчаянно и неожиданно для австрийцев навалились в окопы, пошла потасовка. Мы застали австрийцев спящими. Ни одного не оставили в живых. Пролежав в окопах день, мы в ночь снова перебрались на свою сторону.
Тихо открылась дверь, вошла Мавра. Прежде чем помолиться, она пытливо посмотрела на меня, на солдатку Машу, затем известила:
– За тобой я, Петя.
– Что случилось? – удивился я.
– Сход скликают. Старосту, слышь, и писаря сменять хотят… Про тебя есть слухи… Вроде в писари выкликать собираются.
– Спасибо, тетка Мавра. Когда будут сменять десятского Шкалика, я выкликну тебя. Согласна?
– А то разь нет! – засмеялась Мавра, – тогда и навовсе я буду знать все раньше других.








