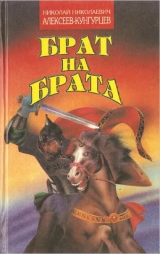
Текст книги "Брат на брата. Заморский выходец. Татарский отпрыск."
Автор книги: Николай Алексеев-Кунгурцев
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 47 (всего у книги 50 страниц)
Скучно было Марье Васильевне в вотчине, когда она осталась одна после отъезда ее мужа с Собакиным в Слободу. Только и отводила душу, когда какая-нибудь из соседских помещиц погостить заедет. Проведут вдвоем дня два, поболтают, посмеются, а потом и прощай! Опять на годик-другой! И опять Марья Васильевна одна сидит.
Больше же всего ее тоска по мужу крушила. Сама на себя дивилась боярыня, почему в этот раз она больше, чем прежде, по мужу тоскует. Бывало, в «поле» поедет он… Знает Марья Васильевна, что, того и гляди, там либо из пищали в него пальнут, либо саблей зарубят, тоскует она, убивается, а все не так, как ныне. И тоска какая-то иная, словно от предчувствия какого-то недоброго.
Однажды поутру вбежал к ней в горницу сын.
– Матушка! – кричит, – богомолка к нам пришла! К угодникам в Киев пробирается! Старушка старенькая-старенькая такая!
Марья Васильевна обрадовалась.
– Зови ее скорее в дом! – крикнула она сыну и сама спустилась в светелку.
Скоро в комнату вошла маленькая, худощавая, сгорбленная старуха, в лаптях, с котомкой за плечами и дорожным костылем в руке, на который она опиралась при каждом шаге. Лицо ее было покрыто, как маскою, сетью морщин, беззубый рот ввалился, а подбородок далеко выдвинулся вперед. Только глаза, уже давно потерявшие блеск молодости, еще были полны жизни и смотрели приветливым и, вместе проницательным взором.
Войдя в светелку, старуха, опустясь на колени, прошамкала короткую молитву, истово осеняя себя крестным знамением, потом кряхтя, поднялась и, низко поклонившись боярыне, остановилась подле двери.
– Садись сюда, матушка! Устала, чай, с дороги, отдохни… Сейчас и перекусить тебе подадут, – сказала Марья Васильевна.
– Благодарствуй, боярыня! Точно, притомилась я маленько, – ответила старуха, опустившись на лавку и прислонив костыль свой к столу.
– Издалеча идешь?
– От самого от Новагорода. В Киев хочу пробраться, коли Бог приведет… Да уж не знаю, удастся ли: времена ноне такие лихие настали, что Боже упаси!
– Да уж, баушка! Тяжеленько ноне… Перекуси-ка… Вот рыбка, тут грибочки… кваску не хочешь ли?
– Спасибо, спасибо! Кружечку коли дашь, не откажусь, с грибками-от…
Квас был подан, и старуха, очевидно сильно проголодавшаяся, принялась за еду. Марья Васильевна, не желая ей мешать, на время прервала свою беседу.
– Вот я и сыта! Благодарствуй, боярынька! – вскоре произнесла старуха.
– Что ж так ела мало? Только чуть к грибкам притронулась?… Поешь еще! – потчевала ее Марья Васильевна.
– Довольно, родная! И то наелась до отвалу! Чуть не до самого Киева сыта буду! – шутила богомолка.
– Будешь в Киеве, за нас, грешных, помолись.
– Вестимо!.. Об этом не позабуду!
– Ты впервой на богомолье собралась?
– Какое впервой! С сорока лет хожу, с тех самых пор, как ляхи мужа убили… В Киеве раз с десяток была… Теперь в остатний иду: коли Бог поможет, в Ерусалим, ко Гробу Господню пойду…
– Сколько тебе теперь годов, баушка?
– Да вот в Покров без трех годков сотня будет!
– Неужто! Сотня лет! Долгою жизнью Господь тебя наградил!
– Взыскал меня не по грехам моим… Одначе, мне и в путь-дорогу пора, – поднялась богомолки.
– Чего ж ты? Посиди, а то и останься денек-другой… Отдохни.
– Нет, матушка, благодарствуй! Мое дело старое – мешкать нельзя… Того и гляди, помру, до Киева не дойдя… Нет, это не можно! Спасибо тебе, боярынька, за ласку да за угощенье!..
– Не на чем, баушка! И то, почитай, ничего не ела…
– Сытехонька! Тебя как звать?
– Марья.
– А муженька? Его, чай, дома нетути?
– Его Данилой… В Слободе он Александровской теперь…
– Молиться буду за рабов Божьих Данилу и Марию… А чем мне за угощенье тебе воздать? Ты меня не обессудь, старую: хочешь, я тебе скажу, что ждет тебя? Не подумай, что ворожбой бесовской я занимаюсь. Упаси Бог! Нет! Сподобил меня Господь на старости лет по лицам примечать, что впереди будет – злое али доброе.
– Скажи, баушка! Коли это от Бога, так греха нет, – сказала Марья Васильевна, охваченная суеверным чувством.
– Все Бог дает нам, грешным! Он и карает, и милует… Сдается мне, боярыня, что ждет тебя беда через мужа: нагрянет она на него оттуда, откуда и ждать нельзя будет. Ворог есть у него, и тот ворог погубить его захочет. Но Бог все устроит: чист боярин окажется, и беда в радость великую обратится… Надейся на Бога, боярыня! Прощай! Здоровенька будь!
И старуха медленно вышла из комнаты. А Марья Васильевна, взволнованная, шептала:
– Недаром чует сердце мое беду!
XII. ЛЮДСКАЯ БЛАГОДАРНОСТЬДанило Андреевич, устроив Василья Степановича в Слободе, остался и сам тут же: его интересовало, какая судьба ожидает Марфиньку, не падет ли на нее царский выбор.
К нему часто заходил Егор Ладный, сиделец и гонец Василия Степановича, снова приехавший вместе с последним в Москву узнать от него, что с Марфинькой, скоро ли наступит день выбора. Приходил он к князю Ногтеву за справками по той причине, что ни у кого другого лучше узнать нельзя было. Впрочем, Собакины' могли бы ему тоже передавать не менее подробно, но с некоторых пор Василий Степанович и Каллист стали очень враждебно относиться к своему сидельцу. Данилу Андреевича такое отношение удивляло. Он несколько раз пытался спрашивать об этом Собакина, но тот только рукой отмахивался от расспросов. Ногтев радушно принимал у себя Егора Ладного, несмотря на разницу положений. Ему нравился этот парень за его кроткий характер.
В тот день, когда уже всем сделалось известным, что Марфа Собакина избрана царем в жены, Егор пришел к Ногтеву.
– Что, слышал, паренек, Марфушка-то чести какой дождалась? – спросил Данило Андреевич Егора.
– Слышал… Как не слышать! – тихо промолвил Ладный.
– Садись, молодец, чего стоишь. Что ты сегодня грустен словно? – сказал Ногтев, глядя на задумчивое и бледное лицо Егора.
– Тоска, боярин! – глухо проговорил Ладный, опускаясь на скамью.
– Тебе ль, вьюноше младому, да тосковать? С чего же это тоска на тебя напала?
– Так… Тяжко, боярин! Не спрашивай… Душа вся изныла! Жизни своей я не рад!
– Господи! Вот дивно! И с чего бы! – воскликнул князь.
В это время вошел слуга.
– Боярин Василий Степаныч, а с ним царский кравчий, Каллист Васильевич, повидать тебя желают, Данило Андреевич. Прикажешь просить?
– Проси, проси! – быстро произнес Данило Андреевич, которого разбирало любопытство посмотреть на вновь испеченного боярина, будущего царского тестя.
Через несколько минут послышались мерные медленные шаги, и в комнату не вошел, а вплыл Василий Степанович Собакин, царский боярин, и следом за ним, не менее торжественно его сын, Каллист, недавно получивший звание кравчего.
Когда Василий Степанович и Каллист вступили в комнату, бледное лицо Егора Ладного стало еще бледнее. Он поднялся с лавки и, не кланяясь, насмешливо посмотрел на вошедших.
– Царскому боярину и будущему тестю государеву челом бьем! – произнес Данило Андреевич, идя навстречу к Собакину.
– Спасибо, голубчик, спасибо! Не забудем тебя, будь спокоен! Шепнем царю при случае – все для тебя сделает по просьбе нашей! – важно проговорил Василий Степанович, протягивая руку Даниле Андреевичу с таким видом, словно делает ему великую честь этим.
Трудно было узнать в этом чванном боярине того купца-патриарха, которого так радушно принял в своей вотчине Ногтев… Всем своим видом новоиспеченный боярин хотел показать, что он важная птица. Голова его была закинута назад и, казалось, потеряла способность наклоняться – можно было подумать, что боярская шея куда менее гибка, чем купеческая.
Тон Собакина, его надменный вид и чуть слышное рукопожатие покоробили Данилу Андреевича, однако он был слишком гостеприимен для того, чтобы показать чем-нибудь свое неудовольствие гостю, и как ни в чем не бывало, поздоровался с Каллистом.
Потом он попросил гостей сесть.
Боярин и кравчий грузно опустились на лавки и развалились на них так, словно сидели у себя дома за вечерним сбитнем.
– Как здоровье Марфы Васильевны? – спросил князь, начиная беседу.
– Марфы Васильевны? – вопросительно вскинул на Данилу Андреевича глаза Василий Степанович. – Какая она теперь тебе Марфа Васильевна! – грубо заметил он потом. – Чай, слышал, что не сегодня-завтра она царицей будет русскою, а стало быть, и твоею… Мог бы иначе как-нибудь, а то на! Марфа Васильевна! Словно знакомую, какую простую.
Данило Андреевич вспыхнул, но опять сдержался, хотя это стоило ему порядочного усилия, и снес обиду, не желая ссоры.
– Как твое здоровье, боярин? – снова спросил Данило Андреевич.
– Слава Богу! Помаленьку здравствуем. Дочь за царя замуж хотим выдать – при таком счастье, коли б и болезнь, какая приключилась, так пересилил бы! – ответил благосклонно будущий царский тесть.
– Ну, а ты как, – Каллист Васильевич? – обратился князь к до сих пор молчавшему брату Марфы Васильевны.
– Здоров, слава Богу, – коротко ответил тот и опять погрузился в прежнее торжественное молчание.
«Что с этими мужиками говорить будешь? Нешто они теперь люди? Идолищи какие-то! Ишь, спесь-то напустили! Слышал я ляхскую пословицу: из хама не будет пана, и точно! Такими же хамами остались, как были и раньше, только спеси прибавилось, теперь их на престол посади да фимиам воскуряй перед ними – и то им нипочем будет!» – с досадою думал Данило Андреевич.
Некоторое время длилось молчание. Данило Андреевич придумывал, о чем бы спросить гостей. Наконец надумал.
– Давно ль царя видел? Как его государево здравие драгоценное? спросил он.
– Кажинный день царя вижу! Кажинный день! Для нас теперь это не диковинка! – хвастливо ответил Василий Степанович. – Ничего, здоров, слава Богу. Сегодня еще со мной весело так говорить изволил. А что, Данило Андреевич, признайся, так по душе, по совести: думал ли ты и в мыслях держать, каких ты особ в своем дому принимал, когда мы к тебе в вотчину из Новгорода приехали? А? Небось, и не думалось, кто такие будут эти гости? – усмехаясь, добавил спесивый старик.
– Нет…, конечно, не думалось, – ответил князь.
– Еще б думаться! А ведь шутка ль – царский тесть и царица будущая, в твоем дому сидели, с тобой за одним столом кушали. Н-да! Тебе, чай, и во сне такой чести не снилось! А я, признаться, уж и тогда на кое-что надеялся, а только, конечно, не болтал зря и держал себя просто, как мое тогдашнее купецкое звание требовало. Я не чванился, и даже, когда ты меня в ту пору изобидел, я даже и виду не показал – снес обиду.
– Помилосердствуй, боярин! Да когда ж я тебя чем-нибудь изобижал? Кажись, как родных, тебя с семьей в своем дому принял, – промолвил изумленный князь.
– В том-то вот и дело, что уж больно как родных! Больно уж просто. Не токмо в первый приезд обеда не приготовил хорошего, каким гостей угощают, а…
– Да помилуй! – прервал князь, начинавший не на шутку раздражаться. – Ведь вы же к самому обеду подъехали, где ж мне было другого обеда взять, окромя того, что был? Я и попросил не осудить меня и откушать, что Бог послал! Да и обед же был вовсе уж не так прост, чтобы…
– Ты наперед дослушай, а не прерывай старых людей – молоденек еще! – в свою очередь перебил Данилу Андреевича Собакин. – Скажу тебе, что, коли б ты хотел гостей уважить, так беспременно сумел бы все устроить, и обед бы живой рукой другой состряпали. Ну, да ладно! Об этом мимо, и не обед меня тогда изобидел больше всего, а невежество твое. Помнишь, чай, сидели мы после обеда за сластями, и разговор вели по душе, а ты вдруг среди беседы поднялся с лавки: «Не погневайся, сказал, Василий Степанович, я соснуть пойду!» Это мне-то, гостю, издалека приехавшему, молвил, да притом старцу седовласому! Вот это меня точно изобидело сильно! У нас так не водится! Н-да! Одначе я, конечно, и глазом не моргнул, виду не показал, что крепко ты меня изобидел. Само собой, ты это в том разуме сделал, что, дескать, купец! Все снести может! Ан, вишь ты! Купец-то в какого боярина оборотился! Почище тебя, пожалуй, будет! И мог бы я тебе зело напакостить, а только я не злопамятен и супротив тебя злобы не питаю… Так-то, батюшка!
Данило Андреевич побагровел от гнева, слыша такую благодарность за свою хлеб-соль. С языка его готово было сорваться гневное слово, но его предупредило неожиданное вмешательство Егора Ладного.
Когда Василий Степанович и Каллиста вошли в комнату, они не заметили или не хотели заметить стоявшего у лавки Егора – они и глазом одним на него не взглянули. Ладный не счел нужным напоминать, о своем присутствии и, молча, вслушивался в разговор. По мере того, как беседа гостей с Ногтевым принимала все более острый характер, Егор начал волноваться. Им овладел гнев при виде того, как отплачивает Собакин князю за его радушное гостеприимство. Он сдерживал себя, но, наконец, не выдержал и заговорил. Егор говорил быстро, горячо. Многое пришлось узнать Даниле Андреевичу из этой речи. Понятна теперь ему стала и тоска Ладного: Марфа Васильевна, как, оказалось, была просватана уже за Егора Ладного, когда честолюбивый старик, услышав о царском указе, пожелал отправить дочь свою к царю на смотрины. Он так и сделал, не тронувшись ни мольбами дочери, ни просьбами Егора, который в свое время оказал немало услуг Василию Степановичу;
Долго говорил Ладный, а Василий Степанович и Каллист сидели, словно онемев. А Егор закончил свою речь:
– Загубил ты дочь свою, загубил и меня… Да я что! Я бобыль! Птица вольная! Сегодня – здесь, завтра – там… Забудусь в чем-нибудь – либо в потехах ратных, либо в молитвах монашеских, а она, болезная, сгорит с тоски, стает, как свеча воску яркого! Не выдержат ее силы женские слабые тяготы великой, и задавит ее кика царская, каменьями самоцветными унизанная!.. Жаль ее, голубку мою, а я что! – тихо докончил Егор Ладный свою речь, и голос его дрогнул, а на реснице повисла слеза.
Тут только опомнился Собакин.
– Вон! – прохрипел он. – Княже! Прикажи вывести холопа буйного! – обратился он к Ногтеву.
Тот не двинулся с места.
– Слышишь, Данило Андреевич? Прикажи вывести его да вспороть на конюшне!
– За что выводить его? Нешто он буянит? Да к тому ж я сам в чужом доме живу и слуги здесь не мои… Да коли б и мои слуги были, прямо скажу, не позвал бы их гнать его: не за что парня гнать – он правду молвил, а коли обижаешься на него, стало быть, это тебе правда глаза колет.
– Вот как! Стало быть, и ты его сторону держишь! Ай да боярин! – злобно проговорил Собакин.
– Да уж не тебе меня боярству учить – ты сам к нему еще и не приобык! – отрезал князь.
– Стой, Данило Андреевич! Не ссорься с ним из-за меня. Он, пожалуй, еще тебе наделает бед – хлеб-то-соль твою, верно, он не больно помнит. Я уйду… И то уж давно сбираюсь; да все хотелось вот на ем сердце сорвать. Теперь меня ничто не держит… Прощай, княже! Не поминай лихом.
– Да куда же ты? – с недоумением спросил Данило Андреевич.
– Куда глаза глядят! Сам еще не знаю… Русь-матушка велика, чай, найду в ней и я себе уголок. А тут мне оставаться не приходится!
– Коли так, иди с Богом! Пошли тебе Господь счастья!
– Быть ли счастью, боярин, быть ли счастью! Об этом и думать не смею. Прощай же, боярин! Здрав будь на многие лета вместе с супругой своей и детушками! Пошли им Бог счастья! А тебе, Василий Степаныч, скажу: больно ты крепко радуешься – смотри, не больно заносись, чтоб слез горьких опосля не проливать!
– Проваливай, проваливай, пока цел! – пробурчал старик.
– Я-то уйду, не только отсюда, а и из мест родимых, а вот ты-то на радость ли себе останешься!
Не прибавив больше ни слова, Егор Ладный повернулся и вышел из комнаты.
Сейчас же после его ухода поднялись с лавок и старик с сыном.
– Спасибо, княже, за прием ласковый! Утешил, утешил старого знакомца, – злобно проговорил Василий Степанович.
– Не на чем, боярин! Что заслужил, то и получил! – равнодушно промолвил Данило Андреевич.
– С холопом заодно на меня напустился! А я думал ему честь оказать, пришел к нему, как добрый, а он на! – продолжал старик.
– Вот то-то и скверно, что ты честь пришел мне оказать! Пришел бы попросту, без чванства да спеси, иная б у нас и беседа была б! – ответил князь.
– Ну, ладно! Лайся, лайся еще поболе! За все тебя отблагодарю, будь покоен! – сказал Василий Степанович, злобно сверкая глазами на Данилу Андреевича.
– Чего от тебя и ждать! Вижу, каков ты человек! – спокойно произнес князь.
– Свидимся ужо! Только рад ли тому будешь! – злобно проговорил старик, готовясь уйти.
С этого времени Данило Андреевич ждал беды. Чтобы не встречаться с Собакиным и не натолкнуться на новую ссору, князь на другой же день уехал в вотчину.
Об Егоре Ладном с этих пор ничего не было слышно. Его не встречали ни в Москве, ни на родине [79]79
Дальнейшую судьбу Егора читатель узнает из романа «Воля судьбы», того же автора, героями которого служат Марфа Васильевна и Ладный.
[Закрыть].
Слова же Ладного оказались вдвойне пророческими. Не прошло и месяца, как по всей Руси святой разнесся слух, что невеста государева занемогла, что ее испортили. Царь был вне себя от гнева и старался найти виновников болезни своей невесты. В это время едва не скатилась с плахи и голова Данилы Андреевича: так ему отплатил за былое добро его старый приятель Собакин.
XIII. КЛЕВЕТАУдалился Данило Андреевич от двора шумного, от хитрых и честолюбивых царедворцев, зажил опять в своей вотчине, как до приезда Собакина, тихою, мирною жизнью со своей женой и детьми.
Все, казалось, по-прежнему было: так же, как и прежде, вставал боярин поутру, чуть зорька на небе заиграет, выпивал сбитня, целовал жену и спешил на поле, подернутое беловатой пеленой росы, подбодрять своих работников не понуканьем грозным, а словом ласковым да примером своим: он сам зачастую работал с ними.
Все в вотчине шло по-старому, да не старое было на душе у князя!
Что-то больно часто он украдкой грустно-грустно на жену поглядывал и деток чаще прежнего к груди своей прижимал, целовал их жарче, и словно дымкой какой-то заволакивались очи Данилы Андреевича.
Видела все это Марья Васильевна, тревога закрадывалась в ее сердце, но она до поры до времени не спрашивала мужа, о чем он кручинится, а старалась скрыть зарождавшуюся тревогу.
А в голове Данилы Андреевича бродили невеселые думы. Чуял он, что натворит ему зла Собакин за его же, князеву, хлеб-соль: не таков старик, чтобы забыть обиду!
А и обида-то, обида: правда – в глаза сказанная!
И сжимала тоска сердце Данилы Андреевича! Чуяло оно-вещун беду неминучую!
Не за себя кручинился князь. Не знал он за собой никакой вины ни перед царем, ни перед родиной, а коли б пришлось умереть, безвинно – что ж делать! Знать, так ему на роду написано: венец мученический принять!
Печалился он за свою жену молодую, за своих детушек, что сиротками останутся. «Что жена молодая, мужем покинутая? Словно былинка в поле одинокая, забытая: ее и солнце жжет, и ветер сердитый до земли сгибает – ни ей покрова, ни ей опоры. Плачется былинка, а помощи взять неоткуда! Так и жена. Кто защитит вдову молодую от людских нападок, от невзгод житейских. Никто! Одна ей дорога – в монастырь. А дети, тогда как же? Али бросить их: растите, мол, как цветы полевые, без призору, да без ласки материнской! А самой идти чин ангельский принимать, спасать свою душеньку от огня адского? Нет, нельзя так!
«Ох, дети, дети! Что с вами будет, с сиротками! И подумать – так дрожь по телу мурашками бежит, а каково вам-то будет! Страшно за вас! За души ваши чистые! Душа детская что воск: что хочешь, то и вылепи! Хочешь ангела божьего, безгрешного, хочешь беса хвостатого да рогатого! Да! В какие руки попадет. Так и дети – нежь их, голубь да на путь истины словами ласковыми наставляй – вырастут люди такие, что если б всем быть, как они, так тогда и зла на белом свете не было бы. А начнут с детства раннего колотушками пичкать, бранью да розгами поучать – не жди добра! Вырастет дитя – все обиды да пинки вспомянет и сторицею за них заплатит!
Такого рода думы тревожили Данилу Андреевича, и он худел, бледнел не по дням, а по часам.
Долго крепилась Марья Васильевна – уже промелькнул конец лета, начался листопад, пришла осень глухая с ее темными ночами да дождями, а она все еще не спрашивала мужа, но, наконец, не выдержала и спросила его, о чем он тоскует.
Произошло это в один из хмурых осенних вечеров.
Даниле Андреевичу было тогда особенно тяжко, словно предчувствие близкого и ужасного несчастья сжимало его сердце.
Марья Васильевна долго смотрела, как князь, сумрачный и молчаливый, медленно прохаживался по комнате.
«Бедный! О чем это он так убивается столько времени? И чего не скажет мне про свою кручинушку? Все полегчало бы! Спросить разве?» – думала Марья Васильевна.
Поколебавшись немного, она тихо спросила:
– Родной! Что с тобою? Поведай мне!
Данило Андреевич был застигнут этим вопросом врасплох.
– Со мной? Ничего! – ответил он, избегая взгляда жены.
– Ой, милый! Почто скрываешь от меня, от жены своей? – произнесла она с упреком. – Ведь вижу, что неладное что-то с тобой творится. Родной мой! – продолжала молодая женщина, подходя к мужу и обнимая его. – Не таись! Открой свою душу! Ужели боишься, что тоски твоей я не пойму али не поделю с тобою?
– Нешто я могу таить, али скрывать что-нибудь от тебя? Тебя кручинить без нужды жаль – вот почему тебе о своей тоске да горе горьком не сказываю! – ответил Данило Андреевич, тронутый словами жены.
– Хуже терзаюсь, родной, скорбь твою видючи! Скажи мне все, поведай без утайки, может, и у тебя, и у меня на сердце полегчает!
– Не хотел я смущать тебя до поры до времени, но будь по-твоему – все открою, ничего не потаю, – сказал князь и подробно рассказал жене о своем и Егоркином столкновении с Василием Степановичем Собакиным.
Безмолвно слушала молодая боярыня рассказ мужа и только бледнела от душевной тревоги.
– Не тоскуй, дорогой! Бог милостив! Может, и пронесет Он мимо бурю злую – не ради нас с тобой, грешных, так ради детушек! – проговорила Марья Васильевна, припав лицом к плечу Данилы Андреевича, когда он окончил рассказ. Утешала она мужа, а у самой на сердце, словно камень тяжелый лежал, и сама она плохо верила в свои утешенья.
– Будем на Бога уповать! – коротко ответил жене князь, но предчувствие чего-то грозного, какой-то близкой и неотвратимой опасности не покидало его.
И предчувствие это было пророческим: на другой же день поутру приехал гонец к князю от Иоанна с требованием явиться к царю в Слободу. Гонец был опричником.
Когда Данило Андреевич спросил гонца, не известно ли ему, по какой причине царь вызывает его к себе, опричник, стоявший перед князем, не снимая шапки, надменно ответил:
– Баяли, в измене ты уличен, так царь-батюшка требует тебя к себе.
Опричник усмехнулся.
– И что вы, бояре, за народ! – добавил он, – изменник на изменнике! Был бы я на месте царя – всех бы вас извел в один месяц… А он, наш милостивец, терпелив!
«Пришла погибель!» – думал Данило Андреевич, однако еще пытался успокоить жену, навзрыд рыдавшую, и плачущих детей, понявших, что их тятю постигло какое-то несчастье.
Данило Андреевич сам едва сдерживал слезы. Он чувствовал, что еще немного продолжись расставанье – и ему не совладать с собой. Поэтому он поспешил с отъездом.
Сопровождаемый толпой воющей дворни князь вскочил на коня и сразу тронулся полным карьером.
Конь несся как ветер, унося князя, может быть, навсегда от родимого крова, от жены его и детей. Что ждало князя у царя – об этом Данило Андреевич страшился и думать.
Когда князь приехал в Слободу и готовился предстать перед грозные очи царя, во дворце был торжественный прием какого-то посольства.
Замешавшись в толпу придворных, Данило Андреевич думал расспросить, не произошло ли чего-нибудь в Москве такого, что могло подать повод царю отыскивать изменников, и поэтому, отчасти предугадать, в чем его могли оклеветать перед царем, и приготовиться к защите. Однако привести задуманное намерение в исполнение оказалось не так легко: придворные сторонились от князя, как от зачумленного. Лучшие друзья едва кивали ему головой и спешили поскорее удалиться.
С грустью Данило Андреевич заметил эту перемену.
Он отошел от бояр и стал в стороне.
Однако не все бояре оказались одинаковыми – нашелся один из их числа, который подошел к князю, не боясь сам попасть под опалу вместе с ним.
От него Данило Андреевич узнал, что царская невеста тяжко занемогла, и что теперь идут розыски тех, кто ее испортил, и что несколько вельмож, заподозренных в этом, уже сложили свои головы на плахе.
Екнуло сердце князево от этой вести.
«Так вот в чем, верно, винят меня враги! Тяжкую вину взвели на меня клеветники! Ой, тяжкую! Пожалуй, не миновать мне казни!» – подумал с тоскою Данило Андреевич и почти без надежды ждал себе неминуемой гибели.
Едва окончился прием послов, как царь, обведя внимательным взглядом толпу царедворцев, громко проговорил:
– А где здесь серпуховский наш изменник, князь да боярин нашей царской милости Данило Ногтев? Сказывали, приехал он.
С замиранием сердца Данило Андреевич приблизился к царю.
– А, вот ты! Здравствуй, здравствуй! Что, рад, небось, свидеться с царем своим? – говорил Иоанн, с усмешкой обращаясь к низко кланяющемуся боярину.
– Почто же не рад? Вестимо, мне и честь, и радость свидеться с царем православным, – ответил Данило Андреевич, стараясь сохранить спокойный вид.
– Ага!.. Рад… Много мы этим довольны, что боярин наш рад с нами свидеться! – продолжал насмехаться над князем Иоанн.
Кое-кто из толпы приспешников и любимцев фыркнул от смеха в угоду царю, другие, кому это не удалось сделать или не сумели, старались вызвать на лице своем улыбку.
Данило Андреевич слышал этот смех, видел улыбки на лицах царедворцев, из которых многие были ему обязаны и, в былое время, клялись никогда не забыть услуг его, и горько становилось на сердце боярина от такой черной неблагодарности, но он стоял по-прежнему спокойным, глядя прямо в сверкающие искорками гнева глаза Иоанна.
– Меня рад видеть… Ну, а невесту мою нареченную тоже, небось, рад был бы повидать? Она, болезная, занемогла маленько, – продолжал Иоанн, пытливо смотря на Данилу Андреевича.
– Конечно, рад! Ведь, я ее вот какой знал, – ответил князь, указав аршина на полтора от пола.
– Как так? – спросил царь.
– Да я знаком много лет с Собакиным, Василием Степанычем, был… Марфа Васильевна, почитай, на моих глазах росла! Когда же ты, царь-батюшка, указал девиц к тебе для выбора везти, они – брат ейный, да отец и сама она – ко мне в вотчину приехали, и уж опосля я им нашел, где в Слободе поместиться. Посуди сам, царь-государь, могу ль я не желать видеть ее, невесту твою нареченную?
Видимо, Иоанн не ожидал услышать от князя ничего подобного, потому что лицо его выразило удивление, смешанное с недоверием.
– Ой, не врешь ли, боярин! – воскликнул он.
– Могу ль тебе говорить неправду! Иоанн на минуту задумался.
– Что-то тут напутано, – произнес, наконец, он. – Ну, да мы сейчас разберем! Подь-ка сюда, Василий! Повтори, в чем ты винишь его, – обратился царь к Василию Степановичу Собакину, стоявшему в стороне от других бояр.
Собакин приблизился. Он был бледен, и, когда заговорил, то голос его слегка дрожал.
– Виню я князя Данилу Ногтева в том, что он, с моим наймитом «Егоркой» спевшись, задумал, злобствуя на меня, извести твою невесту нареченную, а мою дочь Марфу Васильевну, – проговорил глухим голосом Собакин, вперив глаза в пол.
– За что же я злобствую на тебя? – тихо спросил князь.
– С зависти, перво-наперво, а потому будто б из дружбы к наймиту моему. Ишь, пристало боярину дружить с холопом! – язвительно заметил Собакин.
– Что же ты на это скажешь? Чем обелишь себя? – спросил Иоанн, лицо которого не выражало гнева: царь был сегодня в духе.
– Все поведаю тебе по истине, ничего не потаю, царь православный! – горячо заговорил Данило Андреевич. – Как сказывал, знал я Марфу Васильевну с младенческих лет… Могу ль против нее я злобу питать и изводить пытаться? Да и как? Сам я в вотчине моей Серпуховской жил с самой той поры, как Марфа Васильевна невестой твоей наречена была, и Егорку, про коего Собакин бает, с того же времени в глаза не видел и, где он находится, не ведаю. И не я по злобе хочу извести дочь Василия Степаныча, а он меня погубить хочет, забыв мою хлеб-соль прежнюю… За что он гневается на меня – пусть сам скажет, чтоб ты не подумал, государь, что клевещу я на него!
– Сказывай! – обратился царь к Василию Степановичу, и в его голосе послышалась гневная нотка. – Водил ли ты хлеб-соль с боярином али нет, и почему винишь его?
Василий Степанович стоял безмолвный, не глядя на царя.
– Сказывай! – уже совсем гневно произнес Иоанн.
– Водил хлеб-соль в былое время, а потом у нас счеты с ним кой-какие были… Да я не виню его прямо – может, он и неповинен… Так, подозрение одно имею, – бормотал струсивший, по-видимому, Собакин.
– А! Теперь только уж подозрение одно! Раньше, помнится мне, ты иные песни пел! – воскликнул Иоанн.
– Расскажи, Данило Андреевич, что у тебя с Собакиным было, – обратился царь, к Ногтеву уже ласково.
Вздох облегчения вырвался из груди князя, он понял, что он спасен. Рассказал подробно Данило Андреевич царю о том, каким напыщенным сделался бывший купец Собакин, превратясь в царского тестя, как он отблагодарил Данилу Андреевича за прежнюю дружбу. Передал также и разговор Егора Ладного с Василием Степановичем.
– Из-за того, царь-батюшка, что я признал Егорку правее, чем он, тесть твой будущий, Собакин, и сердце имеет на меня! – закончил свой рассказ Данило Андреевич.
– Что ж, Василий, ведь выходит, что князь-то и в мыслях не держал того, в чем ты его винишь? – обратился Иоанн к сумрачному Василию Степановичу.
– Врет он! – прошипел тот. – Никакой ссоры у меня с ним не было, и не мог я на него по злобе клеветать!
– Спроси, государь, сына его Каллиста – они были тогда вместе у меня… Тот врать, думаю, не станет, – сказал Данило Андреевич. – Каллист здесь – вон он стоит в сторонке, – добавил князь, видя, что царь ищет Каллиста в толпе придворных.
Иоанн сделал Каллисту знак приблизиться. Тот подошел, видимо сильно смущенный.
– Ссорился отец твой с этим боярином? – спросил его царь. – Смотри! Говори правду.
Каллист немного помолчал, как будто собирался с духом. Потом тихо промолвил:
– Да, отец ссорился с боярином!
Иоанн быстро обернулся к Василию Степановичу.
– Ты что же это, старик? – грозно проговорил он. – Так-то ты начинаешь свое боярство? Неповинно хотел погубить за его же хлеб-соль!.. Добро, я сегодня не гневен. Но помни! – погрозил царь рукой съежившемуся от страха Василию Степановичу. – А с тобой, Данилушка, свидимся еще на свадьбе моей… Смотри, приезжай! – ласково сказал Иоанн князю.
Данило Андреевич, радостный и довольный, низко поклонился царю.
Иоанн готовился уже удалиться во внутренние покои, но вдруг опять обернулся к Ногтеву.








