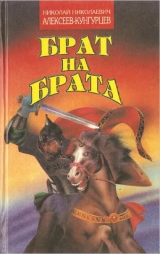
Текст книги "Брат на брата. Заморский выходец. Татарский отпрыск."
Автор книги: Николай Алексеев-Кунгурцев
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 19 (всего у книги 50 страниц)
Пока Степан Степанович жил у себя в усадьбе, его семья, во главе с ним самим, ежедневно ездила в церковь, не разбирая ни буден, ни праздников.
С его отъездом стало не то. На другой же день по его отбытии Анфиса Захаровна заявила дочери, что в церковь они не поедут.
– Не рука нам без самого-то… Как одним бабам…
– Ну, матушка, ничего! – просительно протянула Катя.
– Нет, нет! Да и что за праздник сегодня?
– А в воскресенье поедем?
– Там видно будет.
На том разговор и покончился, но боярышня почему-то была уверена, что в воскресенье непременно поедут, а стало быть – при этой мысли щеки ее румянились – она повидает «его», Сашу Турбинина, как привыкла она называть про себя молодого боярина.
В субботу она и спать легла с тою мыслью, что завтра едут в церковь. Поутру она проснулась раньше обыкновенного и тотчас же поднялась.
– Матушка! Я сбираться буду.
– Куда еще?
– А к обедне.
– Не поедем мы.
– Как же так?
– А так же.
– Да ведь сегодня день воскресный?
– Ну, что ж! Дома помолимся. Вернется отец, тогда будем ездить!
– Ах, матушка! Да как же это? Поедем, родная!
– А ну тебя! Сказано, не поедем.
Катя поникла головою: толстая Анфиса Захаровна умела быть упорной.
С боярышней творилось что-то странное. Того чувства, которое она испытывала, она сама никак не могла понять. Что за тоска такая, что за томление? Прежде ничего подобного не бывало. Ей нравилось встречать взгляд Александра Андреевича, такой ласковый, особенный какой-то, нравилось иногда бросить ему короткое словцо, слегка улыбнуться. Это занимало ее, это было отзвуком былых детских игр с Сашей. Они ведь почти вместе росли. Покойный отец Турбинина был очень дружен со Степаном Степановичем, часто приезжал к нему и брал с собою сына.
Катя-девочка пользовалась куда большей свободой, чем Катя-боярышня. Ей не надо было по целым дням сидеть в терему и прятаться от незнакомых гостей. Целыми днями она была на воздухе, и старый сад и прилегавшее к усадьбе поле оглашались ее веселыми криками. Никто не препятствовал играть ей и Саше. И каких только игр они не придумывали! Катя была резвой девочкой и ни в чем не отставала от своего товарища. Это было хорошее время.
После все кругом изменилось. Отец Александра Андреевича что-то не поладил с Кречет-Буйтуровым, перестал ездить к нему, и целых пять лет Кате и Саше не пришлось свидеться. Встретились они только после смерти старого Тур– бинина, который на смертном одре помирился со Степаном Степановичем. Но это была уже не прежняя встреча: Катя превратилась в девицу, Саша – в парня. Ей едва позволили перекинуться с ним несколькими словами и прогнали в горницу: долго беседовать было б зазорно.
С этих пор и видеться приходилось только в церкви за обедней.
Теперь же и эти свидания прекратились. В первый же раз, как Кате не пришлось поехать в церковь, она почувствовала непонятную тяжесть на сердце. Все ей дома было не мило, и работа, за которую ее усадила Анфиса Захаровна, не спорилась. Почему-то ей беспрестанно вспоминался Саша. Начнет она думать о чем-нибудь таком, что никакого отношения к Саше не имеет, а в конце концов свернет на думу о нем. День тянулся вяло и скучно. А назавтра тоже, послезавтра' опять. Только, как дело стало подходить ближе к воскресенью – у ней на сердце становилось легче. В ночь с субботы на воскресенье она спала плохо и во сне видела Александра Андреевича. Полученный поутру от матери отказ ехать в церковь показался ей тяжким ударом. Она чуть не заплакала. Анфиса Захаровна еще долго ворчала что-то, но Катя ее не слушала. Она отошла к окошку и села там. Раза два Фекла Федотовна, проходя, посмотрела на нее. Девушка и на старую няньку не обратила внимания.
– Что, дитятко, пригорюнилось? – спросила старуха.
– Так… Тоскуется что-то, Федотовна!
– Верно, оттого, что матушка к обедне не повезла?
– Вестимо, в четырех-то стенах, чай, надоело сидеть.
– Эх, девонька! Потерпи, что делать! На, выпей-ка сби– теньку.
– Не хочу я.
– Э! Полно, глупенькая! Нешто можно на мать родную серчать? Грех! Выпей-ка – сбитенек горячий…
– Да я на матушку не сержусь. Чем виновата, что тоску– гтся? – проговорила Катя, хлебнула глоток-другой и отставила кружку.
– С чего это с тобой? Никогда прежде такого не бывало, – пробормотала Федотовна.
Слезы сдавили горло Кати. Она вдруг закрыла лицо руками и заплакала. Федотовна даже испугалась.
– Да что это, дитятко! Господь с тобой! Ну, полно, полно, перестань! Уж коли тебе так грустно, хочешь, боярыню попрошу, чтоб тебя в сад погулять пустила?
– Пожалуй, – пробормотала девушка.
Как раз подошла и Анфиса Захаровна.
– Чего это она ревет?
– Печалится, что к обедне не поехали.
– Глупости одни! Дурит девка от безделья.
– Ну, матушка-боярыня, ведь и вестимо ей скучно. Пустила б ты ее хоть в сад погулять.
– Какое же теперь гулянье в саду? Грязно в нем, и снег еще не весь сошел…
– Погодка уж больно хороша.
– Да хочет, пусть идет. Только телогрею беличью пусть наденет… Слышь, Катерина? Да и на голову платок потеплей надень!
Сад боярина Кречет-Буйтурова был, без сомненья, остатком того леса, который некогда рос вокруг Москвы. Великаны-клены и двухобхватные ели и сосны, наверно, не были уже молодыми деревьями и в ту пору, когда Тохтамыш делал набег на Москву. В летнюю пору этот полулес-полусад был чудно хорош, но в это время года, в марте месяце, гулять в саду не могло быть очень приятным. Обнаженные деревья казались сумрачными, и с ветвей их, что слезы, скатывалась капля за каплей; дорожки были не все расчищены, и во многих местах лежали сугробы снега, а там, где прошла метла и лопата, нога вязла в жидкой грязи.
Катерина Степановна вышла в сад только потому, что дома было уже чересчур тоскливо. Она выбрала дорожку посуше, тянувшуюся вдоль изгороди, и пошла по ней печальная и задумчивая.
Быть может, первый раз в жизни она почувствовала себя несчастной и посетовала на грустную девичью долю! Не зная, чем заглушить тоску, боярышня запела простую печальную песенку. Сперва вполголоса, она постепенно пела все громче и громче, и скоро ее звонкий голосок разнесся по всему саду. Боярышне казалось, что песня сложена про нее саму. Она пела про девицу, тоскующую по милому дружку, и образ «милого дружка» мелькал перед ней в виде Саши Турбинина.
«Не лебедушку-то в клетку посадили, – говорилось в песне. – В клетку крепкую с затворами-замками – посадили девицу младую в тесну горенку, во терем стрельчатый. Ох, ты, терем-теремок ли высокий, с резьбою красной, хит– росделанной! Что темница ты для девицы, что темница для красавицы. Али нет у бедной думушек о молодчике-красавчике, али нет у красной сердца во груди в высокой девичьей? День и ночь оно колотится, день-деньской тоскует девица, а настанет ночка темная, еще пуще затоскуется, слезы горькие из глаз сыпятся на подушку на пуховую. Как заломит она рученьки, ручки, руки свои белые, как застонет горько-жалобно: – Ай, да где же ты, соколик мой, ай, да где же ты, любимый молодец! Аль не знаешь ты, не ведаешь про тоску мою, про долю грустную? Аль тебе я опостылела, приглянулася иная молодица? Как настанет утро, утро ясное, отворю окошечко во терем, крикну ветру перелетному, крикну я голубке сизенькой, быстрокрылой крикну ласточке: – Ой ли, ветер, ветер перелетный! Побеги-лети до друга милого, побеги-лети, скажи ему, что с тоски моя изныла душенька! Ой ли, ты, касатка с голубкою! Понеситеся на крылышках в ту сторонку, в ту сторонушку, где лютый живет дружочек мой! Проворкуйте, прощебечите ему, что роняю слезы горькие, жду да жду, когда же милый мой пораство– рит двери горенки, за белые руки возьмет меня, поцелует жарко в уста алые, поведет к моей родимой матушке и к родимому батюшке, скажет им с поклоном низеньким: – «Вы снимайте-ка иконы с красного угла, благословите-ка святым благословеньем родительским вашу дочку на житье со мной: полюбилась мне она, приглянулася, за себя хочу ее в жены взять»…
– Ай, Катерина Степановна! Да как же ты поешь ладно! – раздался возглас.
Возглас слышался откуда-то сверху. Боярышня остановилась как вкопанная и искала глазами того, кто крикнул. Неподалеку от себя она увидела выставившуюся из-за садовой изгороди голову Александра Андреевича.
– А ведь я, боярышня, к тебе перепрыгну! – промолвил Турбинин, улыбающийся, красный от волнения, и через ми– нугу он уже стоял перед Катей.
XVI. ЧЕМ ЗАМЕНИЛАСЬ ТОСКАВ первую минуту боярышня так была поражена неожиданным появлением Турбинина, что не могла вымолвить ни слова. Щеки ее пылали, кровь стучала в висках.
– Александр Андреевич! Вот не чаяла видеть, – наконец нашла она силы сказать.
– А нешто чаял я здесь очутиться? И в мыслях не держал. Случай такой выдался… Погуляем, Катя… то бишь, Катерина Степановна… Ведь как это вышло, – продолжал молодой боярин, идя рядом с Катей по дорожке. – Приезжаю я в церковь день – нет Кречет-Буйтуровых, приезжаю и другой, и третий – все нет и нет. Что за притча! Ну, думаю, в воскресенье-то, наверное, прибудут молиться. Ан, и в воскресенье нет. Я и подумать что не знал. Дай-ка съезжу в усадебку к ним, узнаю, что там такое стряслось. Подъезжаю и слышу: поет в саду девица, и голос показался мне похожим на твой. Привстал на стременах, заглянул за забор – и глаз оторвать не хочется: вижу, гуляет моя Катю… Катерина Степановна и песенку распевает… Что грустную песню такую, боярышня, петь надумала? Али тосковалось?
И Александр Андреевич так и впился в Катю взглядом. А она опустила глаза. Ей как будто страшно было встретиться с его взглядом.
– Да, тосковалось, – тихо ответила она.
Александр Андреевич словно обрадовался.
– Тосковала? А с чего ж это тоска напала?
Катя молчала.
– Боярышня!
– Ась?
– Серчаешь?
– Я? За что?
– За опросы мои.
– Чего же серчать?
– А что же не отвечаешь? Я вот тоже тосковал и, коли хочешь, скажу почему.
– Скажи!
– С того тосковал, что тебя не видел, – вымолвил Тур– бинин и сам подивился и испугался своей смелости.
– Пустяки говоришь ты, Александр Андреевич, – смущенно пробормотала Екатерина Степановна.
– Какие же пустяки, коли я извелся весь! – воскликнул боярин. – Знаешь, боярышня… э! Полно! Назову так, как зазывал когда-то!.. Катя, коли я дня тебя не вижу, сам не свой становлюсь. Что таиться, заполонила ты мое сердце, точно схватила его руками, вот этими самыми белыми, да и держишь, не пускаешь. Дороже ты мне матери родной теперь стала. Люба ты мне, ласковая моя, голубка, родная!
Кате хотелось и плакать, и смеяться от радости в одно и то же время. Сердце так билось, словно хотело выпрыгнуть из груди.
– А тебе я не люб нисколечко? А? – прерывистым голосом спросил Александр Андреевич и наклонился так близко к боярышне, что у той дух захватывало.
– Ответь же, ответь же, Богом молю!
Катя вдруг подняла глаза, посмотрела на боярина долгим светлым взглядом и ответила:
– Люб!
В то же мгновение руки Турбинина обвили ее, и один, другой, третий, без счету, поцелуй обжег ей щеки.
– Милый! Родной! Пусти! – вырывалась девушка и вырвалась, и побежала из сада, как испуганная козочка. А он бежал за нею и твердил:
– Любишь? Любишь? Приди сюда завтра… Голубка! Ангел!
– Приду! Приду, хороший мой! Только теперь пусти, пусти! – лепетала Катя.
Она не помнила, как добежала до крыльца, миновала сени, поднялась в горницы.
– Чтой-то ты чуть с ног меня не сбила! Экая оглашенная! – воскликнула Анфиса Захаровна, столкнувшись с дочерью в дверях. – Смотри, и телогрея на сторону съехала… Чего ты бежала, словно Мамай за тобой гнался?
– Так… Я… Я испугалась очень… – лепетала Катя.
– Чего еще?
– Мне показался там… Такой страшный… – лгала боярышня.
– Где? Кто? – уже иным тоном спросила боярыня. – Не у конюшен ли?
– Да, да!
– Так это домовой! Ишь, среди дня нечист выползает! Кто думать мог!.. Вечор его тоже видели… А все от того, что козла нет. Говорила ведь Степану Степановичу, а он все по– еле да после. Вот тебе и дождались! Среди дня прохода крещеным нет! – вскипятилась Анфиса Захаровна и пошла наводить справки, не видал ли еще кто-нибудь домового.
А Катя, скинув телогрею, опустилась на скамью и словно замерла, вся полная неведомого сладко-томительного чувства. Былой тоски – как не бывало.
XVII. LE ROI EST MORT VIVE LE ROI! [40]40Король умер. Да здравствует король!
[Закрыть]
– Завтра казнь волхвам. Слышишь, Борис?
– Слышу, государь.
– Поди и объяви им. Я сегодня бодрее, чем вчера. Лекарь искупаться велел мне в теплой воде. Приготовлено?
– Сейчас будет готово, государь. Смешивают воду, чтоб была какая надобна.
– Скорее! Сегодня мне не терпится в постели лежать. А ты, Борис, чего стоишь? Иди, как приказывал. Потом приди сказать, какую волхвы рожу скорчат, как выслушают весть.
Годунов удалился. Почти тотчас же вслед за его уходом поспела и ванна. «Дохтур-немчин» попробовал рукой температуру воды и проговорил:
– Мошно.
С Грозного бояре сняли белье и бережно перенесли с постели в ванну. Царь нежился в теплой воде, брызгал с веселым смехом в придворных, шутил. По-видимому, его здоровье значительно улучшилось. С этим и поздравили царя бояре, но стоявший тут же «дохтур» скептически улыбался. Около трех часов пробыл царь в ванной, и, когда его вынули и одели, он сказал:
– Мне теперь хоть бы в пляс пуститься и то нипочем!
– Косударь! Не надо много каварить… Спокой нушно, – сказал «дохтур».
– А ну тя, басурманин! Так я тебя и послушаюсь. Иди-ка ты вон и ненадобен ты мне вовсе.
– Твой воля, – пожав плечами, ответил доктор и, отвесив низкий поклон, вышел из комнаты. За дверью он встретился с Годуновым.
– Слышь, дохтур! – шепотом сказал ему тот: – Царю сегодня ведь, кажись, куда лучше?
– Ой, нет, нет! Никакой надежды. Сердце совсем плох… Маленький сердиться – и шабаш.
– Да ну?! Может ли быть?
– Тай Бог, чтоб до завтра прошил, вот что…
– Та-ак, – протянул Борис и, вместо того, чтобы войти в царскую опочивальню, повернул обратно и прошел к царевичу.
– Борисушка! – обрадовался тот. – Что скажешь?
– Ты бы, царевич, пошел к батюшке своему.
– А разве нужно? Больше недужится?
– Нет, ему лучше много. А так, проведать.
– Ладно, ладно! Пойдем.
– Нет, ты уж, будь добр, один иди, а я после приду.
– Хорошо, Борисушка, хорошо!
Когда царевич пришел к отцу, тот, сидя на постели, собирался играть с Бельским в шахматы.
– А, Федор! Проведать пришел? Чай, думал, что я уж ноги протягиваю?
Так неласково встретил сына Иоанн.
– Ну, Богдан, расставляй, – добавил он Бельскому. – У меня белые, мой ход. Эх, как б поладнее начать!
Грозный довольно искусно играл в шахматы, и терять партию ему приходилось очень редко. В последнем обстоятельстве, впрочем, играло немалую роль и то, что обыграть царя часто бывало равносильно добровольному обречению себя на смерть, а таких смельчаков, конечно, не находилось. Однако было опасно и слишком явно уступать Иоанну пальму первенства в игре. Поэтому, чтобы играть с ним, нужно было соблюдать величайшую осторожность. Бельский был мастер на это. Почему-то всегда выходило так, что, несмотря на прекрасную атаку с его стороны, победителем оставался царь.
На этот раз Иоанн начал свою партию очень успешно и хохотал над досадой, деланной, конечно, – Бельского.
В самый разгар игры пришел Годунов.
– А-а! Борис! Ну, что волхвы-то, чай, повесили носы? – спросил Грозный.
Борис Федорович замялся. Он как будто смущенно оглядел толпу бояр, молча стоявших у постели царя, и, смотря в поле, пробурчал:
– Н-да… Малость…
– Бориска! Ты чего бурчишь? Отвечай толком! – прикрикнул на него царь.
Годунов тяжело вздохнул, потом, наклонясь к Иоанну и смотря на него в упор, быстро вымолвил:
– Они сказали: день еще не прошел.
– Так, значит, я…
– Ты должен сегодня умереть.
Кровь ударила в лицо Иоанну.
– Как смеешь! – вскричал он, замахиваясь на Бориса, и вдруг захрипел и упал навзничь.
– Царь кончается! – воскликнул Годунов. – Зовите владыку и попов!
Духовенство почему-то было уже во дворце наготове.
Над бившимся в предсмертных судорогах царем начали совершать, согласно выраженной им при жизни воле, обряд пострижения в иночество. Обряд этот был окончен уже над мертвым. В монашестве его назвали Ионою. Царь помер! эта весть с быстротой молнии разнеслась по Москве.
Народ заволновался, зашумел, заплакал.
Любил ли народ Иоанна?
Да, любил: было «нечто», связывавшее царя с народом– это – ненависть к боярам. Смерть Грозного являлась тяжким ударом. Народу как-то не верилось, что не стало «царя Ивана Васильевича, царя Грозного».
– Извели его, батюшку! – мелькнула мысль у темных людей.
– Извели, извели! – шептали те, кому нужно было. – Извели! Бельский извел!
Глухое брожение начиналось в народе.
Едва прошел слух о смерти Иоанна, во дворец со всех концов Москвы потянулись бояре, окольничьи и других чинов служилые люди. Степан Степанович, имевший какой-то маленький придворный чин, и Марк Данилович также поспешили во дворец.
Марк видел царя Иоанна всего один раз, слышал о нем ужасные вести, но, когда взглянул на длинное, исхудалое, прикрытое монашеской рясой тело царственного покойника, ему стало грустно.
– Упокой, Боже, душу раба Твоего, отпусти ему воль ные и невольные прегрешения! – с глубоким чувством прошептал он, молясь над трупом Иоанна.
В палату то и дело входили бояре, окидывали покойника невнимательным взглядом, преклонялись перед телом почившего и спешили удалиться на поклон ц живому царю.
Молодой Кречет-Буйтуров не спешил. В его развитом, пытливом уме мелькали вопросы, и он тщетно пытался разрешить их. Чья жизнь только что окончилась? Жизнь ли великого мужа или жизнь безумца? Почему в почившем царе великое добро так было смешано с великим злом? Быть может, сильный ум видел вдали цель, незримую другим, и стремился к ней, и отсюда все его ошибки: разве знает ворон, что видит царственный орел с высоты своего подоблачного полета?
– Ну, будет здесь стоять! Пойдем, присягнем да поклонимся царю новому, – шепнул племяннику Степан Степанович.
Они вышли.
Новый царь Федор сидел в кресле, согнув спину, наклонив голову. Бояре присягали, подходили, кланялись ему, поздравляли со вступлением на царство – лицо Федора Иоанновича оставалось безучастным. Голова его заметно тряслась. Юный царь имел болезненно-старческий вид, его белокурую жидкую бороду хотелось принять за седую.
«Не в отца выдался сын! Кажись, не сможет он сделать ни зла, ни добра!» – подумал Марк, кланяясь царю после присяги.
Подле кресла царя стояли несколько бояр. Это были назначенные Иоанном руководители сыну: Бельский, Борис Годунов, Мстиславский, Юрьев, Иван Шуйский.
На этот «пяток» поглядывали чаще, чем на самого царя: все знали, что не от Федора, а от этих бояр будут сыпаться и опалы и милости. Надменнее всех из них казался Бельский: в нем было трудно признать недавнего покорного раба царя Иоанна. Борис Федорович Годунов скромно держался в стороне.
– Смотри-ка, – показал Степан Степанович племяннику на суетившегося маленького роста боярина.
Марк вгляделся и узнал князя Василия Ивановича Шуйского. Василий Иванович переходил от одного боярина к другому, перешептывался, покачивал головой.
– Чего это он?
– Известно, лисит лис, – ответил Степан Степанович.
Чья-то рука легла на плечо старого Кречет-Буйтурова.
Он обернулся.
– Ба! Дмитрий Иваныч! Ты как здесь?
Кириак -Луйп самодовольно улыбнулся.
– Э! Прискакал! Теперь, брат, мы иначе заживем.
– Что так?
– У Ивана-то царя я в опале был, ну, а у Федора иная статья: я и с Бельским в родстве, и Годунову не чужак.
– Вот как! Я не знал.
– Да. Пойду к царю на поклон.
– Слышь, Дмитрий Иваныч, заглядывай-ка ко мне в вотчину-то.
– Загляну, загляну. Дельце у меня есть для тебя.
– Какое?
– Будет время, покалякаем. Торопиться нечего. Прощай пока!
И Кириак-Лупп направился к креслу царя.
– Ишь, выйдет теперь в люди, черт! – завистливо проворчал Степан Степанович, смотря вслед Дмитрию Ивановичу, и подумал: «Напрасно я тогда хвастался перед ним новым тегиляем».
XVIII. МЯТЕЖВьется, мечется, теснится в узких улицах, разливается по площадям, шумит и гудит людской поток. Всюду возбужденные красные лица. Руки сжимаются в кулаки и потрясают в воздухе топором, вилами, рогатиной, реже ручницей [41]41
Ручница – ружье.
[Закрыть], саблей. Страшна эта толпа, как зверь, сорвавшийся с цепи. Для нее нет преград – она все разрушит, разметет и потопчет в своем неудержимом стремлении. А стремится она к Кремлю. Сотня стрельцов преградила было ей дорогу и была тотчас же смята, уничтожена: великан раздавил пигмея, и нет ему дела, что этот пигмей – его брат родной. Страсть затемняет рассудок; толпа-великан, толпа-зверь жаждет крови.
– За царя мы во! Себя не пожалеем! – орет какой-нибудь лохматый мужичонка, потрясая в воздухе дубиной. Он весь полон воинственного жара и, действительно, не пожалеет себя, как сейчас не пожалел он стрельца, быть может, своего кума, раздробив ему с размаху череп. Да, такой мужичонка страшен в своей ярости. А здесь было около двух десятков тысяч таких «мужичонков»! Идут, кипят живые людские волны. Но вот скала, перед которой бессилен их напор. Эта скала – Кремлевские стены и массивные ворота.
– Царя нам! Царя! К царю-батюшке нам надобно! – гудят крики, и на Фроловские ворота сыпятся сотни могучих ударов.
– Э! Братцы! Чего смотреть! Нешто не видали, что в Китай-городе снаряд [42]42
Снаряд – пушка.
[Закрыть]даром стоит? Взять его да и разбить ворота! – говорит толпе какой-то парень, по-видимому из детей боярских.
– А то и правда! Чего мы! Гайда, ребята! – слышится в толпе.
Тяжелы чугунные пушки, да нужды нет – силы не занимать стать: молодые парни – что твои кони, жилистые руки покрепче всяких оглобель и постромок. Мигом пушки очутились против Фроловских ворот. Добыто и зелье [43]43
Зелье – порох.
[Закрыть], и ядра.
– Палить, что ль?
Но медлит народ, нападает раздумье. Легко было пушки притащить, да нелегко метнуть чугуном в Кремль родимый.
А в Кремле с немногими стрельцами заперлись бояре и царь. Тут и Борйс Годунов, и Шуйские, и Мстиславский, и иные. Борис Федорович спокоен, как всегда, только чуть приметные огоньки мелькают порой в его глазах. Князь Дмитрий Шуйский самодовольно улыбается, князь Иван Шуйский угрюмо поглаживает свою бороду, а князь Василий Иванович так и юлит: то к одному, то к другому подбежит, спрашивает:
– С чего бы это народу мятежничать?
А сам думает: «Молодцы Кикины да Ляпуновы! Ловко состряпали! Попляшут Бориска с Богдашкой!»
Богдан Бельский бледен как мертвец: донесся слух, что народ за ним пришел, его головы ищет. Он старается держаться поближе к царю: бояр-сотоварищей он боится теперь немного меньше, чем мятежного народа.
Царь Федор бесстрастно спокоен, всегдашняя улыбка не покидает его бледных губ.
Бояре совещаются, что предпринять.
А шум народный растет и растет…
– Бояре! – кричит вбежавший стрелец, – они снаряд уставили против Фроловских ворот. Разбить их хотят.
Бояре всполошились.
– Что делать?
– Приказать им разойтись и ничего больше, – пролепетал Бельский.
На него только покосились. Несчастный боярин тяжело вздохнул и потупился.
Борис Федорович наклонился к царю и что-то шепнул.
– Так-так, Борисушка. Делай как знаешь, – промолвил Федор.
Годунов поднялся.
– Царь приказывает, – все бояре встали, – послать опросить народ, что ему надобно.
– Кого послать? – спросили сразу несколько голосов.
– Мстиславского! Юрьева! Щелкаловых! – выкрикивали имена.
– Как скажешь, государь? – спросил Борис Федорович.
– Их… Пусть они идут… – пробормотал царь.
Ему, казалось, лень было говорить.
Мстиславский, Юрьев и дьяки Андрей и Василий Щел каловы поклонились царю и вышли.
Между тем народу надоело ждать.
– Вали, что ли, ребята! Чего ждать-то? Пальнем, – промолвил тот же парень, который надоумил народ притащить снаряд, и с этими словами он взял банник.
– Постой! Недоброе ты зачинаешь, – проговорил кто-то за его спиной.
Парень запальчиво обернулся.
Парня остановил не кто иной, как Марк Данилович. Он спокойно сидел дома, когда услышал необычный шум в городе, набат. Он выскочил на улицу, вмешался в толпу и был вынесен людской толпой к Фроловским воротам.
– Что приключилось? – спрашивал он по пути.
– А, вишь, Бельский боярин извел царя Ивана, а теперь норовит и Федора Иоанновича извести, а на стол царев посадить Годунова Бориса Федоровича. Вот мы и хотим до царя дойти, порассказать ему все, батюшке, и со злодеем Бельским расправу учинить.
– Вот оно что! Да ведь это – вранье! Быть того не может.
– Толкуй, вранье! От людей умней тебя слыхали, что все это – правда истинная! – и говоривший с неудовольствием отвернулся от Кречет-Буйтурова.
Увидев «снаряд», направленный на Кремлевские ворота, молодой боярин понял, что дело серьезнее, чем он думал. Он возмущался легковерием народа, однако увещать толпу было и не безопасно, и бесполезно, и он оставался простым зрителем до тех пор, пока не начали заряжать пушку. Тут он не выдержал.
– Ты что за указчик? – повторил парень. – Много вас тут таких. Проваливай!
– Верно, верно, Петр Тихоныч! Не слушай его, начиняй пушку, – сказали несколько человек.
Марк Данилович понял, что у парня здесь порядочно единомышленников-знакомцев. Несмотря на это, уступать Кречет-Буйтуров не подумал: не помешать стрелять в Кремль ему казалось чем-то вроде измены.
– Не след, не след, молодец, – решительно проговорил Кречет-Буйтуров и взялся за конец банника.
– Сказано, ты мне – не указчик! Пусти!
– Не пущу.
– Пусти лучше! – с угрозой промолвил Петр Тихонович.
Молодой боярин молчал, но не выпускал банника. Противник хотел взять силой, рванул в свою сторону, но бесполезно, и озлился пуще црежнего.
– А! Ты так! – вскричал он. – Так на же, получи!
И он нанес Кречет-Буйтурову увесистую оплеуху. Голубые глаза Марка Даниловича загорелись недобрым огнем. Он размахнулся в свою очередь, и Петр Тихонович шмякнулся на землю, выпустив из рук банник.
– Вали на него, ребята! Чего он тут дерется! – закричали приятели упавшего и плотной толпой надвинулись на боярина. Поднялся также и Петр Тихонович и присоединился к нападавшим.
Марк Данилович понимал, что его жизни грозит смертельная опасность. Он был один среди многолюдной, возбужденной и враждебно настроенной против него толпы. Но избежать опасности не было возможности, оставалось только защищаться. И он защищался как лев. В натуре даже самого лучшего человека есть зверские инстинкты, они дремлют до поры, до времени, но наступит момент – и они проявятся, и сам обладатель их удивится, какой зверь сидел в нем. Молодой боярин хотел только защищаться, но, увидав кровь на лицах противников после своих нескольких удачных ударов и, в свою очередь, испытав боль от побоев, он почувствовал, что со дна души его поднимается что-то дикое, страшное и могучее, что это «что-то» охватывает все его существо, заставляет быстрее подниматься руки и с удвоенною силою опускаться на противников, кровавою дымкой заволакивает ему зрение и вызывает в груди мучительную, непреодолимую жажду крови. Мало-помалу, он перестал различать лица своих врагов. Какая-то темная кричащая масса лезла на него, и он с злым звериным рычаньем бил, отталкивал эту массу.
У Марка не было оружия. У противников оно было, но они, имея дело с безоружным, пустили прежде всего в ход не оружие, а кулаки. По мере же того, как драка становилась более ожесточенной и все более и более накоплялось переломленных могучим кулаком боярина челюстей и ребер, руки бойцов начали все чаще и чаще, словно магнитом, притягиваться к рукоятям ножей и топоров. У кое-кого уже сверкнуло в руке еще безвредное для Марка лезвие ножа.
Очевидно, начиналась развязка драмы.
– Ах, вы, бесстыжие! Сотня на одного нападает. Ишь, ножи еще вытаскивают! Каины! Держись, держись, молодец! Я тебе подсоблю!
И пара дюжих кулаков замелькала в воздухе рядом с кулаками Марка и скоро дала себя знать головам его противников.
Этот возглас заставил Марка Даниловича несколько опомниться. Туман, застилавший ему зрение, развеялся. Он увидел бьющегося бок о бок с ним плечистого молодого человека, целый круг искаженных злобой, частью окровавленных физиономий, за этим кругом плотную толпу не то его противников, не то простых любопытных, а дальше необозримую, пеструю массу народа. Что-то похожее на страх шевельнулось в душе молодого боярина.
«Смерть сейчас!» – мелькнуло у него в мозгу. Но он усилием воли подавил робкое чувство и продолжал борьбу, если не с прежнею горячностью, то все же с неменьшею удачей. Его неожиданный сотоварищ, работая кулаками, не переставал говорить. Он взывал к справедливости окружающего место побоища люда, говорил, что нигде не водится, чтобы на одного да сто нападало, что так даже и басурманы не делают, не то что христиане, и много еще в этом роде.
Мало-помалу в толпе началось движение, и послышались возгласы: «Точно что… правду говорит…»
А сотоварищ Марка все продолжал говорить и вдруг прервал речь восклицанием:
– А ну ж, христиане православные! Выручите!
Эти слова возымели удивительное действие. Толпа колыхнулась, притихла и вдруг разом несколько десятков человек двинулись на выручку.
Марк Данилович облегченно вздохнул: он понял, что спасен.
Завязалась свалка, но уже не одного с десятерыми, а многих со многими же. Эта драка напоминала битву; а тот, из-за кого весь сыр-бор загорелся, теперь не возбуждал ничьего внимания и спокойно обтирал свое разгоряченное лицо.
Дралась, быть может, всего какая-нибудь сотня человек – ничто в сравнении с двадцатитысячной толпой. Поэтому, когда из груди этой многотысячной толпы вырвался крик: «Бельского!» – побоище моментально прекратилось, недавние бойцы обернулись к Кремлю узнать, в чем дело.
На стенах стояли бояре Юрьев, Мстиславский с дьяками Щелкаловыми.
Юрьев задал вопрос и получил ответ:
– Бельского!
– Что же вам надо от него? – спросил Мстиславский.
– Выдать нам изменника! Головы его! Бельского! Бельского! – гремел ответ, от которого дрожали кремлевские стены.
– Бельского! – донеслось во дворец.
Глаза всех бояр, заседавших во дворце, моментально уставились на несчастного боярина. Он побледнел еще больше, съежился и вдруг, словно сорвался, бросился бежать, метнулся в одну сторону, в другую, кинулся в царскую спальню и забрался под кровать.
А из толпы неслись крики:
– Царя Ивана уморил! Злоумыслит извести царя Федора Ивановича!
Когда посланные вернулись, бояре уже хорошо знали, в чем дело. Никто из них не верил во взводимое на Бельского обвинение, но… но они помнили его надменность, помнили, что он был любимцем Грозного, знали, что он хочет верховодить в думе, а потому… нашли нужным судить его. Однако Борису Годунову, которого считали другом Бельского, этот суд, как думали, должен прийтись не по душе, но он не протестовал, и судбище сейчас же открылось. Несчастного боярина вытащили из-под кровати и привели. Он дрожал как осиновый лист, был жалок в своем страхе. Начался допрос, весь исполненный злобною мелочностью, злорадною возмояшостью безнаказанно жалить. Один Борис Федорович молчал. Обвиняемый кидал на него умоляющий взгляд, но лицо его друга было холодно и непроницаемо.








