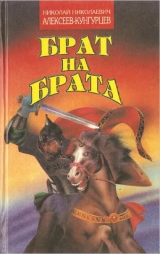
Текст книги "Брат на брата. Заморский выходец. Татарский отпрыск."
Автор книги: Николай Алексеев-Кунгурцев
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 17 (всего у книги 50 страниц)
Прошла уже неделя с того дня, как Аграфена была назначена в дом на работы. Боярин ни разу не потребовал ее к себе, не взглянул на нее. Казалось, он о ней забыл и думать. Опасения Груни разбивались, и она опять стала такою же веселой, такою же хохотуньей, какою ее привыкли знать ее подруги. Со всеми сотоварками по работе она сдружилась, и случившееся в первый день ее поступления в господский дом, казалось, было предано полному забвению как ею самой, так и ее сотоварками. Только одна Таисия как-то странно на нее посматривала, хотя не проявляла резко своей неприязни. Порою Груня также подмечала на себе грустный взгляд старухи Феклы Федоровны, и вопрос: «Почему Фоминична так смотрит на нее?» – не раз мелькал в ее голове. Но через мгновение старая ключница опять принимала обычный вид, спокойный и довольный, и Аграфена успокаивалась.
Одно ее огорчало: Илья как будто бы несколько переменился к ней. Правда, он по-прежнему жарко целовал ее, — пожалуй, еще жарче, – по-прежнему крепко обнимал, но что-то странное подмечала Груня иногда в его глазах. Они смотрели пытливо, почти подозрительно.
– Что ты, Илья? – спрашивала Груня, подметив такой взгляд.
– Как «что»? Я ничего… – бормотал он и называл ее любимой своей, голубкой, а через минуту опять новый такой же пытливый взгляд.
Конечно, трудно было догадаться девушке, «откуда ветер дует». Перемену в Илье Лихом – так этот холоп был прозван своими товарищами – она приписывала только себе, винила себя, что мало ласкова с ним, что редко видится, и старалась поэтому пользоваться всякою свободною минутой, чтобы с ним повидаться, удваивала свои ласки. Но это мало помогало – Илья с каждым днем становился все мрачнее, и уже не подозрение, а злобу выражали его глаза.
А «ветер дул» ни откуда более, как со стороны Таисии.
Она почти каждый день, как будто случайно, встречалась с Ильей, Заговаривала с ним и целый ушат клеветы выливала на голову бедной девушки. Разговор она заводила исподволь: сперва начинала жалеть «бедную Груньку», потом следовало: «а только, знаешь, и сама она…» и черная клевета слагалась нить за нитью в крепкую сеть.
Илья посылал Таську Рыжую ко «всем чертям», обрывал ее, говорил, что она врет, даже бросался на нее с кулаками. Она уходила с оскорбленным видом, бормоча:
– Мне что ж! Я ведь для тебя… Коли хочешь, так пусть она тебя за нос водит.
А Илья оставался мрачный, расстроенный. Он не верил, не хотел верить, но сбмнение против воли уже шевелилось в его уме.
«А что, если и впрямь?» – мелькала мысль, но он гнал ее, как недостойную.
А на другой день новые нагороры, новые муки. Злое семя было брошено и давало всход.
– Жаль Груньку, – сказала однажды Илье Таська Рыжая.
– Ну, что еще? – недовольно спросил он ее.
– Совсем пропадает девчонка!
– Опять брехать начнешь?
– Брехать так брехать. Не любо – не слушай. Сам же в дурнях останешься.
– Ты ведь брехунья ведомая.
– Брехунья, брехунья! Не я одна – все скажут, спроси любую.
– Да что скажут-то? – презрительно спрашивал Илья, а сам побледнел.
– Да то и скажут, что Грунька сама в полюбовницы боярские хочет.
– Не ври! – гневно обрывал ее Илья.
– Скажи правду получше меня, коли сумеешь. Спроси кого хошь, было али не было, что сегодня утречком подходит Фекла Фоминична показывать вышивку гладью, а Грунька ей: «Полно, бабушка, Фекла Фоминична, говорит, все равно гладью мне не шить: не так моя жизнь устроится». И смеется сама… Этакая оглашенная!
У Ильи глаза налились кровью.
– Врешь, врешь, поганая! – крикнул он и замахнулся.
Таська отбежала и закричала издали:
– Бесстыжая девка твоя Грунька! И сам ты дурак – и ничего больше. Ему правду говорят, добра желаючи, а он: «Врешь! Врешь!» Дурень, пра, дурень!
Слова Рыжей не были голым вымыслом, в них была доля истины, как во всякой клевете, но этой истине был придан иной смысл. Действительно, Груня сказала ту фразу, которую Таиса передала Илье, но в передаче был отрезан конец ее: после «не так моя жизнь устроится» Груня добавила: «чай, как выйду за Ильюшу моего, так мне придется не узоры шелковые выводить, а щи да кашу варить – вот этому бы учиться надо».
На Илью этот разговор с Таисой подействовал самым удручающим образом. Он не помнил себя от гнева и ревности. Когда вечером он свиделся с Груней, он обошелся с нею так грубо, как никогда прежде, и она ушла от него в слезах.
Илья понял, что, если так пойдет дальше, то выйдет Бог знает что. Надо было положить конец мукам. Он решил не медлить более со сватовством и, выбрав минуту, когда боярин будет в духе, попросить у него дозволения взять за себя Аграфену. Без того ему нельзя было жениться. Он не был крепостным – тогда крепостного права еще не существовало – он был в кабале у боярина, т. е. обязался быть его рабом, пока не уплатит занятой у боярина суммы, а нужной суммы, быть может, очень малой, каких-нибудь трех – пяти рублей, взять было неоткуда, и кабала превращалась в полное господство одного над другим.
X. СТРОПТИВЫЙ ХОЛОП И КРУТОЙ БОЯРИНУ Степана Степановича были свои доморощенные портные и сапожники, поэтому новый кафтан и новые сафьянные чоботы для Марка Даниловича скоро поспели. Материя и камни для украшения, разумеется, были куплены, как было условлено, у дядюшки за очень и очень кругленькую сумму.
– Ну, вот, теперь хоть есть все-таки в чем тебе на люди показаться. И, чай, теперь можно и в Москву съездить?
– Что ж, поедем! – охотно согласился Марк.
Ему хотелось посмотреть на этот родной и вместе чужой город, виденный им во сне и незнакомый наяву.
У Степана Степановича был в Москве свой дом.
– Я, знаешь, не живу в нем теперь потому, – объяснял он племяннику, – что в вотчине много спокойнее. Знаешь, царь у нас крутенек; часто будешь показываться – того и гляди в опалу попадешь; так лучше подальше от греха.
С племянником он решил остановиться в своем доме. За день до их отъезда был отправлен в Москву ключник Иван Дмитрич с несколькими холопами, чтоб все там подготовить к приезду.
День отъезда в Москву выпал ясный и теплый.
– Ишь, денек-то какой! Солнце-то, солнце! Благодать! – говорил Марку Даниловичу Степан Степанович, спускаясь с ним с крыльца к поджидавшим их саням. Боярин, по-видимо– му, был в очень хорошем расположении духа.
Как всегда бывало при отъездах, у крыльца стояла целая толпа холопов – их согнали прощаться с господином, словно он уезжал за тридевять земель и Бог знает на какой долгий срок. Впереди всех стоял Илья Лихой. Он был бледен и, видимо, волновался. Свою шапку, которую он держал в руках, он смял чуть не в блин.
Анфиса Захаровна вышла провожать мужа. Катя выглядывала из сеней. За нею теснились холопки с Феклой Федотовной во главе. В числе их были и Аграфена, и Та– исья.
Груня едва взглянула на толпу холопов, сейчас же заметила Илью, заметила и его взволнованный вид. Сердце ее екнуло. Предчувствие подсказало ей, что Лихой что-то задумал, и это «что-то», как она могла догадаться, было не чем иным, как просьбой о дозволении жениться на ней, на Груне. Девушка испытывала что-то вроде страха; она изменилась в лице и украдкой перекрестилась.
– Ты смотри, Степан, вези с оглядкой. Знаешь, дороги теперь какие, упаси Бог вывалишь, – кричала Анфиса Захаровна кучеру.
– Да что ты, мать! Дети малые мы, что ли? Мы и сами Степку, коли что не доглядит, взъерошим во как! – со смехом сказал Степан Степанович и добавил, обращаясь к Марку: – Ну, лезь в сани, племяш!
– Боярин! Степан Степанович! Заставь Бога за тебя вечно молить! – раздался голос из толпы холопов.
Кречет-Буйтуров обернулся к ним.
– Надо кому что?
Илья вышел и повалился в ноги своему господину.
– Что тебе? – спросил боярин.
– Батюшка-боярин! Дозволь пожениться!
– Пожениться? Что ж ты это разом надумал, что ли, что не вовремя просишь? Видишь, еду, некогда мне… На ком же ты жениться хочешь?
– На Аграфене.
– На Аграфене? Приглянулась девка?
– И-и! Куда как!
– Ишь ты! Даже куда как, хе-хе! Ну, женись, что же, дозволяю. Детей больше разводите – мне выгодней, хе-хе-хе!
Илья ударил лбом в землю.
– Благодарствую, батюшка-боярин! – вскричал он радостным голосом.
– Женись, женись, коли охота пришла! – говорил, уже усевшись в сари, Степан Степанович, а потом добавил – Это которая же Аграфена? У нас их три.
– В дому у тебя служит.
– Что-то не помню.
– Служила прежде на дворе, а намедни ты сам ее на работу в дом назначил.
– А, вот которая! – протянул боярин и насупил брови. – Ну, на этой тебе жениться нельзя! – неожиданно отрезал он.
В первую минуту Илья остолбенел, потом пробормотал:
– Почему же?
– Не пара она тебе.
– Смилуйся, господин! – взмолился холоп.
– Нельзя, нельзя! Ну, что тут толковать! Прощай, жена, прощай, Катя. Трогай, Степан!
Илья уцепился за сани.
– Боярин! смилуйся, Бога ради!
– Нельзя, нельзя!
Холоп не отставал и бежал за санями. Степан Степанович грозно нахмурился.
– Пошел прочь! Нельзя, говорю, и шабаш! Ну? Прочь! – крикнул он, замахиваясь на Илью.
– Боярин! Смилуйся! Люба она мне…
Он не договорил – боярский кулак больно ударил его в лицо.
– Побей, побей! Только ее мне отдай! – вопил Илья.
– Одурел ты совсем, холоп. Ну, Степан, подстегни коней.
Кони дернули. Сани стали выезжать за ворота.
Илья вдруг озверел.
– Бога ты не боишься, боярин! Сердца в тебе нет человеческого! Волк ты, а не человек! Хуже волка – прелюбодей нечестивый! – неистово закричал он.
– А! Ты так! Стой, Степан! – грозно крикнул Кречет– Буйтуров, выскочил из саней и кинулся к холопу.
– Не подходи – убью! – прорычал тот и так грозно сверкнул глазами, что Степан Степанович круто повернул назад.
– Гей! Люди! Взять его! Бить его на конюшне, пока душа в нем держится! – с пеной у рта прохрипел он.
– Забей, забей до смерти! – Это лучше будет, окаянный! Волк! Блудник! – кричал Илья.
Несколько холопов кинулись на него. Через минуту он уже лежал связанным на снегу.
Марк Данилович, молча смотревший на происходившую перед ним сцену, не выдержал, когда несчастного холопа потащили к конюшне.
– Дядя! Бога ради, прости его! – сказал он.
– Нет, как можно! – запротестовал Степан Степанович.
– Ну, для меня… Сделай милость!
– Не мели пустяков! Его надо выпороть. Этакий озорной холопишка!
В добрых глазах Марка засветился огонек.
– Если ты его не простишь, то ты мне – не дядя, а я тебе – не племянник, – отчеканил Марк Данилович.
Дядя довольно свирепо посмотрел на него, потом погладил свою бороду, словно раздумывая, выгодно или невыгодно ссориться с племянником, крикнул холопам: «Отпустить!» – и, не глядя на Марка, быстро уселся в сани. За ним сел снова и племянник.
– Ну, трогай живее, что ли? – крикнул кучеру боярин так гневно, что тот с перепугу принялся нахлестывать лошадей.
Кони рванули. Сани круто повернули за ворота.
XI. ЦАРЬ ИВАН ГРОЗНЫЙ НА ПОРОГЕ СМЕРТИЯркое солнце не может проникнуть сквозь плотные занавесы окон. В комнате полутьма. Смутно рисуется большая, широкая и высокая кровать с резными золочеными ножками, с бочками из слоновой кости и черного дерева. Над кроватью полог темный, бархатный, с вышитыми золотом двуглавыми орлами. Тяжелые золотые кисти свесились с полога и висят недвижно, не качнутся – в комнате нет ни малейшего движения воздуха. За пологом еще темней.
На белом шелку подушки виднеется желтое лицо с впалыми закрытыми глазами. Жидкие, длинные усы окружают плотно сжатые тонкие губы, падая к подбородку, с которого спускается на грудь сильно тронутая сединой поредевшая борода. Косматые нависшие брови сдвинуты над крючковатым длинным носом. Теплое одеяло отброшено и не закрывает длинного тощего тела.
Неслышно приотворилась дверь. Трое мужчин вошли в комнату и приблизились к постели.
– Царь спит, – сказал один из них, тихонько приподняв полог.
– Пусть взглянет лекарь. БогДан! Посторонись-ка, – заметил другой.
Третий мужчина, иноземец, судя по его одежде, отстранил Богдана и наклонился над царем.
Через минуту он выпрямился.
– Ну, что, Якоб? – спросили бояре.
– Шшш..! – замахал тот и шепотом сказал ломаным языком: – плех…
– Надежи нет? – спросил первый, Богдан Яковлевич Бельский.
– Дышейт плех… Сил плех… День ри аль пять по– жиль… – опять шепотом ответил доктор-англичанин, Роберт Якоби.
Бояре покачали головами.
Больной царь пошевельнулся.
– Борис! – слабо проговорил он.
– Я здесь, царь-государь, – ответил второй боярин, Борис Федорович Годунов, и сделал знак врачу уйти.
– Отдерни полог – тьма! Света хочу, тьма и в могиле будет, – сказал царь Иван Васильевич.
Борис Годунов исполнил приказ царя.
Грозный различил в полутьме недвижную фигуру Бельского.
– Кто это? Кто? – воскликнул Грозный, и в его голосе послышался страх.
– Это – Бельский.
– А! Богданушка. А я думал – тень… Чудиться теперь мне стало часто разное… Жизнь былая да люди разные проходят передо мною…
– Это, царь, наваждение от лукавого, – заметил Бельский.
– Сегодня мне снился мой Иванушка, – продолжал Грозный. – Звал он меня к себе… Умру я скоро… Скоро умру? А? Борис? Богдан? Что вы молчите? Где другие бояре? Почему вы одни здесь? Извести меня хотите? А? Придушить? Думаете, слаб, недужен… Нет! Я здоров опять! Вишь, я сел!
Царь, действительно, под действием внезапного возбуждения найгел силы приподняться.
– Помилуй, царь-батюшка! Смеем ли мы замыслить тебя извести? – робко пробормотал Богдан Яковлевич.
– И зачем ты толкуешь о смерти и болезни? Ты здрав, слава Богу, так чуть прихворнул было. Господь даст тебе еще многие лета, – промолвил Годунов.
– Да, да! Ты говоришь правду, Борисушка. Нет, нет, прости, я сгоряча сболтнул, будто вы извести меня хотите, оба вы – мои верные слуги… Я еще долго буду жить назло ворогам. Я такой крепкий, сильный. У меня много ворогов. У! Тьма! Везде они, везде! Проклятые!.. Борис! Богдан! Ко мне! Ко мне! – вдруг неистово закричал он.
– Что с тобой, государь? – кинулись те к царю.
Иоанн Васильевич судорожно ухватился за их руки.
Лицо его было искажено, в глазах выражался ужас. Он трясся всем телом.
– Там! Там! – шептал он, смотря в темный угол опочивальни.
– Господь с тобой! Тут никого нет, – сказал Бельский.
– Шшш!.. Услышат… «Они» не вид… Увидели! Ты кто? Ты кто? Воротынский? А? Умру? Врешь! Не смей, холоп! Посох мой! Посох! Света!
Борис Годунов бросился к окну и почти сорвал занавес. Целый сноп солнечных лучей ворвался в опочивальню.
– Уф! – с облегчением вздохнул Грозный. – Ушли… Дайте ферязь.
– Ты хочешь встать, царь? Лекаря запрещали, – промолвил Богдан Яковлевич.
– Молчи, раб! Я хочу стать здоровым… Я здоров. Ферязь мне и посох!
Царь встал, но покачнулся и едва не упал. Бояре его поддержали. На него надели ферязь, дали посох, посадили в кресло на колесах.
– Я здоров, но еще слаб… Это ничего, это пройдет… Борис! Волхвы на какой день предсказали мне смерть [35]35
Говорят, что Грозный, заболев, призвал астрологов и спросил их, поправится он или умрет. Они предсказали ему смерть 18-го марта.
[Закрыть]?
– Не помню, государь, – пробормотал Годунов.
– Не помнишь? Это хорошо, что не помнишь – холоп не должен заботиться о смерти своего владыки. Они мне сказали, что я умру восемнадцатого марта. Они солгали – их подговорили бояре, чтобы тешиться моим страхом. А я не боюсь. Не боюсь, не боюсь! – кричал он, с яростью ударяя острым посохом об пол. – Пусть только минет восемнадцатый день. Увезите меня отсюда!
Годунов и Бельский вывезли царя на кресле в смежную комнату. Там толпилось довольно много бояр, окольничих и иных дворцовых чинов.
Все поклонились до земли.
Царь окинул собравшихся суровым взглядом.
– Что собрались? Смерти моей ждете? Ан, с Божьей помощью, мне полегчало. Скоро совсем окрепну и тогда изведу крамолу на Русской земле. Везите!
– Куда прикажешь, государь?
– Туда, где собраны мои сокровища. Намедни я обещал аглицкому немцу Горсею показать свои камни самоцветные, да хворь помешала. Теперь покажу. Везите меня и его пошлите ко мне.
В довольно обширную палату лились потоки солнечного света. Лучи упали на яхонты, изумруды, алмазы и дробились тысячами разноцветных искр. В этой палате было что посмотреть! Не говоря о множестве братин золотых и серебряных, таких же чаш, ковшей, кубков, с хитрой чеканкой и разных форм, то в виде какой-нибудь причудливой птицы, то в виде единорога, льва или какого-нибудь мифического зверя, блюд таких размеров и тяжести, что их с трудом могли поднять двое сильных людей, здесь находились драгоценные камни, редкие по величине и игре.
– Посмотри-ка, – говорил Грозный Горсею, бритому англичанину, стоявшему вместе с толмачом подле царя. – Посмотри-ка на этот камешек. Найди у кого такой! Грань-то какова, а игра, а цвет! Ишь, что кровь, и в искрах вей!
Грозный вертел перед собой рубин, величиной с крупный орех. Он поставил его под солнечный луч, и камень брызнул тысячью кровавых искр.
Горсей ахал и покачивал головой. На губах царя играла довольная улыбка, в тусклых серых глазах светился огонек. Странно было видеть такую улыбку на лице, на которое смерть, казалось, уже наложила свою печать.
И так царь брал камень за камнем и вертел дрожащими от слабости пальцами, подносил к глазам, любовался искрометным сверканием.
Уходящий из мира тешился мирскими игрушками.
Вдруг царь покачнулся. Алмаз, который он в это время держал в руке, выпал и покатился по полу, брызжа тысячью радужных искр.
– Душно! Жжет! – крикнул Грозный и схватился за ворот сорочки.
Страдальческое выражение сменило недавнюю улыбку, глаза потухли, на желтоватое лицо лег серый налет. Борис Годунов и Богдан Бельский поспешно отвезли царя обратно в опочивальню. Прибежали спальники, ближние бояре. Иоанна Васильевича раздели, уложили в постель. Холодный пот выступил на его лбу, тело извивалось в судорогах.
– Царь помирает! – пронеслось между боярами.
Пришел духовник, послали за царевичем Федором.
Но опасения были напрасны: Грозный еще не умирал. Это был только припадок.
– Жжет меня! Огонь внутри! Грехи жгут, грехи… Грешник я окаянный, отвергнутый Б oгом . О Боже! Сжалься Ты, сжалься надо мной, окаянным! Бояре добрые! Дети мои! Молитесь, да поможет мне Господь, да умилосердится надо мною! – говорил царь среди страданий.
Все находившиеся в опочивальне бояре и царевич Федор опустились на колени. Священник надел эпитрахиль, и через минуту в тихой комнате раздались слова молений «об исцелении царя недужного».
– Молитесь, жарче молитесь, дети! – говорил царь и сам вслух читал молитвы.
Постепенно судороги прекратились. Когда окончился молебен, Грозный тихо лежал на спине, смотря перед собою неподвижным взглядом.
Царский духовник шепнул что-то Бельскому. Тот кивнул головой и, неслышно ступая, тихо подошел к ложу Ивана Васильевича.
Грозный, казалось, не заметил его.
– Царь! – тихо промолвил Богдан Яковлевич.
Царь не шевельнулся.
– Царь! – повторил он громче.
Грозный вздрогнул и обернулся. На его лице выразилась непривычная нежность.
– Иванушка! Сын милый! Вот и ты, тебя я ждал.
– Царь! – в смущении пробормотал боярин.
Грозный в ужасе откинулся на подушку.
– Это не Иван! Кто ты? Кто? – крикнул он неистово.
– Я – Бельский, Богдан, слуга твой верный.
– Ах, это – ты, Богдашка! Я тебя не узнал, мне показалось… Стар становлюсь, глаза плоше стали… Послушай, где Ваня?
– Он умер… Что поделаешь! Божья воля.
– Умер? Да… Как же я его видел? – бормотал царь и вдруг сурово спросил: – Тебе что?
– Исцеленье царь от Господа приходит…
– Ну?
– Может, тебе бы полегчало, если б ты причастился Святых Тайн.
– Так! Стало быть, по-твоему, я помираю? Чего ты меня хоронишь, крамольник? Надоел я вам, боярам?
– Вон! Все вон! – прохрипел Грозный.
Бояре, толкаясь, бросились к дверям.
Еще не успели все выйти, как Борис Годунов доложил:
– Царь! Царевна Ирина Федоровна пожаловала проведать тебя. Прикажешь войти ей?
– Ириша пришла? Зови, зови ее! – ласково сказал Иван Васильевич.
Царевна Ирина Федоровна, сестра Бориса Годунова, жена царевича Федора, была красивая молодая женщина. Годуновская порода сказывалась в ней в больших черных глазах, в высоком росте, в стройности и крепости телосложения. Она вошла в царскую опочивальню со слезами на глазах.
– Царь, батюшка мой! Что это ты разнедужился, родной? – с волнением проговорила она, опустившись на колени перед постелью свекра.
– По грехам моим Бог мне немочь послал.
– Легче ль тебе, родимый?
– Легче, легче, Ириша. Так было плохо малость недавно, а только теперь все прошло. Денька через три встану совсем.
– Дай Бог. А я уж так печалюсь, так печалюсь! Все Богу молюсь, чтоб тебе полегчало.
– Добрая ты моя.
Грозный взял ее руку.
– Батюшка! Руки-то у тебя, что огонь! – воскликнула Ирина.
– Это хворь кидает. Это ничего.
– Я скучала, тебя не видя. Сегодня думала – дай пойду навещу царя моего батюшку.
– Спасибо, спасибо тебе, родная!
Он все крепче сжимал ее руку.
Царевна помолчала. Царь пристально смотрел на нее. Тусклые глаза его оживились.
– Ну, что твой Федор?
– Федор Иоаннович здрав, слава Богу!
– Обидел Бог меня сыном, – тяжело вздохнув, промолвил Грозный.
– Он добрый и Бога любит.
– Был бы и недобр, да поумней, лучше б было!
Царевна смущенно молчала, а царь продолжал:
– Встань-ка, Иринушка!
Царевна поднялась с колен.
– Обними да поцелуй меня! – проговорил царь, но вдруг эта просьба сменилась страдальческим воплем: – Ко мне! Жжет! Душит!
Когда бояре вбежали, Грозный бился в сильнейшем припадке.








