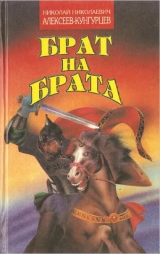
Текст книги "Брат на брата. Заморский выходец. Татарский отпрыск."
Автор книги: Николай Алексеев-Кунгурцев
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 36 (всего у книги 50 страниц)
Всю ночь напролет не забылась сном Марья Васильевна. Наутро поднялась бледная, куда и румянец былой делся, глаза заплаканы.
Села за пяльца – шелка путает, не идет работа на ум, дело из рук валится. Так и бросила. Смутно на душе у нее. Ходит она с угла на угол по светлице своей да думушки думает невеселые. А подумать есть о чем! Теперь уж не только тоска снедает о друге далеком, а есть еще и другая работа. Если, Бог даст, вернется Андрей Михайлович, зашлет сватов, а батюшка их прогонит, что тогда? Беда! Лучше бы и на свет не родиться. «Но, может, батюшка смилуется, не ворог, же он дочке своей родимой», – думает Марья Васильевна, стараясь утешить себя хоть кое-какой надеждой. «Нет!» – тотчас же разбивает она сама свою надежду, – «нет!» не таковский нрав у батюшки! Кремень человек! Хоть умирай, а он честью своей не поступится! Если, как матушка говорит, ниже себя он считает Андрея Михайловича, то не примет его сватовства… Как же быть? Ведь так нельзя? Ведь этак с тоски высохнешь, ума лишишься, об одном все думаючи? Надо так будет сделать, как матушка сказывала, броситься к его ногам, да молить слезно. Авось смилуется… Одно осталось!
Так и порешила Марья Васильевна, что будет она молить отца, чтоб сжалился над нею и замуж за Андрея Михайловича позволил идти. С этих пор стала она случая ждать, когда отец будет повеселее да к ней поласковее, тогда и сказать.
Прошло не более месяца со дня прощания боярышни с Андреем Михайловичем, как случай поговорить с отцом в добрую минуту настал совершенно неожиданно для Марьи Васильевны.
Вот как это произошло.
Однажды весел и доволен, возвратился от царя Ивана Васильевича отец Марьи Васильевны, «введенный» боярин Василий Иванович Темкин. Царь особенно в этот день ласков был с ним, и радуется боярин царской ласке, и хочется ему, чтобы и все кругом его были, как он, довольны и веселы. Сидит он, пообедав, прихлебывает квас душистый из кубка дедовского, на домашних зорким оком поглядывает да с женой, Анастасией Федоровной, шуткой веселой изредка перекидывается. А Анастасия Федоровна довольна и весела не меньше мужа своего: рада она, что он в духе, потому – крут был боярин, как осерчает… Избави Бог! Тогда и слова не молви… Сидит, бывало, насупив серые, косматые брови, бороду свою, проседью, будто снегом, подернутую, рукою поглаживает, да на всех исподлобья, словно волк, глазами сверкает. Крестятся тогда все его чада и домочадцы:
– Помяни, Господи, царя Давида и всю кротость его! Пронеси бурю злую! – в страхе молятся они.
И недаром страх их разбирает: знают они, что не дай Бог подвернуться кому-нибудь в это время под гнев: милости не будет! И все равно, кто б ни подвернулся: коли жена – соскочит он с сиденья да «поучит» ее порядком, никого не стесняясь, ни людей своих домашних, ни гостей, если они в это время тут есть; коли дочь – схватит за косы да тычками до самой девичьей проводит; про холопов и говорить нечего – запорет до полусмерти на конюшне. Такой нрав был! Осерчает – убить рад, а наградить захочет, так, кажись, озолотить готов. Сегодня не то, сегодня все довольны. Весел он, и у всех легко на душе. Только Марье Васильевне, видно, не по себе. То внезапно ярким румянцем запылают ее щеки, то вдруг румянец сбежит, и в лице ни кровинки. И глаза как-то беспокойно бегают; взглянет она на отца мельком, да и опять отведет от него взгляд поскорее, словно боится, как бы ни прочел он в ее взгляде чего. А сердце ее так и стучит, так и колотится, и. кровь в виски ударяет. В голове же ее так мысль за мыслью и летит, друг друга нагоняет; тянутся думы Марьи Васильевны цепью длинною да перемешиваются одна с другой, словно гуси дикие при перелете; летят себе стройно один за другим, вожатого слушаются, да вдруг ни с того ни с сего замечутся, замечутся и в клубок все собьются, ничего не разберешь, так и думы Марьи Васильевны. Не может она совладать с ними. То шепчет ей мысль: гляди, отец весел, пользуйся! Пади к ногам его, моли да проси, может, и смилуется он, и добудешь ты счастье на всю жизнь… Поторапливайся! Неровен час, понахмурится батюшка, тогда все прости-прощай! Откладывай опять, и снова в девичьей своей по ночам подушку свою окропляй да сердце свое нажимай рукой белою, чтобы не билось так оно в груди от тоски лютой! Соберись с духом, да и действуй, пока время есть!
А уж в это время другая мысль перебивать начинает и совсем иное девице нашептывает:
«Эй, эй! Опаску возьми! Как бы хуже еще, чем теперь, чего не вышло! Вдруг отец не только что осерчает, а еще, чтоб тебя воле своей подчинить и от жениха, который не по сердцу ему приходится, отбить, замуж выдать поскорей захочет за какого-нибудь тебе немилого боярина бородатого. Что тогда? А? Хоть жизни решайся! А, ведь, кто знает, всякое случиться может… То-то! Не спеши! Дай время: может, все перемелется, мука будет! Жди пока, лучше!»
Не знает боярышня, как быть, каких мыслей слушать. То ей хочется пасть пред батюшкой на колени и все поведать, то вдруг боязно становится. Кругом ходит от всего этого голова у Марьи Васильевны, и не слышит боярышня, что ее отец третий раз окликает.
– Марья, а Марья! Да что ты оглохла, никак! Который раз тебя окликаю! – сказал отец.
– Что? – очнулась девушка и слегка вздрогнула. – Что, батюшка, изволишь?
– Говорю, который раз тебя окликаю, а ты не слышишь. Что ты сегодня словно не в себе? – продолжал старик, глядя на дочь.
Девушка вспыхнула.
– Нет… Я ничего, – смущенно пробормотала она, опуская глаза под пристальным отцовским взглядом.
– Ничего! Оно и видно! Нет, уж, дочушка, я старый воробей, и меня на мякине не проведешь! Вижу, что думы о чем-то раздумываешь, – говорил Василий Иванович, усмехаясь.
Боярышня молчала.
– И знаю я тоже, что, как станет девка задумываться, стало быть – держи ухо востро: черноусый, знать, молодец недалеко похаживает да на окна терема поглядывает! Так ли я говорю, Маша? А? Угадал, небось? – шутил отец, не зная того, что, действительно, почти угадал истину.
Пока отец говорил, в Марье Васильевне совершился переворот: решимость взяла перевес, и боярышня решила теперь же переговорить с отцом.
«Коли сам начал – так чего тянуть. Стало быть, судьба!» – думала она.
– Да, батюшка, правду ты молвил, – сказала она, вставая и приближаясь к отцу, а сама вся зарделась. – Да, приглянулся мне добрый молодец, и уж так-то приглянулся, что, кажись, жизнь свою отдать мне за него не жаль! Батюшка! – продолжала она, опускаясь на колени перед удивленным отцом. – Батюшка, дозволь мне за него замуж пойти!
– Встань, Марья! Нешто я Бог, что предо мною на коленях стоишь? – произнес отец, на лице которого уже не было прежней улыбки, однако не видно было и гнева. – Встань, садись и потолкуем, уж ежели на то пошло.
Марья Васильевна повиновалась.
– Вот что скажу я тебе, Марья, – серьезно начал старик. – У нас, на Москве, порядка такого нет, чтобы, раз, девка с молодцом до свадьбы всякие сговоры да свидания учиняли и, два, чтобы девица у родителей просилась замуж ее выдать… Жених должен сватов сам наперед заслать. Какой же это твой молодец, что порядков наших исконных, дедовских не знает, али он роду, что ль, не боярского, тогда и толковать нечего.
– Он боярин и князь, только в Москве его теперь нет, потому и сватов не засылал, – тихо ответила девушка.
– Гмм… В Москве его нет, – произнес отец, и лицо его стало суровее. – В Москве нет, – повторил старик. – Где же он?
– Он в походе с Данилой Адашевым.
– Гмм… В походе… Хорошо, нечего сказать! Молодец на краю земли с татарами бьется, а тут девка просит замуж за него выдать… Славно устроено, нечего сказать! И, надо полагать, коли так все обдумано, шашни-то ваши давно уж тянутся. Честь для девицы красной изрядная! – уже совсем сурово говорил старик, и в глазах его сверкнули огоньки, а седые брови насупились.
Марья Васильевна сидела потупя голову и молчала.
Присутствовавшая здесь же Анастасия Федоровна стала бледна как полотно, и в страхе поглядывала на мужа, чуя приближавшуюся бурю.
Однако пока старик еще, казалось, не изменил своему хладнокровию. Видя молчание дочери, он продолжал:
– Вот что, назову я тебе, коли хочешь, по имени и по отчеству того добра молодца, что люб тебе так. Его зовут-прозывают: Андреем князем Михайловичем, – медленно проговорил он, – а только тебе за ним не бывать! – твердо прибавил он.
– Почему ж, батюшка? – преодолев робость, в смертельной тоске спросила девушка.
– Почему? Многого ты, девка, хочешь, чтоб отец тебе отчет отдавал! Но и то, будь, по-твоему, скажу! Потому, что введенному боярину не пристало дочь свою выдавать за отпрыска татарского! Поняла?
– Что ж, что он не из чисто русских, ведь теперь он верой и правдой царю служит, да и отец его, и дед служили так же, – говорила девушка, забывшая страх пред отцом: горе ее было сильнее страха.
– Все же он татарского рода, и тебе за ним не бывать!
– Батюшка! Он же мне жизнь спас, – продолжала Марья Васильевна.
– Это когда коня-то остановил? Ну, пожалуй, спас. Так что же? Не он, так другой сделал бы это самое… А нашлись бы сразу двое похрабрее да остановили бы в ту пору коня, так за них обоих сразу тебя надо было бы выдать!.. Так выходит! Вот и видно, что волос долог, да ум короток… Ну, да довольно! И то уж дозволил тебе пустого болтать больше, чем следовало. Отправляйся в девичью да за пяльцы садись, это лучше будет!
– Батюшка! – опустилась к ногам отца девушка, вся трепещущая в порыве беспредельного горя. – Батюшка! Родной! Смилуйся! Не губи меня! Без него мне жизнь не красна будет! Он солнышко мое ясное! Смилуйся, родимый! – и она, в слезах, обнимала колени отца.
– Довольно! – загремел отец, вскочив с места, в припадке гнева. – Довольно! Прочь с глаз моих, бесстыдница! Будет, дозволил, поломалась девка, теперь нишкни, а не то выбью дурь у тебя из головы!
– Полно, Василий Иванович, успокойся! – вставила свое слово Анастасия Федоровна.
– А! и ты туда же! Успокойся! Успокоите вы! Смотрела за дочкой хорошо, нечего сказать! Матерью еще прозываешься!.. Дочь на глазах у ней шашни заводит, а она, словно безглазая! У, у! Погоди ж! Мы еще с тобой покалякаем! Выучу я тебя, как за дочкой смотреть! А ты вон с глаз моих! – снова обратился он к Марье Васильевне. – Во-он! Чтоб духу твоего здесь не было, негодница! Ишь, дурь напустила. «Солнышко, говорит, он мое ясное!» Я те задам солнышко выбью дурь-то! И раз навсегда запомни, чтоб я больше об этом татарском выродке и слова не слыхивал! А теперь прочь! Да прочь же, тебе говорят, бесстыдница, про-очь! – и он, схватив за плечи полубесчувственную девушку, с силою вытолкнул ее за дверь комнаты.
Долго еще раздавался по всему дому грозный голос боярина Темкина.
Мало-помалу он затих, и слышались только мерные, тяжелые шаги его.
В доме царила мертвая тишина; все словно вымерло от одного отзвука голоса Василия Ивановича.
А в спальне лежала на постели Марья Васильевна и смотрела перед собой неподвижным, словно мертвым, взглядом. Слез не было, не было и тоски; душу Марьи Васильевны словно одела непроглядная ночь; потух тот светоч, который светил ей. Он был тусклым и слабым, но всё-таки боролся с мраком. Теперь его не стало, и непроглядная тьма окружила душу боярышни. Светоч этот – была надежда. Теперь она исчезла, и уже не тоска о далеком друге, не сомнения и колебания кручинили боярышню, а страшною свинцового тяжестью сдавило ей сердце безысходное горе. И девушка не боролась с ним, а, подавленная его гнетом, лежала без мысли, без движенья, без слез, лишь чутко прислушиваясь к тому, как билось и ныло ее исстрадавшееся сердце.
IV. ВАЖНЫЙ РАЗГОВОРВсе домашние боярина Темкина ожидали, что теперь долго будет гневен он, не скоро забудет то, что произошло между ним и дочерью. И, действительно, долго ходил боярин, словно туча грозовая. Уж весна наступила вполне, солнце так ярко-ярко сияло и птицы, прилетевшие из краев заморских, песни веселые распевали; кажись бы, должна была пройти злоба боярская при такой благодати, а Василий Иванович был по-прежнему угрюм. Знать, лучи солнечные, что льды и снега заставили в реки сбежать ручьями журчащими, недостаточно теплы были, чтобы так же смягчить и твердую душу боярскую! Но вдруг с него злобу, как рукой, сняло. Боярин, грозно поглядывавший на всех, из-под насупленных бровей, однажды вернулся из дворца таким веселым, каким его уже давно не видали!
– Настасья, а Настасья! Подь-ка ко мне! Надо кой, о чем покалякать! – крикнул он жену, едва успев выйти после обеда из столовой избы [60]60
Так называлась столовая.
[Закрыть]в свою одрину [61]61
Одрина – спальня.
[Закрыть].
Удивленная этим приглашением Анастасия Федоровна поспешила к нему.
– Садись, – указал он ей на скамью, – да потолкуем.
– Чай, ты не забыла, – начал боярин, когда Анастасия Федоровна приготовилась слушать, – как дщерь-то наша вздурила?
– Конечно, нет! Мне ль запамятовать это! – воскликнула боярыня.
– Ну, так вот, порешил я дурость ейную выгнать у нее из головы, а чтоб сразу конец положить, задумал замуж ее выдать. Признаться, я уже кое с кем из своих проговорил… Ан, тут ей, девице-то вздурившей, выпало такое счастье, что я и во сне представить не мог! – продолжал, радостно улыбаясь, боярин.
Анастасия Федоровна молчала, внимательно слушая его речь и тщетно стараясь догадаться, кого он нашел себе в зятья, что так доволен.
С утра сегодня, с самого раннего, занят был царь делами разными государственными, и с царицей повидаться не успел. Вот и говорит он мне:
– Сходи-ка ты, Василий, к царице, поклон ей мой низкий передай да спроси, в добром ли она здравии.
Пошел я… Прихожу, вижу, матушка-царица на богомолье собирается…
Ну, уж и красота же наша царица Анастасия Романовна! – отклонился боярин в сторону. – Много раз видал я ее, а сегодня она мне еще пригожее показалась, наряд, должно, ей к лицу был, не знаю… А была она в опашне кармазинного цвета, червчатом, одета, а на петлях нанизан жемчуг с каменьями разными – с яхонтами и изумрудами… На голове кика атлас червчат и запона на нем золотая с алмазами, изумрудами и другими каменьями…
Пришел я к царице, кланяюсь ей.
– Здравствуй, матушка государыня!
– Здравствуй, Василий Иванович! – ласково так отвечает она мне. – Что скажешь?
– Государь мой и царь великий, а твой супруг, Господом данный, повелел мне, рабу своему, низкий поклон тебе, царице, передать и, в добром ли здравии, справиться приказал, – говорю.
– Скажи, отвечает, государю моему, Ивану Васильевичу, что спасибо за низкий поклон, и ему сама такой же посылаю, а сама я в добром здоровье и за него, господина моего, Богу молиться собираюсь.
Я поклон ей отвесил, и выйти собрался, а тут она меня окликнула:
– Стой, стой, боярин-ста! [62]62
Частица «ста» прибавлялась только к первым при дворе лицам; вторым чинам полагалась частица «су», а остальным не прибавлялось ничего.
[Закрыть]
– Чего, государыня Анастасия Романовна, прикажешь?
– Нужен ты теперь царю али нет? Может, дело есть какое спешное?
– Не ведомо, говорю, может, нужен, а может, и нет…
– Так ты скажи ему, что коли ему тебя не нужно, то пусть отпустит со мной на богомолье ехать… А может, ты этого не хочешь?
– Что ты, государыня! – отвечаю. – С радостью великою!
И побег к царю. Доложил ему все, как следовало, и отпросился с царицей поехать. Царь позволил, и я попал в обережатые [63]63
Обережатые – почётная свита.
[Закрыть]царицы.
Когда в собор приехали, стала царица молиться истово так. А я стою позади ее да думаю:
«Матушка! чиста ты, яко голубица, никакого горя у тебя на сердце нет, а молишься ты истово так за ближних, должно, своих; вот у меня горе какое, дочка родная перечить отцу начала да сама себе жениха сватает. Хоть бы ты помолилась за меня, чтоб душа моя от гнева остыла, да за нее, девку глупую, чтоб Господь Бог Милостивый жениха ей послал». Думаю так, крещусь, а на душе тяжко так, тяжко, и вздохнул я тяжело. Царица мой вздох тяжкий услышала, посмотрела на меня зорко-зорко, одначе ничего в храме Божьем мне не сказала, только молиться стала еще усерднее. А как от обедни к дворцу вернулись, вышла она из рыдвана [64]64
Рыдван – карета.
[Закрыть], да и говорит мне:
– Подь ко мне в мои палаты, Василий Иванович, надо мне с тобою покалякать.
– Что, думаю я, за притча! Уж не сказал ли я чего неладного! Даже испужался маленько, по правде молвлю. И дурень я! Мне и на мысль не пришло, что царица вздох мой тяжкий услышала и подумала, что, должно, горе у меня на сердце большое, так и звала, утешить чтобы чем-нибудь… Ведь она милостивица и благодетельница святая! Недаром уж, на что нищая братия, и та ее матерью родной зовет…
Пришла в палаты, села да и говорит мне:
– А ну-ка, боярин, поведай, чего вздыхал тяжко так за обедней?
Я стоял, ровно ошалелый: больно уж неожиданно было. Гляжу на царицу и молчу.
– Что ж не отвечаешь? Али горе свое поведать тебе нежелательно? Коли так, не неволю. Бог с тобой! – вдругорядь молвила она, а сама смотрит так ласково да кротко, что у меня будто сердце растаяло, и, чую, что-то застилать, словно туманом стало: знать, слеза прошибла.
Не стал я таиться перед государыней, поведал все, как у нас с Марьей было.
– Вот оно, какое у тебя горе? – молвила царица и задумалась маленько. – А только отчего ты не хочешь выдать дочку за Бахметова? Хороший он молодец и лицом красавец… Роду-то незнатного, так нешто это беда?
– Беда! – отвечаю я ей. – Беда матушка царица, и не малая! Потому и его самого всегда затирать будут те, кто познатней, и детям, что от него да Марьи на свете явятся, ходу не будет. А каково мне смотреть, что внуков моих за татарских отпрысков считают? Нет, матушка царица, по гроб жизни своей я на это согласия своего не дам!
– Ну, ежели так, – сказала она, – то надо тебе дочку свою замуж поскорее выдать, чтобы забыла о милом своем скореючи, а то изведется с тоски девица красная.
– Да за кого ж, государыня? Нешто ладного жениха скоро сыщешь? Вон у свах много этого товару, да толку мало: все либо мелочь, либо парни нехорошие, озорники… Где тут отыщешь!
Государыня задумалась.
– Слухай-ка, боярин, что я тебе скажу, – молвила она погодя. – Хочешь меня сватьей иметь? – а сама так весело улыбается.
– Еще бы, говорю, нет!
– Коли так, то есть у меня для твоей дочки жених на примете… И красив, и роду не худого, и не стар еще человек.
– Как его звать? – спрашиваю.
– Ишь, не терпится тебе! Ну, так и быть, скажу: князь Ногтев, Данило Андреевич. Ладен ли?
– Конечно, государыня! Это ль не жених! За сватовство благодарствую!.. Век Бога за тебя молить не устану!
– Погоди благодарности-то сыпать, прежде уговоримся. Положим так: с князем я сама потолкую… Он, знаю, браку сему немало радоваться будет; мне кумушки московские уж давно в уши жужжат, что князь Данило Андреевич с тоски по дочери боярина Темкина сохнет: приглянулась она ему очень; а свататься боится, потому, скажу тебе, прости меня, прямо, что нравом ты больно строптив. Опосля устроим уж мы поскорей сговор да смотрины, а ты прикажи жене своей да дочке-невесте приданое шить спешно. Так и порешим. Ну, доволен ли ты?
– Еще б не доволен, государыня!
– Так иди теперь домой с Богом да делай, как уговорено.
Шел из дворца я домой – ног под собой от радости не чувствовал.
– А ты, жена, довольна ли?
– Могу ли честью такой быть недовольна? – ответила Анастасия Федоровна, думая про себя: «Эх, хорошо-то, хорошо! Только девку бедную жаль, больно убиваться будет!»
– То-то! Так с завтрашнего дня и за работу… Да поспеши, смотри, чтоб скорее. А с Марьей потолкуй хорошенько, не осрамила бы чтоб еще на свадьбе нас. Иди теперь, а я сосну маленько, – закончил боярин.
Таков был между Анастасией Федоровной и ее мужем разговор, имевший столь важное и решающее значение для убитой горем Марьи Васильевны.
Выйдя из опочивальни Василия Ивановича, Анастасия Федоровна долго собиралась с мыслями, как бы ей возможно легче передать дочери то, что говорил сейчас Василий Иванович и хоть немного ослабить этот, столь тяжкий для Марьи Васильевны, удар.
V. ВСЕ КОНЧЕНОВелик и хорош был сад боярина Темкина. Пожалуй, лучший в Москве в то время. Вековые липы, под тенью которых, может быть, отдыхал в жаркую пору еще дед нынешнего хозяина, перемешивались с широколепестным кленом или не менее их старым дубом.
А вокруг этих престарелых, но еще полных жизни великанов, прячась под их тенью, рассыпались молодые деревья, покачиваясь от верхушки до корня при таком ветре, который едва заметно колебал вершины двух– и трехобхватных лип и дубов. Внизу, у корней деревьев, густою, колючею чащею пророс крыжовник, темная листва которого резко отличалась от более светлого убора росших рядом с ним кустов красной, белой и черной смородины. Дальше, отделившись от этой группы, словно знатный боярин от смерды, высились яблони всяких пород, вишни, покрывавшиеся весною такою массою белых цветов с розоватым подбором, что за ними не видно было листвы. Тут же и груша виднелась, и слива кой-где. Ближе к забору потянулся малинник, предмет зависти и вожделений для проходящих в осеннее время мимо забора мальчишек, видящих сквозь частокол крупные, сочные ягоды, висевшие на стеблях куста, будто прячась под его сморщенный, словно слоеный, лист.
Наступал вечер. Последние лучи заходящего солнца освещали вершины высоких деревьев. Листва, позлащенная закатом, чуть-чуть шелестела, словно убаюкивая тех пичужек, которые забрались уж в свои гнезда и изредка еще перекликались со своими подругами, также собравшимися на покой. Близилась ночь, и успокоение разливалось в природе. Но не успокаивалась, как все окружающее, тоска, которая грызла сердце Марьи Васильевны, тихо шедшей в это время по одной из дорожек. Бледна и грустна боярышня. Голова упала на грудь, на лбу глубокая морщина появилась, глаза впали. Тихо бредет она, не зная, куда и зачем. Ветка смородины, переросшая своих сестер, задела ее лицо. Боярышня протянула руку, сорвала лист, подержала в руках и бросила… И опять так же тихо пошла дальше. Не видит она солнечного заката, которым так любила в былое время любоваться, не слышит ни тихого трепетания листьев, ни переклички полусонных птиц.
Все забыто, все ей опостылело. И голова ее уже не полна прежними думами; теперь только одна мысль беспрерывно гвоздит ее мозг: «Что делать? Что делать?!»
И не дает ей покоя эта мысль ни днем, ни ночью. Вот и теперь боярышню она же заняла, да так сильно, что та даже не слышит, как скрипит песок под ногами Анастасии Федоровны, которая ее нагоняет.
Только тогда очнулась, вздрогнув слегка, и оторвалась от своей неотвязной думы Марья Васильевна, когда мать, подойдя к ней, положила свою полную руку на ее плечо.
– Что, все грустишь да тоскуешь, Марьюшка, дочка моя болезная? – спросила Анастасия Федоровна, смотря на осунувшееся лицо девушки.
В ответ ей Марья Васильевна только тяжело вздохнула.
– Полно, дочушка, не кручинься! Все пройдет, позабудется и быльем зарастет!
– Нет, матушка, не утешай! По гроб я помнить буду его, моего сокола ясного, по гроб буду слезы лить по нему! – воскликнула боярышня.
– Что ж делать! Помни! Думушка не кусок, за окошко не выкинешь, а все ж и жить надо, как люди живут…
– Я постригусь… В монастырь уйду: коли не его, так Христовой невестой буду!
– И думать не моги! Отец не даст разрешения.
– Сбегу!
– Как же так! – воскликнула немного озадаченная этим решением Анастасия Федоровна. – Нешто можно отца позорить!
– Какой же тут позор? Я не к милому сбежала на пир брачный, а в келью монастырскую… Коли б к милому, тогда позор, а тут что же!..
Анастасия Федоровна немного помолчала, собираясь с мыслями.
– Дочка, дочка! – продолжала она, наконец, с укоризной. – Аль забыла ты пятую заповедь, что противу отца хочешь идти?
– Помню, помню! Да нешто я нарушаю ее? Сказала – не к милому иду, а ко Христу… Про это жив писании сказано… Помнишь, чай, что нам поп из церкви Микольской читал?… Запамятовала? А я помню! Писано там, что, ежели кто любит отца али мать больше Христа, Господа нашего, тот не достоин Его!..
– А все ж не дело ты замыслила, не дело! – качая головой, говорила Анастасия Федоровна, сбитая с толку горячей защитой дочери.
Некоторое время мать и дочь шли, молча, занятые каждая своими мыслями.
– Ну, а если б батюшка тебе не токмо не позволил в монастырь укрыться от света, а приказал замуж идти, что бы ты сделала? – осторожно начала сводить разговор Анастасия Федоровна к тому, о чем она хотела поговорить с ней.
– Коль за немилого – не пошла бы! – отрезала Марья Васильевна, слегка нахмурив брови.
– Супротив отца, стало быть, восстала бы.
– Да, восстала бы.
– Так ведь он силком может тебя выдать…
– Силком, да! Связанную разве под венец поведут на сором всей Москвы… А вольной волею не пойду!
– Ладно! Коль так, не будем об этом и говорить… А теперь скажи ты мне, кто на земле превыше всех?
– На земле – царь, над ним токмо Бог единый, – ответила немного удивленная Марья Васильевна.
– Верно! Должны мы царю повиноваться!
– Еще бы! Ведь он же помазанник Божий.
– А царице?
– И царице, конечно!
– Во всем повиноваться должны? – медленно подходила к намеченной цели Анастасия Федоровна.
– Во всем! Хотя бы живот свой положить приказано было за царя или царицу, и то должны, – говорила боярышня, не думая, что она произносит то самое, что нужно было ее матери.
– Так, хорошо… Ну, а если бы тебе царь или царица приказали не идти в монастырь, а с отцом да с матерью жить, пошла б ты все-таки в монахини?
– Нешто могу ослушаться воли их? Не пошла, бы! – ответила Марья Васильевна, напрасно стараясь догадаться, зачем ведет мать этот странный разговор.
А Анастасия Федоровна все продолжала свой допрос.
– В монастырь не пошла б? Ладно! А если б царица замуж тебе за немилого идти приказала, что бы тогда?
– Что ж делать! Ослушаться – грех пуще, чем милому измена… Вышла бы волей-неволей, – говорила боярышня, дивясь тому, какие вопросы задает ей мать.
– Ну, так идем приданое шить спешно! – радостно воскликнула Анастасия Федоровна.
– Как? – остановилась пораженная Марья Васильевна, с тревогой смотря на мать. – Почто так шутить, родимая? – с упреком продолжала она. – Меня словно ножом кто в сердце ударил… Почто шутишь да смеешься над тоскою моей?
– Да не смеюсь я над тобой, дочка моя родная! Правду истинную я молвила, вот, как перед Богом! Царица тебя просватала!
– Что ты! Может ли быть! – воскликнула, бледнея, боярышня.
– Да, да! Сегодня днем просватала тебя за князя Ногтева, Данилу Андреевича!
Словно громом поразила эта весть Марью Васильевну. «Все кончено!» – мелькнуло у нее в голове. И она стояла перед матерью бледная как полотно, опустив руки… На лице ее застыло выражение ужаса. Словно столбняк на нее нашел; она ничего не видела, не слышала, не чувствовала, вся уйдя в себя, занятая той мукой, которая ей давила сердце, леденила кровь, лишь в мозгу ее продолжала шевелиться мысль: «Все кончено! Все кончено!»
А Анастасия Федоровна, увлеченная своею победой над непокорной девушкой, продолжала передавать подробности сегодняшнего разговора царицы с отцом. Наконец она заметила бледность девушки.
– Что с тобой, Марья, будто неладно чтой-то? Небось, все с красавцем своим расстаться жаль? Горе большое, понимаю тоску твою девичью, да ведь и радость немалая… Помысли только: сама царица сватьей у тебя! То ли не честь!
Полно, не задумывайся, родная! Что было – то прошло! Пойдем-ка лучше приданое шить… Спешить приказано!
И Анастасия Федоровна, взяв дочь за руку, повела ее к дому.
Марья Васильевна почти бессознательно, словно подчиняясь ее силе, пошла с нею. Она не рыдала, только одна крупная слеза пролилась из ее глаза, скатилась на сарафан и упала на песок сада… Это была, казалось, последняя дань былому. Все кончено, все умерло! Для Марьи Васильевны начиналась новая жизнь.








