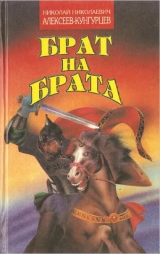
Текст книги "Брат на брата. Заморский выходец. Татарский отпрыск."
Автор книги: Николай Алексеев-Кунгурцев
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 50 страниц)
Лучи утреннего солнца ударили по вершинам вековых елей и сосен в лесу, и темная хвоя их, уже выдержавшая зимнюю стужу и метели, словно посветлела, и легкий пар, едва глазу заметный, потянулся от их веток – это таял морозный налет, кинутый на них утренником. Опустились ниже лучи, облили светом тесовую крышу боярского дома, заиграли на слюде окон и ворвались сквозь их переборку в девичью спальню, сверкнули на золотой кисти постельного полога, и один шаловливый луч ухитрился пробиться и за него и лег светлым, теплым пятном прямо на лицо боярышни. Шевельнулась боярышня, но глаз не открывала, только чуть повернула головку. Это уже не сон крепкий, без сновидений, это – скорей дрема, полная грез.
Сладкая дрема, сладкие грезы! Грезится боярышне знакомое лицо… Серые очи ласкают ее взглядом и нежат… Ей словно жутко немножко, а между тем какая-то сладкая истома на сердце, и то замрет оно, то забьется, заколотится…
Кровь прилила ей к лицу и стучит в виски, а глаза сами ищут встречи с его глазами. И вдруг совсем-совсем близко к ней очутились его очи, и она не в силах отвести от них своих. Жгут, жгут!… Его жаркое дыхание она чувствует на своей щеке.
– Милая! Голубка! – слыйшт она прерывистый шепот.
И вдруг губы его ожгли поцелуем ее щеку. Ее голова — как в огне. Что за смута на душе у нее! Тут и стыд, и радость. Сердце, кажется, из груди выпрыгнет.
Чья-то рука отдернула полог. Солнечный свет так й обдал всю боярышню.
– Катька! Вставай! – прозвучал хрипловатый голос. – Вставай, вставай! Ишь, заспалась!
Невысокая тучная женщина наклонилась к молодой девушке и тормошит ее за плечо. Боярышня слышит, но ей лень шевельнуться, лень открыть глаза. Остатки грез еще не сбежали.
– Да вставай же! – уже с сердцем говорит будившая. – Надо же в церковь собираться. Этак и к обедне не поспеем.
Эти слова произвели удивительное действие на боярышню. Она сразу очнулась-и села на постели.
– Заспалась я, матушка. Вон уже солнце как светит. Давно встать пора бы!…
– Одевайся живей да пей сбитню и Богу молись. Потом и к обедне надо снаряжаться.
– Да, да, сейчас, Феклуша! – крикнула боярышня.
Худощавая, морщинистая старуха в красном повойнике на голове вошла в комнату.
– Заспалась маленько, дитятко? – прошамкала она.
– Да, да… Чуть обедню не проспала. Вот был бы грех! – сказала Катя.
– Богомольная ты у меня, – с умилением проговорила ее мать.
– Твоя правда, матушка-боярыня Анфиса Захаровна. На редкость богомольная: как служба в церкви, так она мне все уши прожужжит: «Феклуша да Феклуша, уговори матушку мою в храм ехать. Великая ей будет за это милость от Господа!»
На Катю эти похвалы производили странное действие. Лицо ее было краснее кумача, глаза беспокойно бегали, избегая встречи со взглядом матери или старухи няньки.
– Ишь, пылает! – усмехнулась боярыня.
– Известно, кто скромен, тот и похвалы стыдится, – заметила нянька.
От этих слов боярышня еще больше разгорелась, чуть слезы на глазах не выступили.
– Феклуша! Помоги мне одеваться, – пробормотала она, чтобы скрыть свое сл$угцение, и думала про себя: «Гадкая я, нехорошая! Всех обманываю… Вовсе я не богомольная, и не из-за богомольства люблю в церковь ездить: очи «его» манят туда, а не молитва».
На другой половине дома боярин Степан Степанович Кречет-Буйтуров сидел за питьем горячего утреннего сбитня. Высокий, плечистый, с чуть приметною проседью в длинной темной бороде, лопатой падавшей на грудь, он казался гораздо моложе своих лет – ему уже было далеко за пятьдесят. У него был орлиный нос, холодные серые глаза, чувственные губы. Глубокая, никогда не расходившаяся складка между густыми, нависшими на глаза, бровями клала суровый оттенок на его лицо. Тонкие, неподвижные ноздри указывали на страстность натуры.
В это утро боярин был довольно хмур. Лениво потягивая сбитень, он морщил свои косматые брови. Ему вспоминался сон, виденный сегодня ночью. Ему снилось, будто он не боярин Кречет-Буйтуров, а волк, настоящий дикий серый волк, и как будто он подбирается к молодой овечке, беленькой, чистенькой, пасшейся среди поля без всякой опаски. И он подобрался к ней и схватил ее острыми зубами, да вдруг, откуда ни возьмись, явился какой-то человек, не то пастух, не то так, простой прохожий, да как вытянет палкой по боку, как схватит его за шею. – «Врешь, – говорит, – не отдам я тебе овечки!» И отнял добычу у волка да еще и бока ему помял. Больше всего боярина досадовало, что ему пришлось явиться в образе волка.
– Я – и вдруг серым волком! Экая глупость! – с досадой бормотал он. – И сон дурашный! Вчера много меда выпил пред спаньем, вот и приснилось.
В дверь просунулась седая голова.
– Что, Ванька?
– А я хочу твою милость спросить, – сказал Ванька, старый ключник боярина, входя в палату, – в санях поедешь в церковь либо в таптане?
– Погода, кажись, ничего.
– Весенний день, одно слово!
– Тогда в санях, только ковриком новым прикрой.
Холоп взялся за ручку двери.
– А сосед-то, Дмитрий Иванович…
– Что? – спросил боярин.
– Шубу себе новую сшил парчовую.
– Это на весну-то глядя! Ха-ха-ха!
– Хе-хе! – подобострастно хихикнул ключник. – Уж наша дворня и то со смеху чуть животы не надорвала.
– Как не смеяться! Это, вишь, он передо мной выказаться хочет. Сегодня в церковь беспременно в новой шубе придет.
– Беспременно!
– Заприметил, знать, что я намедни с усмешкой на его шубенку поглядел.
– С тобой тягаться хочет. Экий дурень!
– А что ж, почему ему не потягиваться? – ухмыляясь промолвил Степан Степанович.
Ключник схватился за бока и закатился деланым смехом.
– Ой-ой, не смеши, боярин! «Почему ему не тягаться!» Да у него и именья всего, что полушка с алтыном! Ха-ха!
– Как, как? Полушка с алтыном?
– Так и есть, боярин!
Степан Степанович расхохотался в свою очередь.
– А ему сегодня нос утру! Приготовь-ка ты мне мой новый тегиляй [23]23
Тегиляй – узкий кафтан с короткими рукавами по локоть, с высоким стоячим воротником – «козырем». Спереди тегиляй застегивался на пуговицах, перепоясывался тесьмою.
[Закрыть]; в церковь поеду – надену.
– Это алтабасный [24]24
Алтабас – ткань по серебряному или шелковому фону.
[Закрыть]?
– Да… приду в храм и нарочно шубу распахну, – жарко, дескать. Пусть моим тегиляем любуется! Ха-ха!
– Как бы с зависти языка не откусил! Хе-хе!
– Пожалуй, что. Однако, солнце уж высоконько. Сбираться пора. Поди и бабам скажи, чтоб они сбирались.
Хмурость Степана Степановича совсем прошла, и он, по уходу Ваньки, долго еще ухмылялся себе в усы и бормотал:
– А я ему нос утру!
В свою очередь Ванька, долговязый старик, с желтым морщинистым лицом, с хитрыми исподлобья смотревшими глазами, выйдя от боярина, ухмылялся во весь рот.
«Ведь вот и не дурак Степан Степанович, а какими глупостями тешится. Спесь заела! Видно, все бояре на один покрой», – думал он.
– Что, Иван Митрич, каков сегодня боярин? Сердит? – спросил ключника молодой парень из дворовых, приставленный к дверям в сенях для доклада о приезжих.
– Был хмур что туча, а теперь что солнышко весел.
– И как это ты, Иван Митрич, сумеешь завсегда боярина развеселить, диву даться можно!
– Не надо дурнем быть самому, а из боярина дурня делать, вот и все уменье, – ухмыляясь пробормотал ключник.
Через час у крыльца боярского дома уже гнула шеи и позвякивала бубенцами тройка добрых коней, запряженная в пестро раскрашенные и прикрытые узорным ковром сани. Скоро из саней выплыла Анфиса Захаровна и, поддерживаемая под руки ключницей Феклой с одной стороны и какой– то холопкой с другой, кряхтя, уселась в сани. Следом за ней вспрыгнула в них боярышня Екатерина Степановна.
Боярин замешкался на крыльце, отдавая какие-то приказания Ивану Дмитриевичу. Тот только кланялся в ответ и приговаривал:
– Слушаю! Сделаем, как твоей милости угодно.
Степан Степанович двинулся было к саням, запахивая шубу, из-под которой алтабасный тегиляй так и блеснул серебром, и остановился.
– Ванька! Кто это? – указал он ключнику на проходившую через дверь девушку-холопку.
– А это ж – Аграфена, дочь Петра-кабального, что помер на Рождестве.
– Да неужели она? Ишь, вытянулась да красоткой какой стала! А я помнил ее девчонкой махонькой. Как я ее не заприметил? – промолвил боярин и крикнул: – Эй, девица! Подь-ка сюда!
Стройная чернобровая и белолицая девушка робко подошла к боярину и, отвесив низкий поклон, смущенно уставилась на боярина черными, как две коринки, глазами.
– Тебя Аграфеной звать?
– Да, – тихо ответила она.
Потом, потрепав девушку по щеке и промолвив с плотоядной усмешкой: «Красотка, красотка!», – боярин сел в сани и крикнул:
– С Богом!
В воротах он еще раз обернулся и, посмотрев на Аграфену, пробормотал:
– Ладная девка!
Анфиса Захаровна только глубоко вздохнула, услышав замечание мужа.
III. ЗАПОДОЗРЕННАЯВ то время, когда Степан Степанович, подозвав Аграфе– ну, беседовал с нею, в глубине двора стоял высокий молодой парень и угрюмо смотрел на эту сцену.
– Груня! – крикнул он, едва боярские сани выехали за ворота.
Та подошла.
– Что, Илья?
– О чем он с тобой говорил?
– На работы в доме назначил.
– Та-ак, – протянул Илья. – А по щеке чего хлопал?
– Красотка, говорит. Ну, и похлопал.
– Ишь ты! Не знаем без него, что красотка! – в голосе парня слышалась ревнивая нотка. – Ты, Груняша, его ласкам не верь.
– Еще б верить!
– Сдается мне, что он тебя неспроста работать в доме назначил.
– Кто его знает! Смотрел на меня так чудно.
– То-то смотрел! Подлезать он к тебе будет, вот что. Так ты, смотри, ухо держи востро.
– Как не держать! Дура я, что ли?
209
– Дура не дура, а только он ходок по бабьей части. Так тебя опутает, что и сама не заметишь.
– Не бойся, не сдамся! Али ты не люб мне, что ли, красавчик мой!
Груня положила руки на плечо Ильи и ласково смотрела ему в глаза.
– Эх, Грунька! Пока не поженюсь на тебе – спокою иметь не буду: и день, и ночь дума одна, как бы кто тебя у меня не отнял!..
– Али не веришь мне, соколик? – с упреком промолвила девушка.
– Тебе ль не верить! Верю, а так вот сам не знаю с чего, точно беды на нас с тобой жду. Сейчас вот, хочешь – верь, хочешь – не верь, как увидел я, что с тобой боярин ласково разговаривает, так у меня сердце и захолонуло.
– Полно, милый, что за страхи! – с улыбкой проговорила Аграфена.
– Грунька! Да скоро ль ты придешь? Али мне тебя тут до ночи дожидаться? – с сердцем крикнул молодой холопке ключник.
– Сейчас, Иван Митрич, сейчас! – отозвалась она, не трогаясь с места. – Вечером где свидимся? – торопливо спросила она у Ильи.
– Приди в сад, знаешь, к дубку, где летом видались.
– Ладно! Только стемнеет, урвусь, прибегу.
С этими словами девушка повернулась, чтобы удалиться.
– Груня! – остановил ее Илья, – Я думаю не мешкая у боярина просить дозволенная нам повенчаться. Спокойнее будет.
– Спокойнее, вестимо. Что ж, попытай! А только вдруг не позволит?
– Никто, как Бог!
– Попытайся, родной! До вечера!
И она быстро отошла от него.
Илья с невеселым лицом смотрел ей вслед.
«С чего это на сердце у меня словно камень?» – подумал он.
Ключник Иван Дмитриевич повел Аграфену к ключнице Фекле.
– Вот, Фекла Федотовна, тебе новая работница… Боярин прислал, – сказал он старухе.
Аграфена низко поклонилась ключнице.
– С чего ж это он тебя, Грунька, со двора да сюда вдруг вздумал? – спросила Фекла.
– Так, – отрывисто промолвила старуха и сжала губы.
– Боярин изволил ее еще и по щеке потрепать, – хихикнув, сказал Иван Дмитриевич и подмигнул ключнице.
– А, вот что! – протянула та и сурово взглянула на Гру– ню. – Ты, может быть, и рада?
– Чего же радоваться? Здесь ли работать, там ли – не все равно?
– Гм… Может, и не все равно. Что же ты умеешь делать? Вышивать знаешь?
– Нет… Так маленько, а только не скажу, чтобы знала.
– К чему ж мне тебя приспособить? Посажу хоть нитки сучить. Пойдем в девичью!
Идя следом за Феклой, Груня дивилась, почему это старуха вдруг словно не та с ней стала: говорит так, будто сердита на нее за что-нибудь.
– Вот вам новая товарка, девоньки. Потеснитесь, дайте– ка ей места в уголку! – промолвила ключница, войдя с Аграфеной в большую, светлую комнату, в которой работали – шили, вышивали с десяток девушек. Все они были знакомы Груне.
– Что это ты, Груняша, со двора, – ведь ты в птичницах, кажись, была? – да вдруг сюда попала? – спросила одна из них.
– Боярин прислал, – ответила за нее Фекла.
– А! – многозначительно протянула спрашивавшая и насмешливо улыбнулась.
Остальные переглянулись между собой.
Фекла Федотовна посадила Груню на лавку, показала, что и как надо работать, и вышла.
Аграфена принялась за дело, но оно не спорилось. Ее смущали эти несколько пар глаз, не то с насмешкой, не то с любопытством устремленных на нее.
«Чего они на меня все уставились?» – думала девушка и чувствовала, что кровь приливает к ее щекам.
В то время, когда она с Феклой подходила к дверям девичьей, оттуда несся громкий говор, теперь же царила тишина. Все словно воды в рот набрали, разве изредка перешепнется одна с другой, ухмыльнутся да и опять замолкнут.
Смущение Груни росло. Работа совсем перестала идти на лад.
– Сделай милость, покажи, как нужно, – робко обратилась она к сидевшей рядом с нею девушке.
Соседка нехотя показала.
– Брось, Грунька! Тебе разве этому учиться нужно? – заметила сидевшая против Аграфены рябая рыжая девка.
Груня вопросительно уставилась на нее.
– Тебе надо учиться целоваться жарче, обниматься крепче. Али тебя уж Ильюшка этому понаучил вдосталь?
Кругом послышался смех. Лицо Груни залилось яркой краской, теперь уже краской гнева.
– Тебе-то что до меня и до Ильи? – вскричала она.
– Вестимо, мне что! Целуйся хошь с ним, хошь с боярином!…
– Рябая корова! – выругалась Аграфена.
– Ишь, ты! «Такая» да еще и ругается, – воскликнула задетая за живое девка.
В это время вошла Фекла и присела среди девушек. Все притихли.
– У меня, Фекла Федотовна, дело на лад не идет, – обратилась к ней Груня.
Старуха отмахнулась равнодушно.
– А ну, как идет! – сказала она и тут же заметила рыжей неприятельнице – Таисья! Чего это ты узлов насажала? Нешто так вышивают!
Аграфена низко опустила голову. Горькое чувство незаслуженной обиды наполняло ее сердце.
– А житье боярским полюбовницам, – спустя некоторое время промолвила как будто вскользь рыжая Таисия.
– Не житье, а масленница! Ешь, пей на серебре, всего вволю, и работишки никакой, – поддержала ее какая-то другая холопка и хихикнула.
– Да! Ноне все любят легкий хлеб! Чести своей ради сладкого житья не жалеют, греха не боятся, – сурово заметила Фекла, кинув взгляд на Аграфену.
Та уловила этот взгляд. Горькое чувство разрослось, переполнило сердце. Она выронила из рук работу, прикрыла лицо руками и зарыдала.
– Что с нею? – всполошилась Фекла Федотовна.
– Стыд пронял, вестимо, ну, и заревела! – сказала Таисия.
– Ты бы хоть, Таиса, придержала язык, не тебе людей корить, на себя бы посмотрела! – строго проговорила ключница, знавшая, что «рыжая Таська», как звала дворня рябую девку, сама далеко не безгрешна.
Таисия надулась. Старуха подошла к Груне. Слезы девушки помирили Феклу с ней.
– Господь с тобой, не плачь, дитятко! – промолвила ключница, ласково гладя черноволосую головку плачущей девушки.
Груня отняла руки от лица.
– За что, за что все на меня напали? – заговорила она сквозь слезы. – Что я им сделала? В полюбовницы боярские я хочу идти, что ли? Посадил меня сюда боярин – его воля… Чем я виновата? А в полюбовницы к нему по доброй воле ни в жизнь не пойду, разве свяжут меня да силою возьмут, а так ни-ни! За что ж корят меня и насмехаются!
– Утри слезы, девица! Никто тебя теперь не станет корить. А ведь раньше кто же знал. Думали, позарилась девка на сладкое житье. Много ведь таких, по другим и о тебе подумали. Подумали, а теперь не думают. Правда ведь, девоньки?
– Не думаем, вестимо, не думаем! – хором ответили девушки; только Таисия промолчала.
– Ну, вот видишь. Что ж плакать? А за прежнее прости и их, и меня, старую. Утри слезки-то, утри!
Долго еще утешала девушку старушка. Постепенно высыхали слезы у Груни, и на душе становилось светло, и лица ее сотоварок-работниц теперь казались ей милыми и добрыми, а улыбка участливой. Да и не только так казалось Груне, так было и на самом деле. Эти простые девушки вовсе не были злыми, и теперь, когда Аграфена, так сказать, открыла перед ними свою душу, они вполне сознали себя виноватыми перед нею и не стыдились просить прощения.
– Ну, что, прошла ли твоя кручина? – спросила Фекла Федотовна, с улыбкой глядя на лицо Груни.
– Прошла, совсем прошла, – смущенно улыбаясь, ответила та.
– Ну, и ладно! Теперь мы и поработаем. Давеча спрашивала ты меня… Я тебе сейчас покажу, дело на лад и пойдет. А вы, девицы, песню бы спели…
– Отчего же не спеть? Споем! Запевай-ка, Наташа!
Наташа-запевала не заставила себя долго просить, и скоро веселая песня огласила комнату.
У всех были оживленные и довольные лица. Одна только Таисия не принимала участия в общем оживлении и сидела, угрюмо насупившись. Ее злобно-мелкая натуршдка не могла успокоиться, и она уже обдумывала месть, гнусную, тайную, на какую только и была способна.
Есть люди, верней – существа, имеющие наружное сходство с людьми, как будто созданные для того, чтобы сеять зло. Такова была и Таиса. Их много, очень много таких Таис; они были и есть во всех странах, они существовали во все времена, как всегда и везде существуют паразиты и гады. Присмотритесь, читатель, к своим знакомым, и вы, наверно, найдете среди них хоть одну такую Таисию. Бойтесь ее, как огня! Она всегда глупа – тем она опасней, она всегда полнейшая бездарность – тем верней вы ее можете не заметить. У ней страшное оружие – клевета, ее броня – лицемерие. Она разрушает самое прочное счастье, она заставляет разыгрывать кровавые драмы. Она всевидяща и даже более того – видит то, чего нет. Ничем вы не спасетесь от нее: осыпьте ее благодеяниями, одарите ее всеми благами мира – все равно: она будет принимать ваше добро, но по-прежнему будет злословить за вашей спиной. За каждый кусок хлеба, съеденный ею в вашем доме, она заплатит'вам клеветой, за каждое доброе дело, ей сделанное, очернит вас чернее ночи. Не думайте вступать с нею в открытую борьбу: вы погибнете, она будет торжествовать. Всмотритесь в лицо такой «Таи– сии», когда она говорит с вами: на губах ее улыбка, а глаза так и впиваются в вас – инквизиторские глаза! Они способны увидеть, кажется, ваши внутренности. Бегите от такой «Таисии»! Но как трудно от нее убежать! Она, как муха, влетит в окно, если дверь заперта, зажужжит, завьется вокруг вас и вонзит свое ядовитое жало. Она – ужасное существо. С таким-то «ужасным существом» приходилось вступить в борьбу бедной честной и чистой Груне.
IV. ЗА ОБЕДНЕЙ И ПОСЛЕ НЕЕОбедня затянулась: старичок священник любил служить не торопясь и без пропусков. Маленькая церковь была полна народа. Это все были окрестные вотчинки со своими чадами и домочадцами. Простого люда было мало видно: день был будний, и смердам и иной «меньшой братии» было не до молитвы.
В храме было жарко и душно, и боярин Степан Степанович имел полное основание распахнуть свою шубу и показать свой блестящий тегиляй. Кречет-Буйтуров стоял на обычном месте, на коврике, подле правого клироса. Голова его была гордо закинута, и он свысока поглядывал на стоявших невдалеке знакомых соседей-вотчинников. Он даже крестился как-то особенно, точно, творя крестное знамение, оказывал милость Богу.
Стоявшая рядом с ним Анфиса Захаровна молилась усердно, отбивала земные поклоны так, что становилось страшно за ее лоб, а крестясь, перекидывалась туловищем сперва несколько назад, а потом кланялась низко-низко, причем крест творила такого размера, что, перенося руку со лба, опускала ее не на грудь, а, скорее, на живот.
Катюша молилась неровно. Она то крестилась часто-часто мелкими крестиками, то забывалась, и Анфисе Захаровне не раз приходилось подталкивать ее в бок, чтобы напомнить, что нужно перекреститься.
Девушке было не до молитвы. Она чувствовала на себе горячий взгляд тех глаз, которые ей сегодня грезились в дреме, и смущалась под ним. А Александр Андреевич Турби– нин, как нарочно, не отрывал своего взгляда от ее лица. Он заметил ее смущение, подметил уже не один кинутый вскользь на него ее робко-виноватый взгляд, и сердце его трепетало от радости: он понимал, что все это – добрые признаки.
Был еще один человек, который, что называется, «ел глазами» миловидную боярышню, только – увы! – она и не замечала его взгляда. Это был тот самый Иван Дмитриевич, который сшил себе новую шубу и перед которым Степан Степанович хотел похвастать новым тегиляем!
Иван Дмитриевич Кириак-Луйп был уже не молод, и, наверно, его голова была бы покрыта изрядною сединой, если б на ней был хоть малый остаток растительности. У него был красноватый, маленький, как пуговка, нос, тусклые, серые глаза. Он обладал каким-то странным цветом лица – его можно было бы назвать пегим: целая сеть красновато-сине– ватых пятнышек и полосок просвечивала сквозь сероватую кожу. К довершению всего, Иван Дмитриевич был очень нескладен: при громадном росте имел чрезвычайно узкие, ка– кие-то «покатые» плечи… С подбородка Кириак-Луппа спускалась длинная и узкая борода огненно-рыжего цвета, тронутая сединой.
Казалось бы, наружность Кириак-Луйпа заставляла желать лучшего, но он был ею очень доволен и в кругу бояр– сотоварищей любил хвастаться своими победами. Подобно Турбинину, он заметил волнение боярышни Екатерины Степановны и, конечно, приписал это влиянию своего взгляда, и самодовольная улыбка кривила его губы, а в голове проносилось: «А! Попалась птичка в сети! Вот мы, старики– вдовцы, каковы!»
Между тем обедня оканчивалась; прозвучал отпуск, прогремело многолетие царю Ивану Васильевичу. Боярин Кречет-Буйтуров, получив почетную просфору, двинулся с семьею к выходу. Сейчас же следом за ним повернулись Тур– бинин и Иван Дмитриевич, а там потянулись и другие.
– Что ж, Шурка, пойдем ко мне щи хлебать! – сказал, садясь в сани, Кречет-Буйтуров подошедшему к нему прощаться Александру Андреевичу, которого он знал еще мальчиком.
– Спасибо, Степан Степанович, – ответил Турбинин, смотря в то же время не на самого Кречет-Буйтурова, а на его дочь, успевшую уже сесть в сани. – А только мне нельзя, домой надо – матушка ждет.
– Ну, как хочешь. Будешь в нашей стороне – мимо ворот не проезжай.
Подошел прощаться и Кириак-Лупп.
– Прощай, Степан Степанович, прощай, Анфиса Захаровна, прощай, боярышня! И что за красавица дочка уродилась у тебя, Степан Степанович! – сказал он, плотоядно щуря на девушку свои тусклые глазки.
– Н-да! Ничего себе… в меня уродилась! – самодовольно улыбаясь, сказал Кречет-Буйтуров, а сам подумал: «Ты, брат, не сватать ли ее за себя хочешь? Так это мимо – не для тебя кус!»
Турбинин слышал замечание Ивана Дмитриевича и почувствовал что-то похожее на ревность.
– Эдакая рожища, да еще смеет глядеть на нее! – ворчал он, взбираясь на своего Серого.
Александру Андреевичу хотелось поскорее добраться до своей вотчины, до которой было от церкви верст десяток. Он гнал коня, не разбирая дороги; конь спотыкался, но Турбинин не обращал на это внимания и заставлял идти его вскачь. Так проехал он уже версты три, когда вдруг при спуске в крутой овраг Серый споткнулся и грохнулся на землю. Боярин не успел освободиться от стремян, и его нога попала под коня. Он пытался высвободиться, но не мог, пытался поднять коня, но Серый не поднимался. Положение боярина было не из завидных. К счастью, на другой стороне дороги показался всадник, и Турбинин крикнул ему о помощи.








