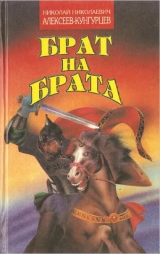
Текст книги "Брат на брата. Заморский выходец. Татарский отпрыск."
Автор книги: Николай Алексеев-Кунгурцев
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 22 (всего у книги 50 страниц)
31-го мая 1584 года погода была переменчивая. Ужасная гроза разразилась на рассвете. Проливной дождь чуть не затопил некоторые московские улицы.
– Эх, недоброе знамение! – перешептывался народ. – В этакий день великий и такая непогода.
А день был, действительно, велик: день венчания на царство последнего Рюриковича.
Но гроза пролетела. Солнце прорезало тучи ц сверкнуло тысячью блесков на дождевых каплях, повисших на ветвях деревьев, на крышах домов, засияло на маковках церквей и облило светом и теплом густую народную толпу на Кремлевской площади. И в самом храме Успения, и перед ним народа столько, что некуда яблоку упасть. И все еще и еще прибывают толпы. Теснятся, давят. Изредка слышатся отчаянные вопли, хриплые стоны, но все это покрывается гулом народным.
Загудели колокола.
Духовник государев, благовещенский протопоп Елевеерий, пронес в собор крест, венец и бармы: следом за ним боярин Борис Федорович Годунов снес туда же скипетр. Снесли и вернулись во дворец.
Народ ждал: сейчас должен проследовать царь.
Вдруг, как по волшебству, настала глубокая тишина: царь Федор показался. Облаченный в одежду голубого цвета, заставлявшую его лицо казаться еще более бледным, чем всегда, с неизменной улыбкой, с безучастным взглядом тусклых глаз, появился ведомый под руки боярами Федор. По сторонам шли окольничьи, в числе их был и Марк Данилович, позади – вереница бояр, блещущих расшитыми золотом одеждами.
В соборе уже все приготовлено. Как раз посредине возвышается «Царский чертог», на который ведут двенадцать ступеней, затянутых «червленым червцом», у западных дверей два кресла: для царя и митрополита, тут же скамьи для бояр. Вся. церковь устлана бархатом и камкой.
Прогремело многолетие, едва царь вступил в храм. Федор приложился к иконам, принял благословение от «мудрого грамматика» [44]44
Дионисий был прозван «мудрым грамматиком» за его ученость.
[Закрыть]митрополита Дионисия и сел на кресло. Сели и владыка, и бояре. Должно было произойти «великое молчание». Окольничьи, игумены и архимандриты разошлись по храму, увещевая народ стоять тихо. Посидев минуту, царь встал и за ним все.
Федор заговорил невнятно, останавливаясь, словно вспоминая затверженное:
– Отец наш, блаженной памяти царь Иоанн Васильевич, меня еще при себе… – Федор приостановился и потер лоб, – …и после себя благословил великим княжеством Московским и… – он опять приостановился, – …и Владимирским. И велел мне помазатися и венчатися и… и именоваться в титле царем, – быстро вымолвил он, словно вспомнив, и продолжал скороговоркой – по древнему нашему чину; да о том и в духовной написал.
Окончив речь, царь вздохнул с облегчением.
Митрополит сделал знак. Два архимандрита и два игумена, взяли крест с богато украшенного аналоя, стоявшего у царских дверей, на котором лежали регалии, поднесли его на золотом блюде к архиереям. Два архиепископа и два епископа благоговейно приняли от них блюдо с крестом и передали митрополиту. Дионисий, прежде чем Взять креет, поклонился ему и поцеловал, потом благословил им царя и надел на него.
Таким же образом были возложены бармы и венец – только венец принесли все архимандриты и игумены, от них приняли его также все архиепископы и епископы.
После возложения венца владыка возвел Федора на «чер– тожное» место и здесь передал ему скипетр.
– Блюди и храни его, елико сила твоя! – сказал владыка.
Теперь царь стоял в полном облачении. Загремело многолетие, потянулись архиереи к царскому месту благословить царя и поклониться ему.
Началась литургия, во время которой Федор должен был принять миропомазание и причаститься.
Марк Данилович внимательно смотрел на все происходившее перед его глазами. Его поражали то великолепие и роскошь, которую он видел. Лучи солнца врывались в собор и заставляли сиять и блестеть золотые наряды царедворцев и украшавшие их самоцветные камни. Но почему-то сердце Марка Даниловича тоскливо сжималось, когда он глядел на Федора, стоявшего во всем блеске своих регалий. Жалким казался ему этот потомок многих сильных и духом, и телом царей. Невольно взгляд молодого окольничего переносился на того красавца богатыря, которому царь, молясь, передавал свой тяжелый скипетр [45]45
Этот скипетр был сделан из китового уса и осыпан драгоценными камнями. Царь Иван Грозный купил у иноземных купцов за 7000 фунтов стерлингов.
[Закрыть], на Бориса Федоровича Годунова: этот подданный смотрел царем.
«Вот кому стоять бы надо на чертожном-то месте!»– мелькнуло в голове Марка Даниловича.
А хоры певчих гремели, пение выносилось за пределы храма, летело к многотысячной толпе народа; и народ подхватывал, и все сливалось в одно громовое: «Многая лета».
Свершилось – последний Рюрикович был показан на царство.
XXVIII. «ДОРОГОЙ ГОСТЬ»– Дмитрий Иванович! Добро пожаловать! Вот обрадовал!
– Уж будто обрадовал? Сказывают, незваный али не в пору гость хуже татарина.
– Гость дорогой всегда в пору приедет. А я думал, признаться, что Дмитрий Иванович совсем забыл обо мне… Да входи ж ты в светлицу, сделай милость!
Так Степан Степанович встретил своего гостя, Дмитрия Ивановича Кириак-Луппа.
– Э, брат! Да как же ты разнаряжен, а я так в затрапезном платье. Сором просто! Присаживайся, будь добр.
– Что за разнаряжен! Вестимо, одежа ничего, а только у меня есть куда лучше… – самодовольно сказал Кириак– Лупп, опустившись на скамью и важно «уставив руки в боки».
«Ишь, фуфырится, леший!»– с неудовольствием подумал Степан Степанович, однако не подал и вида о своем неудовольствии и спросил вкрадчиво:
– Живется теперь тебе, кажись, куда лучше, чем прежде?
– Не житье, а масленица: друже милый! Вот скоро кормленье [46]46
В старину часто бояре посылались воеводствовать с правом «кормиться» от воеводства, т. е. пользоваться известными доходами.
[Закрыть]доброе получу – набью карман малость, хе-хе!
– Кормленье? Нешто обещали? – спросил Кречет-Буй– туров, и глаза его завистливо засветились.
– Не то что обещали, а воеводство, почитай, у меня в руках.
– Счастье тебе привалило, Дмитрий Иванович! Однако хорош хозяин я, нечего сказать, гостя-то и не потчую.
С этими словами Степан Степанович хлопнул в ладоши.
Вошел Ванька.
– Поди скажи Анфисе Захаровне, что гость дорогой пришел, Дмитрий Иванович, так пусть она нам перекусить подать велит, да и сама к нам спустится с гостем поздравстововаться.
Ванька отвесил низкий поклон и вышел.
– Ты теперь в Москве все живешь? – спросил Степан Степанович гостя.
– Да… Нельзя иначе: кажинный день во дворе у государя бываю. Да и не расчет – сиди, пожалуй, здесь, многое высидишь.
– Это ты верно. И я вот начал подумывать, не перебраться ль в Москву?
– Дело, дело, Степан Степанович, перебирайся – ноне времена не прежние.
– Что говорить!
– Мы б там, может, для тебя кое-что и устроили, хе-хе!
И Кириак-Луйп многозначительно подмигнул.
– Благодарствую! Да, надо, надо… А ты скоро на кормленье отъедешь?
– Скоро – не скоро, а к Покрову думаю…
– Тэк-с… Еще времени порядочно… Оно, положим, и не заметишь, как пройдет.
– Вестимо.
– Кушать пожалуй, боярин, все изготовлено, – доложил Ванька.
– Прошу, гость дорогой, в столовую избу хлеба-соли отведать, – сказал хозяин.
– Ой, уж, право, не знаю – сытехонек я.
– И полно! Этакий конец от Москвы проехал да сытехонек. Пойдем, пойдем, не чурайся – обижусь.
– Что с тобой делать! Пойдем уж, – промолвил Дмитрий Иванович, поднимаясь.
Бояре закусывали долгонько. С легкой руки Анфисы Захаровны, которая, как подобает гостеприимной хозяйке, поднесла гостю первую чарку, Дмитрий Иванович и Степан Степанович приналегли на напитки, мешая и мед, и наливку, и «зелено вино», и заморские вина.
Когда они поднялись из-за стола, их лица были красны, как кумач, а ноги приобрели нехорошую способность спотыкаться на ровном месте.
– Так ты, брат, того, помни об обещанье, а только молчок пока что, – заплетающимся языком бормотал Кириак– Лупп, прощаясь со Степаном Степановичем.
– Ты-то, скажи, друг ты мне – али нет? – бормотал тот.
– Ну, вестимо ж, друг.
– Так и верь другу. Как сказано, так и сделается, а я никому ни гу-гу.
Когда Дмитрий Иванович, поддерживаемый под руки холопами и сопровождаемый хозяином, спускался с крыльца, чтобы усесться в свой возок, из сада выбежала Катя и, увидев гостя, остановилась как вкопанная.
Кириак-Лупп уставился на нее масляными глазами.
– Эх, красоточка! – проговорил он и причмокнул губами.
– Ядреная девка, точно, – заметил Степан Степанович и крикнул: – Катька, подь сюда!
Девушка смущенно приблизилась.
– Поцелуй друга моего любезного! – приказал отец.
Кириак-Лупп отер губы, Катя отстранилась.
– Что ты, батюшка?!
– Целуй, коли сказываю! Может, тебе он еще поболей, чем друг, станет…
– Тсс!.. – замахал руками Дмитрий Иванович. – Молчок! А коли девица боится, так мы сами ее…
И он обнял боярышню, привлек к себе и поцеловал в губы. Катя от этого поцелуя испытала только гадливое чувство, Кириак-Лупп захихикал, и глаза его еще больше замаслились.
Боярышня тотчас же поспешила скрыться в сени, а Дмитрий Иванович посмотрел ей вслед и пробормотал:
– Мед, а не девка!
После этого наконец он окончательно распрощался со Степаном Степановичем.
XXIX.СВАТОВСТВОВысокая, худощавая, несколько неладно скроенная боярыня сидела за питьем утреннего сбитня. Тут же за столом сидел Александр Андреевич Турбинин. Между ним и боярыней было заметно сходство в чертах лица. Молодой боярин как будто несколько волновался. Он то опускал кружку со сбитнем и взглядывал на боярыню, будто собираясь что-то сказать, то опять принимался за сбитень. Наконец он решительно оставил кружку.
– Матушка!
– Что скажешь?
– Давно сбираюсь потолковать с тобой я малость.
– А ты не сбирайся, а толкуй.
– Надумал, вишь, я… Потому, говорят, не подобает быти человеку единому… – тянул Александр Андреевич.
Лицо его матери, Меланьи Кирилловны, стало серьезнее.
– Ну?
– Хочу я себе жену сватать.
– Доброе дело! Не раз уж я тебе говорила об этом, а ты все отлынивал. Невест и не перечтешь тут…
– У меня на примете есть.
– Кто такая?
– Дочка Степана Степановича Кречет-Буйтурова.
– Ну, эта, пожалуй, у тебя мимо носа проедет.
– Это почему?
– Ведом мне нрав Степана Степановича – корыстный старик. Он зятька себе метит побогаче подобрать.
– С отцом в дружбе был, опять же и меня любит, да и уж будто я – такой бедняк? Сдается мне, что он не прочь будет породниться.
– Что попусту толковать? Там видно будет! Вот как придет Феоктиста, так и пошлю ее сватать за тебя Катю…
– Чем ждать ее, лучше б ты сама съездила, матушка.
– Съезжу и я, только наперед надо сваху послать.
Дня через два после этого разговора сидела у Анфисы
Захаровны Кречет-Буйтуровой маленькая худощавая старуха в темном сарафане и синем повойнике на голове. Блеклые глаза ее так и бегали. Говорила она сладким голосом; улыбка, казалось, никогда не покидала ее тонких губ.
– Ты не хлопочи, матушка Анфиса Захаровна. Я ведь так, мимоходом, спроведать забежала. Шла, это, мимо, дай, думаю зайду…
– От хлеба-соли, Феоктистушка, не отказываются, – ответила боярыня, между тем как Фекла уже уставляла стол разными яствами.
– Ты отколь же шла?
– Да к Москве пробираюсь – давно уже чудотворцам московским не кланялась.
– Доброе дело, Феоктистушка, – сказала Анфиса Захаровна, а сама подумала: «Как пить дать свахой пришла… Только от кого?» – В Москве будешь – за нас, грешных, помолись.
– За своих благодетелей да не помолиться!
– Пожалуй за стол, Феоктиста.
– Ох, уж не знаю, как я и есть буду? – сказала сваха, помолившись на иконы и садясь за стол.
– А ты принатужься.
– И то принатужусь.
Она и принатужилась так усердно, что через час половины поданных на стол яств как не бывало.
– Ох, грехи наши тяжкие! До чего я налопалась, – промолвила Феоктиста, отодвигая от себя тарелку.
– А ты б вот этого кусочек еще…
– Нет, уж уволь – в рот не идет.
– Так сбитеньку либо кваску испей.
– Кваску, пожалуй что…
– Сегодня ночевала я у Меланьи Кирилловны. Поклон она тебе прислала, – говорила старуха, прихлебывая квасок.
– Благодарствую. Здорова ли она?
– Здорова, Бога благодаря. Добреющая она боярынька, одно слово – андел!
– Да, она точно что… – ответила Анфиса Захаровна и насторожилась, чуя, что Феоктиста как будто начинает переходить к делу.
– Андел! – повторила сваха. – Вот уж верно можно сказать – будь она кому мачехой либо свекровью – чужого века не заела бы.
– Что говорить, добрая, добрая…
– А нищей-то братии как она помогает. По субботам сени полные наберется нищих-то, и всем – кому грош, кому и два… никого не обидит. Оно точно: у ней и достаточек есть.
– Чай, не велик?
– Ну, не скажи – изрядненький. Покойник так и разделил: половину всего жене, половину сыну… У Александра Андреича столько же достатка выходит, сколько и у матери евонной. Парень – не бедняк… А уж и парень! Золото, а не человек! Окромя ласки да доброго слова, ничего от него и не услышишь. И разумен, и не урод.
– Да, он – парень хороший.
– А где ж Катюша? Здесь все была…
– Ушла она к себе в горенку. Чай, за пяльцы села.
– Соскучилась, знать, с нами-то сидючи. Вестимо, девица молодая, нешто занятно ей наши речи слушать! Время-то как бежит – давно ль малой девочкой Катя была, а теперь уж невеста.
– Точно что, а только мы выдавать не торопимся.
– Чего торопиться! В вековушах не останется.
– Ну, вестимо.
– И лицом она красавица, и прикрута за ней немалая… Ведь не малая?
– Степан Степанович, чай, для дочки не пожалеет.
– Для нее пожалеть – для кого же и не жалеть? Вестимо, Катя не засидится, и зря спешить нечего, а только всё же родительскому сердцу приятней дитё свое поскорей замужем увидать, внучат поласкать.
– Это ты верно, а только народ ноне пошел все такой непутевый. Выдашь этак дочку, да потом, цожалуй, и плакаться придется.
– С разбором надо женихов искать. А только много есть и добрых парней, не все уж гуляки да сорви-головы. Вон хотя бы Александр-то Андреич – чем Катюше не пара?
И сваха пытливо уставилась на боярыню. Но Анфиса Захаровна и сама была тертый калач – лицо ее было непроницаемо, как маска.
– Молод он еще! – равнодушно промолвила она.
– Так нешто это – помеха? Чай, не стариками люди женятся.
– Так-то оно так, а только у него, чай, еще ветер в голове.
– Поищи по всей Москве другого такого разумника – не сыщешь.
– Да я его не хулю.
– И Степан Степанович, кажись, его любит.
– Мальцом знал.
– Вот видишь. Эх, ей-же-ей, что за парочка бы была их – загляденье! Он пригож – она еще пригожей, он добр – она еще добрей… Эх, будь моя воля – сейчас бы под венец их поставила!
– Мужняя воля, не моя.
– А ты б поговорила с ним.
– Поговорить можно.
– К тебе на деньках Меланья Кирилловна заглянуть сбирается.
– Милости прошу.
– Приду с нею и я.
– А чудотворцы московские?
– Успею еще побывать, коли Бог дней продлит.
– А и ловка же ты, Феоктиста!
– Хе-хе! Что за ловка! Ловчей меня люди бывают.
– А только я давно смекнула, что ты от Меланьи Кирилловны свахой прислана.
– Да я ж на то и била, чтоб ты смекнула, а напрямик сказать было не рука: вдруг да не по нраву сватовство придется, так ты б меня, может, и помелом да по загривку.
– Эвось! Уж и помелом!
– Все может статься, как человек осерчает. Так ты со Степаном-то Степановичем поговори!
– Как сказано.
– А мы на деньках…
И сваха стала прощаться.
XXX. В ОЖИДАНИИКатюша недаром убежала из комнаты, где сидели ее мать и Феоктиста: она чувствовала, что, если останется там, то не выдержит и чем-нибудь выдаст свое волнение. Дело в том, что она отлично знала, зачем пришла Феоктиста: Александр Андреевич еще накануне уведомил ее. Выбежала она и приложила ухо к двери и прослушала весь разговор.
– Что с тобой, Катька? Чего пылаешь так?
– Ничего, матушка… Так… Сама не знаю… – пробормотала боярышня, а сама еще пуще разгорелась, до того, что слезы на глазах проступили.
– Ой, неспроста! Чай, не беседу ль нашу подслушала? Ужо я тебе!
И боярыня шутливо погрозила дочери пальцем, добродушно улыбаясь.
– Слышала, матушка, был грех! – ответила Катя, обнимая мать и пряча на ее плече свое смущенное лицо.
– Ишь, озорная! Ну, и что ж, рада, поди?
– Уж так-то рада, что и сказать не могу!
– Рада с отцом, с матерью разлучиться? – в голосе Анфисы Захаровны слышался упрек.
– Нет, нет! Не тому! Не разлуке с отцом-матерью радуюсь…
– Так к чему же?
– Тому… Тому, что за Сашу меня выдадут!
– За Сашу! Ах, ты!.. Да у вас что же с ним? Никак делишки завелись?
– Люб он мне, и я ему.
Анфиса Захаровна даже всплеснула руками.
– И когда успели! Уж я ль за тобой не присматриваю! Взять бы плеть сейчас надо да постегать тебя малость… Мать родную перехитрила, что вокруг пальца обвела.
– Не серчай, матушка!
– Да уж что серчать, такая-сякая.
Катя покрыла поцелуями лицо матери.
– А ты с батюшкой-то поскорей поговори, – шепнула среди поцелуев боярышня.
– Не терпится! Не стоила бы ты, озорная, да уж, так и быть, поговорю не мешкая, либо сегодня вечерком, либо завтра… А уж тебя теперь с глаз не спущу.
Хотя Анфиса Захаровна решила «не спускать» дочь с глаз, однако это не помешало Катюше спустя час-другой после этого разговора повидаться с Александром Андреевичем. Сколько толков у них было о будущем! Сколько планов они строили! Счастье казалось так близко.
Вечером в этот же день Анфиса Захаровна не стала говорить с мужем о сватовстве Турбинина: Степан Степанович был не в духе.
– Завтра, коли что… коли не в сердцах будет, – сказала она дочери.
Катюша стала ждать этого завтра. Она не спала целую ночь и не жалела об этом. Ее голова была полна счастливых грез. Когда рассвело, она поднялась с постели и открыла окно. Свежий утренний слегка сыроватый воздух повеял на нее, грудь жадно вздохнула аромат зелени, несшийся с полей. Золотая полоска зари разгоралась все ярче и кидала светлый отблеск на верхушки деревьев, на терем, на счастливое личико боярышни. Птицы проснулись и весело щебетали. Катюше казалось, что они щебечут об ее счастье.
И грезы неслись светлые, радостные, как это летнее утро.
XXXI. РАЗБИТЫЕ МЕЧТЫ– Степан Степанович, у тебя делов нет неотложных теперича?
– Нет, а что?
– Потолковать малость с тобой надобно, – сказала Анфиса Захаровна, когда Кречет-Буйтуров, пообедав, хотел встать из-за стола.
– О чем это?
– А вот сейчас… Катька! Подь в горницу, сядь за работу.
Боярышня поняла, почему мать ее гонит. Она покорно
вышла, но в терем не пошла, а притаилась у двери, как вчера во время беседы Феоктисты с матерью, и приложила ухо к щели.
– Вишь, Степан Степанович, что я тебе хотела сказать – Катька наша уж становится на возрасте.
– Так что ж?
– А то ж, что пора б о ней подумать.
– И думай, коли тебе охота, хе-хе!
– Я что? Я думаю, да нешто мои думы что значат? Сказано: у бабы волос долог, да ум короток.
– И верно сказано.
– Верно ль – не верно, то сказ иной: иная баба и двух мужиков за пояс заткнет. Ну, да это мимо… А я к тому говорю, что ведь не я, а ты в дому голова. Тебе бы надо подумать, как бы Катерину за доброго человека пристроить.
– Неспроста! Вестимо, неспроста! – ворчливо отвечала Анфиса Захаровна, которую раздражал насмешливый тон мужа. – Сватать надо Катьку.
– Так и сватай.
– А ты что думаешь? Я и сватаю.
– Ой ли? За кого?
– За ладного парня… Намедни приехала ко мне Феоктиста.
– Это сваха-то, богомолка?
– Она самая. Привезла она нам поклон от Меланьи Кирилловны.
– Ну, и что ж?
– Закидывала она уду на тот сказ, не охоч ли будешь ты Катерину нашу выдать за Александра Андреевича.
– А ты как о сем смекаешь?
– Думается, почему б и не выдать? Он – парень, можно сказать, золотой и достаток есть…
– Какой он жених! У него еще ветер в голове. Вот я так нашел жениха, не ему чета!
– Ты?!
– Я! Ты вот думала, я о дочке и думать забыл, ан пораньше тебя вспомнил! Хе-хе!
– Кого ж это ты?
– Хороший жених! И летами не мальчишка, и йрава доброго, и у государя в чести, и у Бориса Федоровича не в опале. Скоро кормленье знатное получит. Словом, такой жених, какого лучше не найти!
– Кто же, кто? – нетерпеливо воскликнула боярыня.
– Дмитрий Иванович Кириак-Лупп! – торжественно вымолвил он.
Анфиса Захаровна всплеснула руками.
– В уме ль ты, Степан Степанович!
Боярин нахмурился.
– Ты-то не ошалела ль! – вымолвил он сурово.
– Да ведь он ей в отцы годится.
– То и хорошо.
– И потом лик-то у него какой? Взглянуть страшно!
– С лица-то не воду пить. Все это – одни россказни пустые бабьи. Как порешил, так и сделаю, и ты мне не перечь лучше, а убирайся-ка подобру поздорову!
Анфиса Захаровна хотела что-то сказать, но не успела:
– Батюшка! Родимый! Не губи! Не выдавай за немилого! – обнимая колени Степана Степановича, умоляла боярышня.
Кречет-Буйтуров вдруг озверел.
– Это что еще! Вон пошла, дрянь неумытая! Вон, говорю, а то за косу оттаскаю!
– Батюшка! Родной! – стонала девушка.
– А! Ты все свое! Так я ж тебя!
Степан Степанович поднял дочку и тряс, схватив за плечи, приговаривая:
– Я те покажу отца не слушаться! Я те шкуру спущу!
– Степан Степаныч! Побойся Бога! Чего ты ее колотишь! – вступилась Анфиса Захаровна, схватывая мужа за Руку.
– Ты что за заступница? И тебе, смотри, то же будет. Завтра же за шитье приданого принимайтесь – к осени чтоб все готово было… А теперь вон с глаз моих! Вон! – и он вытолкнул жену и дочь из комнаты и захлопнул за ними дверь.
Анфиса Захаровна увела обессилевшую от горя Катюшу в горницу. Боярышня кинулась лицом в подушку и глухо рыдала. Мать пробовала ее утешать, но бесполезно. Потом подошла Фекла Федотовна.
– Голубка моя! Полно тебе убиваться-то! – сказала старуха, гладя девушку по голове.
– Ах, Феклуша, Феклуша! – только и смогла сказать боярышня.
– Тяжко тебе, дитятко… Знаю, знаю… Эх, родная! Мало ли что в жизни человеческой бывает! Терпи, касаточка, да на Господа надейся! Господь всякому свое испытанье посылает. Подыми-ка головушку да послушай меня, старую: много я на веку своем всяких всячин и сама терпела, и видывала. Послушаешь про беды людские, может, твоя беДа тогда тебе не так тяжка покажется, и на душе у тебя полегчает. Встань, родная!
Катюша нехотя оторвала голову от подушки и села на постели, закрыв лицо рукавом и всхлипывая. Ключница опустилась рядом с нею и заговорила про дела былые. Ровная речь старухи успокоительно действовала на расстроенные нервы боярышни. Сначала она почти не слушала Феклу, потом рассказ понемногу стал ее занимать. Когда Фекла, истощив наконец весь запас, отошла от нее, на лице Кати уже не было слез. Но слезы остались в сердце, и боярышня чуяла, что никогда-никогда этих слез не выплакать, что теперь не может быть для нее неомраченной радости, не может быть счастья.
Когда дня через два после этого к Кречет-Буйтуровым приехала Меланья Кирилловна, Анфиса Захаровна встретила ее с тоскливым лицом. Она приняла и угостила старую знакомую со всем своим обычным гостеприимством, но о сватовстве не промолвила и слова. Турбинина подходила к ней и так, и этак, но Кречет-Буйтурова либо отмалчивалась, либо притворялась непонимающей и сводила разговор на иное. Пришлось Меланье Кирилловне спросить напрямик:
– Что, говорила ты со Степаном Степановичем о сватовстве Александровом?
Тут уж хозяйке нельзя было «отлынуть».
– Да, говорила.
– Что ж он?
– Ох, матушка! Много тут было и слез, и всякой всячины. У него, вишь, свой нашелся.
– Свой жених?!
– Ну, да. За него и прочит Катеньку. Да и жених-то – Дмитрий Иванович Кириак-Лупп!
– Да что ты!
– Вот те крест! Ну, а мое дело бабье, и рада бы по-сво– ему повернуть, да ничего не сделаешь.
– Да, да, уж, вестимо, муж – голова.
Причиною того, что Меланья Кирилловна так поспешила с приездом к Кречет-Буйтуровой, были настояния Александра Андреевича. Дело в том, что видеться с Катей ему в эти дни не пришлось: он приходил несколько раз на дню на обычное место свиданий, но боярышня не являлась. Турбинин не мог знать, какая сцена произошла между боярышней и ее отцом, не мог знать, что боярышня заболела после пережитого потрясения, почему и не являлась на свидания, и терялся в различных догадках. Естественно, он желал положить конец своим мукам и торопил мать с поездкой к Кречет-Буйтуровым, чтобы порешить со сватовством, на благоприятный исход которого он благодаря уверениям Феоктисты надеялся. Несмотря на надежду, он сильно волновался, ожидая возвращения матери. Поэтому, едва вдали показался возок возвращающейся Меланьи Кирилловны, он бегом пустился ей навстречу.
– Ну, что? Как? – кричал он ей издали.
Лицо матери было сумрачно. В ответ ему она только махнула рукой да сжала губы.
Александр Андреевич побледнел.
– Что? Отказали? – пролепетал он.
– Опоздали мы – Катя уже просватана за Дмитрия Ивановича Кириак-Луппа, – ответила наконец мать.
Александр Андреевич остановился как вкопанный.
– За Кириак-Луппа… – повторил он беззвучно.
Возок Меланьи Кирилловны уже успел доехать до ворот и свернуть в них, уже боярыня успела выбраться из него, пробрать двух подвернувшихся не к разу холопок и отправиться в горницы переодеваться, а молодой боярин все по-прежнему стоял в поле и, заломив руки, повторял все одно и то же:
– За боярина Кириак-Луппа! За Кириак-Луппа!
Наконец он вышел из своего столбняка и побрел, но не к
воротам, а в сторону, противоположную им, в поле. Ему было все равно, куда идти: он знал, что нигде не укрыться ему от того жгучего горя, которым было полно его сердце. Он шел долго, не зная устали. Уже солнце заметно начало клониться к вечеру, когда его окликнул молодой мужской голос. Он оглянулся и увидал сидящего на коне Марка Даниловича.
– Ты куда, Александр Андреевич?
Тот махнул рукой и ответил:
– Сам не знаю.
– Что грустен больно?
– Горе у меня, Марк Данилович, великое!
Кречет-Буйтуров с участием посмотрел на него.
– Взглянуть, так видно. Вот что, пойдем ко мне: поведаешь горе свое, может, тебе и легче станет.
– Пойдем, пожалуй, – безучастно отозвался тот.
Марк Данилович за последнее время сдружился с Турбининым подобно тому, как и с Тихоном Степановичем Топорком, и эти двое молодых бояр составляли его обыкновенную компанию.
– Ты не вздумай угощать меня, Марк Данилович, – кусок мне в горло не полезет, – сказал Александр Андреевич, когда они пришли в усадьбу.
– Ах, ты, бедный, бедный! Куда веселость твоя былая девалась? – промолвил хозяин. – Расскажи мне, что с тобой стряслось?
– А вот что… Был я и молод, и удал, и жить мне хотелось, а теперь младость моя кончилась и удаль пропала, на грудь уныло головушка свесилась, и жизнь мне не в радость.
И Александр Андреевич рассказал о своем неудачном сватовстве за Катюшу.
– Ну, скажи теперь на милость, чем залить мне огонь, что в груди горит? Змею-тоску чем задушить? Бражничать, что ли? И то! Марк! Друже! Дай зелена вина чару пообъе– мистей! Дай! – закончил свою речь Александр Андреевич.
Марк Данилович отрицательно покачал головой.
– Нет, друг добрый! На зелено вино плоха надежда: не зальет оно твоего горя, только пуще его подбавит.
– Так что же делать? – воскликнул Турбинин.
Кречет-Буйтуров выпрямился во весть рост.
– Терпеть! – промолвил он торжественно. – Терпеть! Али, думаешь, ты один страждешь? Али уж лютей твоего горя не бывает? Быть может, и у меня на душе не легче твоего. Что ж и мне в вине горе топить? Да и не легче твоего, не легче! И мне люба она, Танюша, больше всего на свете, как тебе Катя, и мое сердце, чай, не меньше твоего счастья просит… А терплю!.. Правда, нелегко терпеть… Иной раз, как нахлынет – так бы пошел и утопился… Пересилить себя надо, надеждой тешить – рано ль, поздно ль, придет счастье. И придет! Придет!
– Нет, уж где!
– А ты надейся, надейся крепко – придет!.. И должно прийти! Быть может, на миг один, быть может, и не такое, как ты ждешь, быть может, ты ищешь его здесь, а оно придет с другой стороны, но придет, придет. Верь, друже!
– Да коли не верится?
– А ты осиль себя, заставь верить. Верь, верь!
– Сладко верить! Быть может, стало быть, еще не всему конец, о Господи!
– Ага! Тоска-то меньше стала!
– Как будто свет слабый сквозь тьму проблеснул.
– Проблеснет и ярче, только верь да надейся!








