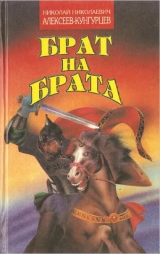
Текст книги "Брат на брата. Заморский выходец. Татарский отпрыск."
Автор книги: Николай Алексеев-Кунгурцев
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 41 (всего у книги 50 страниц)
Был седьмой час жаркого июльского дня. Хотя дул довольно сильный ветер, но он не умерял зноя: он был тепл и сух. Жар стоял уже не первый день – лето 1560 года выдалось сухое.
Косые лучи начинавшего садиться солнца проникли сквозь переборчатое слюдяное окно в царские палаты. Они упали на фигуру человека, сидевшего у широкой кровати, под тяжелым атласным пологом, с вытканными на белом фоне большими золотыми двуглавыми орлами. Сидевший был еще молод. Он, по-видимому, был высок ростом и крепко сложен. Широкие плечи и выпуклая грудь свидетельствовали об его здоровье и силе. Тонкий, большой нос, несколько загнутый книзу, с легкой горбиной, глаза под тонкими темными бровями, небольшие, но умные и проницательные, слегка блестевшие, когда сидевший оживлялся, белый, высокий лоб, над которым вздымалась целая шапка густых каштановых волос, – все это делало лицо его красивым и приятным. Длинные усы, концы которых не опускались вниз, но слегка вились и далеко выступали из-за щек, придавали лицу сидевшего мужественное выражение. Волнистая широкая борода падала на грудь.
Одет был этот мужчина в узкий атласный кафтан, таусинного [74]74
Таусинный – темно-фиолетовый.
[Закрыть]цвета, плотно облегавший его стройный стан. Козырь [75]75
Козырь – стоячий воротник.
[Закрыть]кафтана был расшит золотом и унизан по краям крупным жемчугом, а там, где узоры шитья прекращались, сверкали самоцветные камни. Сидевший был ни кто иной, как первый венчанный царь русский, Иван Васильевич, получивший впоследствии прозвище Грозного.
Однако в то время, о котором идет рассказ, еще нельзя было предполагать, что он получит такое прозвище, напротив, его можно было назвать скорее «кротким», потому что вот уже тринадцатый год, как он мудро и кротко правил своим царством, заставляя подданных благословлять свое имя. Это было счастливейшим периодом его царствования как для него самого, так и для народа. Подданные его любили, иностранцы боялись и уважали. Боялись потому, что видели, как не по дням, а по часам растет ею могущество. Казань и Астрахань покорены и вошли в состав русских владений; Крым был ослаблен, и не сегодня-завтра мог ожидать участи двух соплеменных ему царств; Ливония, казалось, погибала под напором победоносной русской рати – уважали потому, что царь был стоек и мудр в политике и ни на йоту не отступал от своих справедливых требований и притязаний. И мог ли кто думать, что пройдут немногие годы, и все это рухнет в каком-то непостижимом крушении; что изменится добрый и мудрый правитель под влиянием странного стечения обстоятельств его жизни.
Царь сидел, подперев рукою склоненную голову, и задумчиво и печально смотрел на постель, где металась в горячечном жару его любимая жена, Анастасия Романовна. Лицо больной было красно, глаза полузакрыты… Запекшиеся губы тихо шевелились, словно шептали что-то тихо-тихо, слышное только для нее одной.
Больной душно и тяжело. Тяжелое атласное одеяло было далеко откинуто, и обнаженная полная грудь часто и неровно поднималась.
Царь был один в комнате. Он удалил прислужниц и приближенных царицы, желая сам прислужить больной, найдя редкую свободною от занятий государственными делами минуту. Видя, что одеяло откинуто, и боясь, чтобы больная, разгоряченная жаром, не простудилась, он встал и накинул одеяло на нее.
Это потревожило Анастасию Романовну. Она слегка вздрогнула и открыла глаза.
– Что тебе, Настя, лучше ли? – участливо спросил царь.
– Как будто полегчало, а то внутри так жгло, – слабым голосом ответила больная.
– Ах, Анастасья, Анастасья! Я не знаю уж, как и молить Господа, чтобы поднял Он тебя! – грустно произнес Иоанн.
– На все Его святая воля, батюшка Иван Васильевич! – тихо ответила Анастасия Романовна, окончательно пришедшая в себя.
– Кабы ты знала, родная, как сердце мое тоскует! – воскликнул царь. – Мне самому без болезни болезнь.
– Полно, милый! Бог даст, поправлюсь. Не тоскуй да не убивайся!.. Мне сегодня супротив вчерашнего полегче… Может и оттого, что немчин твой, лекарь, снадобьем меня каким-то поил. Горькое, ровно полынь…
– Меня сегодня он утешил поутру, сказал, что надежда на поправку есть… Дай-то Бог оправиться тебе скорее! – перекрестился Иоанн.
– Кликни кого-нибудь, Иван Васильевич… Испить бы мне дали: в горле пересохло.
– Я тебе сам дам, благо, ходить недалече… Вон на столе всяких квасов понаставлено. Какого ты хочешь?
– Малинового бы… Люблю его. Только покислее, – сказала Анастасия Романовна.
– Сейчас, – ответил Иоанн и протянул руку к одному из жбанов.
В это время дверь в палату шумно отворилась.
На пороге появился один из приближенных к царю бояр. Царь гневным взором окинул вошедшего. Но, верно, слишком важную новость принес боярин, потому что его не смутил блеск очей Иоанна.
– Царь! – воскликнул он. – Москва горит!
Анастасия Романовна, всегда боявшаяся пожаров, теперь, истомленная болезнью, испугалась особенно сильно и, слабо вскрикнув, лишилась чувств.
Царь, укоризненно взглянув на неосторожного боярина, успел только спросить:
– Где горит? – и обратился к бесчувственной царице.
– На Арбате, у Риз Положения… Князь Пожарского Федоровский двор, – ответил смущенно боярин, только теперь понявший, как необдуманно он поступил, громко сообщив страшную новость перед больной царицей.
– Коли не умел с умом дело обделать, так хоть теперь послужи умнее, – сердито проговорил Иоанн, обращаясь к оторопевшему боярину. – Беги к лекарю-немчину: царь, скажи, спешно приказал к царице идти – худо ей очень стало, – продолжал Иоанн, тщетно стараясь привести в чувство больную. – Да по пути прислужащим вели, чтобы сюда шли снаряжать царицу.
Боярин, желая загладить чем-нибудь свою вину, поспешно побежал исполнять приказание царя.
Скоро комната царицы наполнилась боярынями, ходившими за больной. Пошли охи и ахи. Царь, между тем, передав царицу на их попечение, стал расспрашивать о пожаре. Оказалось, что недаром боярин так спешно вбежал в палаты больной – пожар был нешуточный: горело уже несколько домов, и огонь шел все дальше, а головни сильным ветром относились к Кремлю.
Пришел лекарь. Он быстро привел больную в чувство, дав ей понюхать какого-то снадобья. Анастасия Романовна открыла глаза и обвела присутствующих мутным взглядом.
– Близко горит? – слабо спросила она.
– Нет, нет! не близко! – ответил царь, желая успокоить больную.
– Ты неправду говоришь, Иван Васильевич! – с укоризной проговорила она. – Ох, как страшно! Боюсь! Боюсь! – прошептала она, вздрагивая.
Между тем Иоанну доложили, – что дворцу грозит опасность загореться от многочисленных головней.
«Что ж делать? – думал царь. – Не дворца жалко – жаль больную… перевезти ее подальше из дворца… Можно ль? Вишь, она какая слабая, повредит ей… Как быть?»
– Скажи-ка, немчин, – молвил он, – можно ль царицу теперь перевезти куда-нибудь из дворца?
– Гм… – поморщился лекарь. – Нежелательно было бы. Повредит, пожалуй, – говорил немец ломаным языком.
– Но дворец может сгореть! Нельзя же тут сидеть и ждать, что вот-вот загорится… Еще горше для больной будет, – задумчиво произнес Иоанн.
– Если твое царское величество находит, что это необходимо, тогда нечего и говорить: нужно перевезти больную… Только устроить надо получше, чтобы не так тревожить, – ответил лекарь.
– Распорядись, чтобы поудобнее ей постель устроили: сейчас перевезем. Нечего время терять! А я с ней малость покалякаю, к переезду подготовлю, – сказал царь и отошел от лекаря.
Тот отправился исполнять приказание царя. Иоанн снова приблизился к больной. Та пристально посмотрела на него, широко открыв свои глаза.
– Что, Настенька, если б тебя подальше отвезти от пожара, лучше б тебе было, не так бы беспокоилась?
– А что? Верно, дворец горит? – испуганно спросила царица.
– Нет, не пужайся понапрасну… Бог миловал. Может, и все так обойдется: а я только к тому, чтоб тебя успокоить.
– Ты сам-то, родной, не тревожься за меня… Вишь, лицо у тебя белым совсем, ровно мел, стало.
Действительно, Иоанн был бледен, не от страха, конечно, а от волнения.
– А я теперь успокоилась, особливо, как ты сказал, что дворец не горит…
– Да, дворец не горит, может, Господь и не допустит, а все ж, я чай, тебе поспокойнее в селе Коломенском, чем здесь, будет, – сказал Иоанн.
– Ты в село Коломенское хочешь меня везти? Стало быть, уж к дворцу огонь подбирается? – снова испугалась царица, спокойствие которой как рукой сняло, едва у нее мелькнула мысль о близости пожара.
– Да нет же, родная, нет же, говорю тебе! Я так только, чтоб для тебя поспокойнее все устроить. Потому, хоть пожар и не очень уж близко, а все же зарево сильное, как смеркнется, покажется, опять же шум, крики и беготня. Вот я к чему.
– Ну, вези, – тихо проговорила царица, на которую, видно, волнение начинало оказывать свое действие: она, казалось, ослабела.
Иоанн, видя, что больная закрыла глаза, неслышно отошел от ее постели и сделал знак присутствующим, чтобы они говорили потише.
Царица лежала в забытьи. Недавно красное лицо ее стало бледным, и темные полосы легли под глазами.
Между тем вернулся лекарь.
– Все исполнил, как твое царское величество приказал, – произнес он, приближаясь к царю.
– Покойно ли ей будет? Удобно ли устроено ложе? – спросил государь.
– Я позаботился, чтобы все устроить как можно лучше. Меня тревожат не неудобства пути, а…
– А что? Говори скорее! – нетерпеливо прервал его Иоанн.
– Взгляни сам, царь, на больную. Посмотри, как она ослабла.
– Да, я вижу, – задумчиво проговорил царь.
– У нее упадок сил, – продолжал лекарь, взяв руку больной. – Я боюсь, царь, что испуг, испытанный ею, последствия которого ты видишь, опять повторится, когда она взглянет на пылающий город. А этот испуг – смерть для нее!
– Что же делать? Что же делать? – почти с отчаянием прошептал Иоанн.
– Если можно – не тревожь ее, – повторил лекарь сказанное им незадолго перед этим.
В это время в палату вбежал один из бояр, он был бледен.
– Царь! – тихо сказал он Иоанну. – Головни летят прямо ко дворцу… Может загореться… Спасай царицу!
– Ты слышал? – обратился Иоанн к лекарю. – Могу ли я оставить царицу здесь? Опасность близка.
– Действуй, как задумал, государь! Видно, такова судьба. Против нее не пойдешь! Будем только молить Бога о спасении царицы! – произнес немец.
– Да! Только и надежды, что на милость Божью! – ответил государь и подошел к постели больной.
– Настасья, родная, ты спишь? – окликнул Иоанн Анастасию Романовну.
Царица лежала неподвижно. Слышно было только тяжелое и прерывистое ее дыхание.
– Настя, очнись! – тихо продолжал царь, взяв больную за руку.
Анастасия Романовна полуоткрыла глаза.
– Что, милый? – едва слышно спросила она Иоанна.
– Сейчас поедем, Настя… Ведь ты не будешь пугаться, болезная? Не будешь, обещай!
– Не буду, родный… Чего? Все равно умру скоро! – промолвила царица, тяжело вздыхая.
– Не говори этого, Настя, – дрогнувшим голосом произнес царь. – Бог милостив! Поправит Он тебя, Милосердный. А ты не путайся… Вынесут тебя – огонь увидишь… Так это ничего, это не так близко – тебе вреда не будет. И я, к тому же, буду подле тебя. До беды не допущу!
– Батюшка Иван Васильевич! Да нешто я за себя боюсь? Что мне! Людишек мне жаль, что погорят, вот что. Вот почему я пожаров боюсь – они бедствие великое для бедняков горемычных. Сколько по миру пойдут после этого – последние остатки сгорят… Выскочат, как мать родила. А может, детки малые есть, тоже пить-есть просят.
Царица на минуту смолкла, потому ей пришли в голову самые тревожные мысли.
– А то еще горше – не успеют спасти, забудет впопыхах мать или отец о дитяти родном, и сгорит оно, дитя малое, неразумное. Вот почему я так пужаюсь… А мне самой что! – говорила Анастасия Романовна, слегка приподнявшись, и голос ее окреп, а на щеках появилась легкая краска.
Иоанн с радостным удивлением смотрел на происшедшую в жене перемену.
Однако радость его длилась недолго.
Быстро сбежал румянец с лица больной, она тяжело опустилась на подушки и опять стала бледна и слаба по-прежнему.
Иоанн сделал распоряжение, чтобы царицу снаряжали в дорогу.
Боярыни обступили постель.
С большими спорами и перекорами приступили они к снаряжению царицы в путь.
– Нет, боярыни, не можно так больную везти в платье обыденном: простудится. Как мне думается, попросту одеялами ее, государыню нашу болящую, обернуть надоть, да так и везти, положа на постель мягкую, которую лекарь на возке устроил, – быстро говорила громким голосом высокая и дородная, уже пожилая боярыня.
– А я смекаю, что хуже так, – тонким голосом выкрикивала в ответ ей боярыня, не уступавшая первой в дородстве, но очень низкорослая. – И делать так негоже… Потому, окромя того, что непристойно, и простыть государыня может, как одеяла распахнутся… Не гоже это, на мой смек, негоже!
Ей возражали, а среди споров дело стояло. Кроме того, болтовня их удручающим образом действовала, видимо, на больную. Она внимательно вслушивалась в разговор, и, кажется, сборы в дорогу пугали ее больше, чем самый путь.
Иоанн, беседовавший в это время с лекарем, заметил это.
– Ишь, бабье расходилось! – сказал он, слегка, усмехаясь. – Вот уж подлинно, где две бабы сошлись – целый базар, а тут вас десяток целый. Нечего пустое-то калякать, – продолжал он уже совершенно иным тоном, – живо снаряжайте царицу, а не то!.. – и в голосе царя послышалась угроза.
Этот окрик подействовал как не надо лучше. Споры прекратились, и больную быстро снарядили в путь.
Обе стороны сошлись: боярыни одели царицу в легкое платье и, кроме того, обернули одеялом.
Пока шли все эти сборы, уже начало смеркаться, и зрелище пожара должно было выглядеть еще ужаснее, чем днем.
Несколько рук подхватили царицу и понесли к крыльцу, где ожидал ее возок, приспособленный для перевозки больной. Сам царь был в числе несущих: он поддерживал голову Анастасии Романовны.
– Так, помни, болезная, не пугайся, как увидишь пожар, – говорил он ей.
– Нет, родимый, нет! Не буду пугаться, – слабым голосом отвечала царица, которую сильно истомили все эти сборы и испытанные ею волнения.
Однако, несмотря на данное Анастасией Романовной обещание царю не пугаться, едва ее вынесли из дворца, и она увидела тучи дыма и целые снопы искр и головней, далеко относимых ветром от места пожара, царица пришла в ужас.
– Батюшки-светы! Почто Господь так православных карает! – вскрикнула она и закрыла ладонями лицо, чтобы не видеть поразившего ее зрелища.
От испуга с ней сделалась лихорадка такая сильная, что зубы стучали один о другой.
Лекарь, не отходивший от больной, с серьезным лицом наблюдал эту перемену.
Иоанн, заметивший серьезность немчина, был задумчив и грустен.
Царицу поспешно уложили и немедленно тронулись в путь, желая поскорее подальше отвезти больную от волнующего ее зрелища.
Царь сопутствовал ей. Всю дорогу царица не промолвила ни слова.
Испуг, видимо, оказал пагубное влияние на ход болезни. Лекарь стал отчаиваться в ее благополучном исходе.
Проводив больную и успокоив ее, как мог, Иоанн вернулся в Москву к пожару.
«Царь не должен щадить своей жизни, когда опасность грозит подданным», – думал Иоанн и спешил на пожар, как на битву.
А пожар был ужасен! Пламя, раздуваемое сильным ветром, перекидывалось с дома на дом. Деревянные дома, сразу охваченные огнем, горели как свечи. Горели не несколько, а сотни домов и церквей сразу. Арбат был весь объят пламенем, и пожар двигался к Новинскому монастырю. Огонь двигался от Успенского оврага, где находилась церковь св. Леонтия. Потом шел берегом до Черторья; дальше пламя неслось к Семчинскому сельцу. Таким образом, пожар охватил пространство в несколько верст.
Иоанн деятельно боролся с огнем. Работал, как простой крестьянин. Став лицом к огню на Успенском овраге, он, вместе с боярами и великим князем Владимиром Андреевичем, старался отстоять посад. Он не щадил своей жизни; осыпаемый искрами и вынося неимоверный жар, он хладнокровно отдавал приказания и сам, когда видел необходимость, не думая об опасности, лез на крыши загоравшихся зданий. Бояре не отставали от него и боролись с пожаром настолько, насколько это было во власти человека.
XVI. ПОДВИГ КНЯЗЯ НОГТЕВАМуж Марии Васильевны, князь Данило Андреевич, работал на этом пожаре не меньше других. Оставив дома плачущую от испуга Марью Васильевну, он поспешил на пожар. За жену князь не тревожился, так как их дом был слишком отдален от горевшей части города и находился в полнейшей безопасности. Когда Даниил Андреевич поспел к пожарищу, пожар уже свирепствовал со страшной яростью. Князь, не теряя времени, принялся работать. Теперь он стоял на кровле одного из домов и старался отстоять сухое строение от пожара. Он с двумя другими боярами беспрерывно смачивал водой деревянную кровлю. Напротив этого строения большой дом был совершенно охвачен пламенем. Крыши уже не существовало: более тонкая, чем другие части дома, она сгорела раньше всего. Вместо нее остались только несколько медленно догоравших балок. Второй и первый этажи еще ярко горели. Наружные части стены были объяты пламенем, а изнутри лишь все чаще и чаще показывались языки пламени.
С этого дома на тот, который отстаивал Ногтев с товарищами, падали головни и снопы крупных искр. Бояре деятельно работали…
– Ой, лишечко, лишечко! Детки мои, детки! – раздался в это время отчаянный женский крик.
И, верно, ужасен был вопль несчастной матери, если он заглушил треск горевшего дерева, шумные возгласы работавших и плач погоревших: Бояре и Данило Андреевич, как они ни были поглощены работой, обратили внимание на этот крик и посмотрели туда, откуда он доносился. Несмотря на то, что уже давно наступил вечер, на пожарище было светло как днем, и они различили женщину, бившуюся в сильных руках каких-то мужчин, вероятно удерживавших ее от попытки броситься в огонь. Желая вырваться из державших ее рук, женщина каталась по земле и билась о нее головой, беспрерывно повторяя отчаянным голосом:
– Дети мои! Деточки милые горят! О-ох! Лишечко! Ужасный крик этот до глубины души потряс молодого князя. Не сказав ни слова товарищам, он поспешно спустился с кровли.
– Где твои дети? – спросил он у вопившей женщины, подойдя к ней.
– Там, там! – горько рыдая, произнесла она, указывая рукою на охваченный пламенем дом.
– Вверху? – коротко спросил Данило Андреевич. Женщина утвердительно кивнула головой.
– Сколько их и кто они – мальчик или девочка? – продолжал поспешно спрашивать князь.
– Две девочки… Одной пятый… другой четвертый годок, – прерывающимся голосом пояснила женщина и опять завопила: – Ой! лишечко! Деточки мои, деточки!
– Молись, чтоб помог Бог: я спасу твоих детей, – проговорил Данило Андреевич и направился к горящему дому.
– Князь, князь! – окликнул его один из бояр. – В уме ли ты? Нешто можно в огонь прямо лезть? Где их спасти – Божья, знать, воля! Себя только погубишь!
Ну, умру, помолитесь обо мне, – хладнокровно ответил князь, подставляя лестницу к одному из горящих окон.
– Бог тебе в помощь, княже, будет! Иди на подвиг! – молвил слышавший все Иоанн. – Господь не оставит тебя! – продолжал он.
– Одна просьба, братцы, – проговорил князь, – как влезу в окно, отымите лестницу от стены, что не сгорела, а только покажусь, коли Бог даст, снова, немедля приставьте опять… Сделаете? Не забудете?
– Ладно! Исполним, как сказываешь! – хором ответили ему.
Окатив себя водой, Данило Андреевич поднялся по лестнице и, перекрестясь, не задумываясь, шагнул через оконницу в наполненную дымом и огнем внутренность дома. Фигура его скрылась от глаз смотревших.
Минуты ожидания казались часами. Глаза всех не отрывались от окна, в котором скрылась, быть может, навеки фигура молодого князя. Но, ни для кого не были так долги и так тягостны эти минуты, как для несчастной матери. Она стояла, словно окаменев. Вся жизнь ее, казалось, сосредоточилась в одном взоре, обращенном на роковое окно. «Спасет или нет? Вот, вот, кажется, что-то мелькнуло! Нет, то дым застлал на время пламя» – проносится в голове женщины, находящейся между горем и надеждою. «А вдруг он покажется один? О-о! Что будет тогда, что будет! Ума, кажись, лишусь!»
Страшны бывают эти минуты ожидания, когда вот-вот должен разрешиться вопрос, от того или иного решения которого зависит счастье или несчастье всей жизни. И как долго тянутся такие минуты! Сколько переживаешь в это время. То надежда шепчет, что – да, должно свершиться желаемое, то иной голос разбивает надежду и, напротив, сулит полную неудачу. А сердце колотится неровно и часто. И хочется сказать ему: не бейся так, зачем понапрасну тревожиться – сейчас все решится! Но видно, не сердце виновно в переживаемом волнении, а наш мозг, в котором гвоздем засела неотвязная мысль: «Что будет, что будет?»
Однако минуты длились, а князь не показывался. Толпа замерла. Неслышно было обычного говора, забыта была борьба с пожаром, все, от царя до последнего смерда, замерли в ожидании.
Несчастная мать не спускала глаз с окна, стояла неподвижно, только рука ее часто-часто творила крестное знамение, да губы тихо шевелились, шепча молитву. Уж у многих стало закрадываться сомнение в благополучном исходе, другие раньше решили, что князь пошел на верную гибель, и, уверенные в этом, потеряли даже ту тень надежды, которая невольно, одно время, закралась в их души.
Вдруг единодушный радостный крик вырвался у всех: в окне показался Данило Андреевич! Но один или с детьми?
Сомнение быстро разрешилось: князь что-то бережно держал в руках, завернув в снятый с себя кафтан.
Подставить лестницу было делом одной минуты. Князь быстро спустился и вовремя – второй этаж обвалился, и весь дом обратился в один пылающий костер. Как безумная, кинулась мать к возвращенным ее детям. Она плакала, смеялась от радости и в неистовом восторге целовала руки спасителя ее детей. Дети были без чувств от дыма, но скоро пришли в себя и дико озирались помутившимися глазами вокруг, еще не сознавая окружающего.
– Бог сторицей воздаст тебе, благодетель, за доброе дело! – в последний раз поблагодарила князя мать спасенных и всецело отдалась детям.
Она их рассматривала, как будто впервые увидела после многолетней разлуки, и радостными слезами орошала их русые головки.
Дети вышли вполне невредимыми, если не считать маленького угара, но нельзя было сказать того же самого про их спасителя. Молодого красавца князя едва можно было узнать в стоящем теперь человеке. От золотистых кудрей не осталось и помину: они сгорели, едва Данило Андреевич успел вступить в горящий дом. Концы бороды тоже обгорели. Кожа на лице почернела от дыма и треснула. Местами видны были пузыри от ожогов. Наружная поверхность рук была вся сплошь обожжена и превратилась в сплошной пузырь. Платье изорвалось и местами истлело. Словом, Данило Андреевич довольно сильно пострадал.
Но зато, каким счастьем светились его темно-голубые глаза, когда он смотрел на спасенных им малюток! Он их любил в этот миг, как мать любит новорожденное дитя: он страдал за них и вернул им жизнь. Глядя на них, он забывал о своих ожогах и пережитой опасности.
Кругом бояре расхваливали его. Сам царь подошел к нему.
– Ну, княже! Жаль, что это не на войне, а то пожаловал бы я тебе гривну золотую [76]76
Золотая гривна (медаль) была знаком отличия на войне.
[Закрыть]! – сказал Иоанн, и в его светлых глазах, устремленных на князя, блеснула слеза. – Будь же и вперед ты таким же добрым молодцем, и я тебя не забуду! – продолжал царь. – А теперь, поди, домой к хозяйке: перевяжи свои обжоги… Нечего тебе здесь больше делать: ты уж поработал вдосталь!
– Спасибо, царь-батюшка, за милостивое слово! – низко поклонился Данило Андреевич.
Скоро все опять принялись за работу, а князь, только теперь начинавший чувствовать, как невыносимо болят обожженные руки, поспешил домой. Марья Васильевна сперва не признала мужа в этом лысом, черном и обожженном человеке, потом, ахнув от изумления и испуга, спросила, что с ним случилось. Данило Андреевич, нисколько не хвастаясь и не придавая особенного значения своему подвигу, рассказал, как было дело. Марья Васильевна, взглянув на него восхищенным взором, крепко поцеловала мужа в его потемнелый от дыма лоб и, обняв, тихо промолвила:
– Даниил! С этих пор я не могу не любить тебя!
Эти слова довершили счастье молодого князя.
Думал ли он, что спустя много лет другой человек, его враг, совершит такой же подвиг, как он сейчас, спасая его собственных детей и жену, и что слова женщины, сказавшей: «Бог сторицей воздаст тебе за доброе дело!», осуществятся тогда, когда великое бедствие посетит родную землю, когда будет гореть не одна частица, а вся Москва, зажженная руками воинов великого русского недруга!








