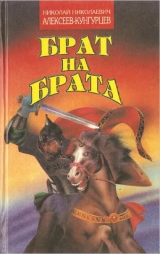
Текст книги "Брат на брата. Заморский выходец. Татарский отпрыск."
Автор книги: Николай Алексеев-Кунгурцев
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 50 страниц)
– Марк! Дитя мое! Ты ли? – восклицает Карлос, и его голос дрожит от радости.
– Я, я! Отец, учитель! Прости недостойного! У меня не хватило сил умереть, жизнь потянула… Я не устоял… Отец! Если бы ты знал, какие там страшные глухие стены! Ни звук, ни свет ле прорвется сквозь них… Могила темная, холодная… Я убежал…
– Марк! да разве я виню тебя? Так должно было случиться еще раньше. У тебя еще слишком сильная воля. Ты смог глядеть в глаза смерти, другой не смог бы и этого. И, если позже решимость твоя поколебалась, когда надежда жизни улыбнулась тебе, разве ты виноват, что не устоял против искушенья? Кто б устоял? Святой или ненавистник жизни. Я бы, старик, не устоял… Твоя одежда совершенно мокра, вода струится с волос… Где ты встретил Беппо? Расскажи, как устроил побег.
Марк передал Карлосу все подробности своего бегства.
– Только слепой случай помог тебе избегнуть смерти, – промолвил старец, когда Марк окончил свой рассказ.
– Да! Если б мы с Джованни не напоили тюремщика, не видать бы нам Марка, – сказал Беппо.
– Судьба! Марк, уверовал ли ты теперь в судьбу?
—. Да, теперь я верю, учитель.
– Звезды не обманули. Не хотел добровольно – теперь тебе против воли придется покинуть Венецию: здесь оставаться нельзя.
– Но как же ты один останешься?
– Да разве я буду одинок, если при мне всегда будет мысль, что мой Марко жив и свободен и сеет в полудикой стране то «доброе семя», которое я кинул в его душу? Разве это сознание малого стоит? Да! Я был одинок, пока ты находился в темнице, я был бы одинок вдвое, если б узнал о твоей погибели… Но теперь… Боже мой! Да разве расстояния могут разделять людей, у которых одни помыслы, у которых сердца бьются одинаковым желанием? Нет! Тысячу раз нет! Мы более одиноки, если сидим с человеком, с которым не имеем связи духовной. Не бойся за мое одиночество, сын мой: мы и разделенные всегда будем вместе. Не испытывай более судьбы: поезжай на родину!..
– Слушаю и повинуюсь, отец: я поеду, – тихо ответил Марк.
– Да поможет тебе Бог! – дрожащею рукою перекрестив юношу, прошептал старец.
Таким образом был решен отъезд Марка.
Наступило недолгое молчание. Его прервал Беппо:
– Пока Марк укроется у меня.
– Да, это будет безопаснее. Пожалуй, его будут искать у меня, – сказал Карлос.
– Ему нужно оправиться от ран. Посмотри-ка, как его там отделали.
– Это ничего, скоро заживет, – промолвил Марк.
– Беппо прав – прежде, чем пускаться в такой дальний путь, тебе нужно поправиться, – заметил старик, а потом добавил: – Как-то еще удастся тебе ускользнуть из Венеции?
– О, это мы устроим! У меня много знакомых среди моряков – найдем корабль, который тайком увезет его.
Была уже глубокая ночь, когда Беппо привез Марка к себе. Теперь его «лачуга» уже не казалась неприветливой и неуютной, как в то время, когда он, озлобленный и огорченный, убежал из нее размыкать свое горе. Не то было и на душе у него, и он, окончив с приятелем скромный ужин и запивая его дешевым вином, среди дружеской беседы промолвил:
– А знаешь, Марко, жизнь, какая ни есть, все же хорошая штука!
– Твоя правда… В особенности после «камеротты»… – ответил Марк и невольно вздрогнул, вспомнив свою недавнюю страшную темницу.
XIX. ГОРЕ И РАДОСТЬПока Марк жил у Беппо, Джованни и Бригитта ежедневно навещали его. Разумеется, их поездки тщательно скрывались от Каттини и Марго, а если случалось, что скрыть было невозможно, они выдумывали подходящий предлог. Для Бригитты это время было и самым счастливым, и самым печальным. Она могла каждый день видеть Марка, говорить с ним целые часы – это было ее счастьем. В присутствии его она забывала и пережитые горести, и предстоящую разлуку, она вся сливалась в один неудержимый порыв любви. Она не спрашивала, любит ли Марк ее, не говорила и сама ему о своей любви, но по трепету ее рук, по блеску глаз, когда она смотрела на него, по неровности речи, по внезапной перемене в лице, то вспыхивавшем ярче зари, то бледнеющем до белизны снега, можно было догадаться и о том, что она любит, и о том, кого она любит.
Марк все это видел. Порою он останавливал свой взгляд на ее оживленном личике и. любовался ею, как любовался б ы картиной, в совершенстве исполненной гениальным художником. Он спрашивал себя, можно ли не любить такое прелестное существо, и отвечал: «не любить нельзя», и он любил ее, но в этой любви не было ничего похожего на любовь Бриггиты к нему. Если бы ей грозила опасность, он грудью встал бы на защиту девушки, ради ее спасения не пожалел бы своей жизни, но того, что отличает любовь от братской или сыновней привязанности – огонька страсти, не было в его сердце. Почему он не мог полюбить Бригитту истинною любовью молодого мужчины к молодой и прекрасной женщине, он сам не знал. Быть может, причина крылась в том, что она слишком сильно любила его. Человеку, каков бы он ни был, всегда свойственно более ценить и любить то, что досталось ему с трудом и усилиями. Плоды победы всегда дороже того, что «как с неба свалилось».
Марку нравилось беседовать с Бригиттой, прислушиваться к ее мелодичному голосу, но часто среди оживленной беседы он задумывался, и девушка сердцем понимала, что в эти мгновения он далек от нее, что ни она, ни все окружающее для него не существует, что его мысль витает где-то там, в далекой, холодной стране, где иные нравы, иные люди. И она не ошибалась.
Прежние мечтания, насильно заглушенные, проснулись с новою силой в душе Марка; орел почуял свободу и готовился расправить крылья. Ему снова слышались и ропот сумрачных лесов, и заунывно-раздольная песня, снова грезились неведомые города, златокудрые белолицые девы слетали к его изголовью. Обыкновенно ровный и спокойный, он оживлялся, когда речь заходила об отъезде, в глазах загорался огонек, когда разговор касался далекой Московии. И эти же разговоры заставляли невыносимо страдать Бригитту; с небес она опускалась на землю, где, казалось ей, ничего не оставалось, кроме горя и отчаянья.
– Не грусти, дружище Беппо! Бог даст, все устроится.
Эти слова вызывали краску на щеки Беппо.
Время проходило. Раны Марка быстро заживали при хорошем уходе, и скоро только красноватые шрамы обозначали те места, где они были. Джованни и Беппо, после многих поисков, нашли капитана корабля, который взялся тайно вывезти Марка из Венеции. Настал наконец и день или, вернее, ночь отъезда.
Вскоре после того, как закатилось солнце, в каморку Беппо собрались Джованни, Бригитта и старик Карлос для прощальных проводов Марка. В этот вечер беседа не вязалась. Все были грустно настроены. Глаза Бригитты были красны от слез, Карлос не раз смахивал украдкой что-то со своих глаз, Джованни и Беппо очень часто мигали и покашливали.
Около полуночи Беппо стал снаряжать лодку. Все зашевелились, заговорили. Карлос подал своему питомцу большой кожаный кошель.
– Возьми на дорогу. Здесь все, что я накопил за свою жизнь.
– Отец! Ты стар и дряхл, тебе нужнее.
– Нет, деньги облегчат тебе путь – ведь он очень труден и далек – помогут устроиться на родине. У меня остались вещи, которые я могу обратить в деньги. Мне немного надо.
– Спасибо, учитель, спасибо, отец! Дорогой мой! Мое сердце рвется от тоски! – воскликнул Марк со слезами в голосе.
– Судьба, судьба, сын мой!
– Все готово, – сказал Беппо, войдя.
– Прощай, Отец… Благослови! – воскликнул Марк, склоняясь перед старцем.
– Да благословит тебя Бог, да наставит и укрепит Он тебя в пути и в новой жизни. Поцелуй меня в последний раз! – добавил Карлос, дрожащими руками обнимая Марка. По его морщинистому лицу текли крупные слезы.
Марк тихо плакал.
Потом подошел прощаться Джованни. Он без слов крепко обнял Марка: говорить ему мешали слезы.
Бригитта прощалась последняя. Она плакала и не хотела скрывать слез, не хотела скрывать и своей любви.
– Марк! Что же скрывать? Я тебя люблю и буду любить, пока жива. Сердцу не прикажешь… Я не стыжусь своей любви: кто не полюбит такого, как ты? Мы навсегда расстаемся… Обними, поцелуй меня… в первый… и в последний раз…
Она не могла продолжать. Марк обнял ее и поцеловал, как сестру.
– Бригитта, – шепнул он ей потом, – соберись с силами, не отчаивайся… Бог так судил. Жизнь впереди у тебя. Исполни одну мою просьбу!
– Все, все, что хочешь! – шепнула девушка.
– Беппо тебя любит. Ты привыкнешь к нему, будешь счастлива… Выйди за него замуж, моя милая, дорогая… сестра!
И он еще раз поцеловал ее.
– Хорошо! Сделаю, как говоришь, милый, дорогой, любовь моя! – говорила в каком-то исступлении девушка.
– Пора ехать, – произнес Беппо.
На самом деле еще можно было помедлить, но ему невтерпеж стало смотреть на поцелуи Марка и Бригитты. Марк вырвался из объятий Бригитты и почти бегом, не оборачиваясь, кинулся к двери. Вспрыгнуть в лодку было делом одной минуты.
– Отчаливай скорее, Бога ради! Промедлим – не выдержу и останусь, – крикнул он товарищу. Беппо опустил весло в воду. Еще раз перед Марком мелькнули в растворенных дверях освещенной комнатки дорогие ему лица учителя, Бригитты, Джованни и скрылись во тьме. Гондола неслась стрелою по тихой воде. Марк взял весло и стал помогать своему другу.
Только к рассвету возвратился Беппо.
– Один? – спросили его в один голос и старик, и Джованни с сестрой. Что-то дрогнуло в их голосе, когда они спрашивали: казалось, в их сердце еще была надежда, что, может быть, Марку в эту ночь не удастся уехать. Но ответ Беппо отнял эту надежду.
– Один, – ответил он и, швырнув в угол шапку, мрачный и задумчивый, опустился на скамью.
Некоторое время все молчали. Первый заговорил Джованни:
– У моей сестренки есть кое-что тебе передать.
Беппо встрепенулся:
– Что такое?
Бригитта, краснея, еще хранившая на своем лице остатки слез, подошла к нему.
– Хочешь, Беппо, назвать меня своей женой? – просто сказала она.
Тот вскочил, покраснев как вареный рак. Он не верил своим ушам.
– Тебя? Своей женой? – пролепетал он.
– Да. Так сделать мне посоветовал Марк.
Она еще не успела докончить фразы, как Беппо уже душил ее в объятиях.
– Когда же нам отпраздновать свадьбу? – спросил Беппо, когда первые восторги его утихли.
– Не прежде, чем отомщу Джузеппе Каттини, – ответила Бригитта, сдвигая брови.
– Как, ты хочешь ему отомстить? – промолвил Джованни.
– Отнять у него то, что он больше всего любит.
– То есть?
– То есть деньги.
– Не делай этого, дитя мое! – вмешался все время молчавший Карлос. – Не плати ему тем, чем платит он. Душа его – порочная, злая – требовала мести, и он мстил низко, подло. Ты чиста и сохрани чистоту: не пятнай себя мщением злодею!
– Правда, синьор Карлос! Ну его! Стоит с ним связываться! – вскричал Беппо и добавил: – Кроме того, с него довольно будет, что ты не выйдешь за него замуж. Разве это не месть?
Некоторое время Бригитта сидела задумавшись.
– Хорошо, – сказала она потом, – я сделаю так, как вы хотите – не буду мстить. Бог накажет его и помимо меня.
– Конечно, Бог накажет, – подтвердили все в один голос.
XX. ПО ЗАСЛУГАМПорочная, развратная Венеция XVI века, та Венеция, где человек, имеющий не более трех любовниц, считался образцом добродетели, где ни одно поругание догматов и правил религии не считалось грехом, где разврат процветал не менее того, как в последние дни великой Римской Империи, – та Венеция иногда умела преклоняться перед нравственной чистотой, подобно тому, как закоренелые преступники часто плачут при чтении наивно-простого, трогательного рассказа. Кроме того, у развращенных венецианцев был развит художественный вкус, и красота побеждала их, в какой бы она форме ни проявилась. Не удивительно поэтому, что скромная маленькая церковь, где венчались Беипо и Бригитта, была переполнена народом, в рядах которого виднелось немало разнаряженных принчипе и принчипесс [20]20
Князей и княгинь.
[Закрыть], прибывших взглянуть на «первую красавицу из народа».
Стоя рядом с женихом перед алтарем, Бригитта казалась такою девственно чистою в своем белом платье и венке из апельсиновых цветов, что многие из принчипесс тяжело вздыхали, вспоминая о своей былой, навеки утраченной чистоте и, возвратясь домой и оставшись наедине с каким-нибудь своим до мозга костей развращенным любимцем, мечтательно говорили ему:
– Знаешь, Чизари, хорошо быть добродетельной… Есть что-то такое особенное…
Не удивительно и то, что процессия молодых девушек, сверстниц Бригитты, встретила ее у входа в храм и осыпала белыми розами, приветствуя «самую добродетельную, самую красивую» из своей среды.
Не удивительно было и то, что Беппо с таким гордым видом стоял рядом со своей красавицей невестой и, слыша шепот зависти среди – своих сотоварищей, поглядывал на них с улыбкой, которая говорила:
– Что, братцы, съели гриб, пропустили мимо носа! Теперь моя, и никто ее от меня не отнимет.
Ну вот чему многие удивлялись: мать невесты не принимала никакого участия в свадебном торжестве, ее даже не было в церкви.
Никто, конечно, не знал, что, пока Бригитта венчалась, ее мать, озлобленная более, чем когда-либо, сидела у себя дома вместе с Джузеппе Каттини.
Кабатчик был пьян и свиреп. Он ругал всех и вся. Марго вторила ему и сыпала проклятия на голову непокорной дочери.
Однако вскоре беседа их приняла иной характер. Ругая всех, кабатчик выругал и Марго. Толстуха не стерпела, ответила ему тем же. Завязалась перебранка, окончившаяся тем, что Джузеппе поставил иод глазом Марго изрядный си няк, за что и был выгнан ею с позором кочергой. Он еще с полчаса бранился и стучал в запертую дверь, а Марго ходила подбоченясь по комнате и кричала в ответ ему отборные словечки.
«Молодые» предполагали, что старуха положит гнев на милость и, если не явилась в церковь, то все же придет на квартиру молодого мужа, чтобы благословить их на счастливую жизнь и выпить кубок вина. Однако их ожидания не оправдались, и пришлось засесть за свадебный пир без нее.
Отсутствие Марго не помешало молодым быть веселыми. Совесть не упрекала Бригитту, что она пошла против воли матери, так как исполнить ее желание значило поступить безнравственно. А Беппо был так счастлив, что забыл бы про неудовольствие и десяти Марго.
Пировать было немного тесно, несмотря на то гчто Беппо, ради торжественного случая, попросил соседа уступить ему свою квартиру, с которою его комната соединялась дверью. Однако пирующие мало обращали внимания на тесноту, и, наверное, в раззолоченных, обширных жокоях какого-нибудь герцогского палаццо никогда не бывало такого веселого пира. Дешевое вино лилось рекой. Разговоры не прекращались, шутки, остроты, забавные рассказы сыпались со всех сторон.
Вдруг в самый разгар пира раздался неистовый стук в дверь. Едва ее отворили, в комнату вбежала старуха Марго, а за ней сосед Маттео. На толстухе, что называется, лица не было.
– Беда случилась! – завопила она, стуча остатками своих зубов.
– Что такое? – посыпались расспросы.
Старуха торопилась рассказать, но говорила так бессвязно, что никто ничего не понял. Прошло немало времени, пока дело выяснилось благодаря пояснениям Маттео.
Оказалось следующее. Выгнав Каттини, Марго постепенно успокоилась и решила простить дочь и поехать на пир к молодым. Она оделась, как подобает случаю, но, когда хотела выйти, дверь не отворялась. Казалось, она была чем-то приперта снаружи. Только после долгих усилий Марго удалось приотворить дверь настолько, чтобы кое-как выбраться из комнаты. Каково же было ее удивление и ужас, когда она, выбравшись наружу, увидела, что дверь мешало отворять не иное что, как труп Каттини: кабатчик нашел над дверью ка– кой-то крючок и повесился, сделав петлю из своего кушака.
Марго побежала к Маттео, которого и попросила отвезти себя к «молодым».
– Что же, он там и до сих пор висит? – спросил Джованни.
– Верно, нет: сын Маттео поехал дать знать брату Джузеппе.
– Ну, тогда о чем же и толковать? – сказал Беппо. – Собаке и собачья смерть!
– Это его Бог покарал за Марка, – тихо промолвила Бригитта.
При упоминании о Марке Марго опустила глаза.
– Ну, Бригитта, – сказала она, – я прощаю и благословляю тебя… и тебя, Беппо. Будьте счастливы, дети! – и затем она добавила тихо: – Прости и ты меня, дочка!
Бригитта со слезами радости обняла мать.
Так был заключен мир. После этого пир пошел еще веселее.
А в то время, когда эти события происходили в Венеции, Марко был уже далеко от нее, спеша к своей далекой, холодной и незнакомой, но дорогой ему родине.
Часть вторая
I. В ЦЕРКОВЬ, НО НЕ МОЛИТЬСЯМартовское солнце хоть еще и не очень жарко, а все же горячее зимнего, и от лучей его заметно подтаивает, буреет, оседает и выпускает из-под себя мутные ручейки порыхлевший снег.
Уже началась порядочная распутица – в 1584 году после весеннего перелома зима круто повернула на лето, и в несколько дней московские улицы стали неузнаваемы. Где еще недавно шла гладкая, как бархатная ткань, дорога, окаймленная по сторонам высокими сугробами, там теперь тянулась бурая лента какой-то серой «жижи» из снега и воды. Москвичи и оглянуться толком-то не успели, а сугробы словно слизало и на их месте появились противные лужи.
– Бе-е-да! – покачивая головой, ворчал какой-нибудь сивый дед-старожил, пересекая, семеня шажками, дорогу и утопая в «жиже» по самую щиколотку.
– Кабы за зиму снега было поменьше, то, видать, иное было бы, – замечает со знанием дела какой-нибудь парень, молотя ногами противное месиво…
Немногим легче было верховым ездокам, это испытал на себе одинокий всадник, едущий утром по– одной из улиц Москвы, ведущей за город. Узкая улица, сжатая с боков заборами боярских дворов, казалась непроезжей, до того ее залило весеннею «жижей», и конь, несмотря на понукание, плелся тихим труском, а то и просто шагом, часто оступался, попадая копытом в наполненную талым снегом выбоину, скользил, когда улица спускалась под гору. Конь был не из особенно породистых, но грудастый, с крепкой шеей и сильными ногами, такой, про которого можно было сказать: «Добрый конек».
Всадник был под стать коню. Он не мог назваться красавцем, но эпитет «доброго молодца» был к нему вполне применим. У него был свежий, здоровый цвет лица, и это искупало некоторую неправильность в чертах лица; серые глаза небольшие и косо прорезанные, как у монгола, смотрели так добродушно-приветливо, что заставляли забывать неправильность их строения. По-видимому, рн был невысок ростом. Кафтан суконный, подбитый каким-то темным мехом, не мешал видеть стройность его сложения, и ширина плеч еще более выигрывала от сравнения с тонким, гибким станом, перетянутым красным кушаком, к которому была прицеплена сабля в бархатных с серебряными украшениями ножнах и из-за которого грозно выглядывали рукоятки двух «пистолей» – предохраняя ездока, едущего за город: времена были нынче тревожные и нельзя было особенно ручаться за свою жизнь…
Из-за поворота выступили небольшая вспотевшая, вся вытянувшаяся от натуги лошаденка, тянувшая розвальни с какой-то кладью, и рядом с нею шагавший седой мужичонка, немилосердно нахлестывавший притомившегося коня.
Молодой всадник вгляделся и крикнул:
– Фомич! Никак ты?!
– А я ж самый и есть, Лександр Андреич, – ответил седой мужичонка, затыкая за пояс свой кнут.
– Ты как сюда попал?
– За тобой Меланья, Кирилловна послала.
– Вот на! Что я – дите малое, что ли? – с легким неудовольствием промолвил Александр Андреевич.
– Как ты вчера из города не приехал, матушка твоя забеспокоилась. Ночью же меня и послала: «Поезжай, говорит, Фомич, узнай, что с ним там стряслось. Мало ль какой грех случиться может!» Ну, я и поехал.
– А везешь-то что?
– А это, чтоб дарма в город не ехать, Меланья Кирилловна муку к купцу одному свезти приказала. Уж и намучился же я! Не везет коняга, да и шабаш! До Москвы еще кое-как, а здесь просто беда!
– Как же так тебя одного и с поклажей ночью отправили? Ведь лихих людей по дорогам вдосталь.
– И-и, касатик! Что мне сделают!
– Как что? Коня и кладь отнять могли да и с тобой порешить.
– Коня это точно… А меня борода седая, что броня, защитит – на сивого, чай, у душегуба и рука не поднимется. Ну, да Бог пронес! А ты, Лександр Андреич, уже сделай милость: поезжай скорей в вотчину, успокой матушку.
– Да, видишь, еду. Только я сперва еще в церковь.
– В какую же? По пути, кажись, нет.
– В сельцо Степановку.
– С чего ж ты будешь верст десять крюку делать?
– Так… надобно мне, – ответил Александр Андреевич и улыбнулся. – Ну, поезжай с Богом!
– Прощай, Лександр Андреевич, – прошамкал старик и вновь принялся нахлестывать лошаденку. – Ну-ну, ирод! Ну, окаянный, чтоб тебя разорвало.
Александр Андреевич, успев уже отъехать на несколько сажен, придержал коня и крикнул Фомичу:
– Коли отдохнуть хочешь, заезжай во двор к Тихону Степановичу. Я у него и ночевал, да уехал рано, с ним не повидавшись: он спал еще. Так ты поклон от меня еще передай!
– Ладно! Беспременно заеду. Ну-ну, животина! Ну-ну, ирод!
И старик зашлепал по тонкой жиже.
Тронул коня и Александр Андреевич.
Улица поднялась в гору; дорога стала получше, Серый припустил легкой рысью. Утреннее солнце золотило купола Кремлевских соборов, но над городом еще лежал тенистый налет и в нем тонули зубчатые стены, боярские хоромы с резными стрельчатыми теремами, деревья садов, широко раскидывавшие свои безлистные ветви, словно руки, простертые, чтобы больше захватить весенней теплоты, чтобы дотянуться до ясного солнца. Где-то зазвонили к заутрене или к ранней обедне, звук отозвался в другой церкви, в третьей, и скоро переливчатый звон разлился над Москвой из всех ее «сорока сороков» церквей и соборов. Город просыпался. Чаще и чаще слышались полузаглушенные колокольным звоном «людская молва и конский топот». Скрипели ворота дворов, и из них выползала либо таптана [21]21
Таптаной или каптаной – назывался вместительный зимний экипаж, несколько напоминающий троечные сани.
[Закрыть]едущего в церковь многосемейного боярина, либо болок [22]22
Болок – подобие кибитки.
[Закрыть], либо просто сани, возница истово крестился на все четыре стороны, встряхивал возжжами да покрикивал на коней: «Эй, вы, милые!» Мелькали конные фигуры боярина и его челядинцев, чинно проезжал соборный протопоп, из-под камилавки или скуфейки которого выглядывали две жиденькие косицы, плелся холоп, впервые попавший в Москву и с разинутым ртом смотревший на каменные палаты, на церкви, чуть не касающиеся неба своими золочеными маковками, и другие дива…
Александр Андреевич без устали погонял коня. Колокольный звон, разлившийся по городу, напоминал ему, что время уходит. Добраться до окончания обедни до церкви в селе Степановка было для молодого человека чуть ли не вопросом жизни и смерти. Он горел от нетерпения. Однако, как он ни гнал коня, когда пришлось ему выбраться из стен Москвы и простор полей раскинулся перед ним, солнечные лучи обливали уже не только главы московских соборов, но спустились ниже на верхи теремов, на вершины дерев. Теперь дорога шла глаже, и Серый сам наддал.
Турбинин – так было прозвище молодого боярина – вглядывался вдаль. Поля тянулись во все стороны, впереди темнел лес. До него было еще очень далеко, но уже сердце Александра Андреевича начинало наполняться особенным, томительно-приятным чувством: он знал, что, проехав этот лес и взобравшись на холм, он увидит ряды изб села Андреевского и колокольню деревянной церкви. Еще верста потом – и… и он будет стоять на паперти, поджидая приезда таптаны боярина Степана Степановича Кречет-Буйтурова.
И, когда она подвалит к церкви и холопы помогут выйти из нее сановитому боярину, который, увидев Турбинина, кивнет ему головою и вытащит тучную боярыню, задыхавшуюся под тяжестью шубы, тогда выпорхнет – именно выпорхнет, как пташка! – миловидная, белая, с переливчатым румянцем, боярышня и посмотрит на него лучистым, теплым взглядом и, вся вспыхнув, смущенно кивнет в ответ на его низкий поклон. Она пройдет за отцом и матерью в ту часть церкви, где разостлан коврик для семьи боярина Кречет-Буйтурова. Он встанет там, в сторонке, и будет подмечать на себе порою брошенный мельком взгляд голубых глаз, будет следить, как она наклоняет головку, как ее маленькая белая ручка творит торопливо крестное знамение.
Александр Андреевич почти выпустил поводья из рук. Он смотрел, как вырастает, становится менее темным, приближается лес, и думы – счастливые молодые думы – неслись, сменяя одна другую, и улыбка играла на лице боярина Турбинина и неровно поднималась его широкая грудь.








