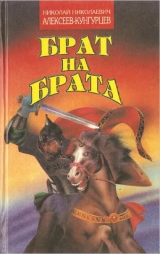
Текст книги "Брат на брата. Заморский выходец. Татарский отпрыск."
Автор книги: Николай Алексеев-Кунгурцев
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 38 (всего у книги 50 страниц)
Был знойный июльский день. Полуденное солнце горячими лучами обливало Москву. В городе было жарко и душно. Немощеные московские улицы, словно серой бронею, покрылись засохшею грязью, и проезжавшие по ним боярские рыдваны и возки всяких сортов поднимали целые столбы пыли, еще более увеличивая духоту. Но, ни зной, ни духота не могли удержать в домах московских граждан, и на улицах и площадях было заметно большое движение. То и дело мелькали осанистые фигуры бояр, ехавших верхом на коне или в тележке, запряженной парой сытых и быстрых лошадей. Целые толпы пешего люда брели куда-то, о чем-то шумно толкуя. День был будний, а между тем колокола московских церквей гудели неумолчно.
– Чтой-то такое? – задавал себе вопрос, слыша трезвон, московский житель, сидевший дома, и, кладя работу, спешил на улицу.
Толпы народа все увеличивались.
– Микитка, стой, парень, подожди! – кричал какой-то простолюдин, одетый в синюю из грубой ткани рубаху, прорванную на локтях, и такого же качества и цвета необходимую принадлежность одежды, догоняя высокого и тощего парня, спешно протискивающегося сквозь толпу.
– Эфто ты, дядя Хведот! Беги за мной скореича! – отвечал парень, оборачиваясь и слегка замедляя шаги.
– Куда бежишь-то? Али что сотворилось? И в колокола больно дюже трезвонят… Уж не пожар ли, грехом! – сказал Федот, настигнув наконец Микитку.
– Какой пожар! Весть добрая на Москву пришла… Нешто не слышал?
– Не! А что такое? – спросил Федот.
– Из Крыма от войска к царю, гонец приехал: совсем наши татар там побили! Теперь, почитай, конец пришел крымскому царству!
– Слава Тебе, Господи! – сняв шапку, перекрестился спрашивавший. – Теперь, может, не будут, ровно злые волки, на Русь нашу матушку набегать да в полон красных девушек утаскивать! Слава Господу!
– Да, пришел, знать, и им, как казанцам, конец! – продолжал парень.
– Даже и не верится, паря! Право, не верится, чтобы хана смирить можно было… И, как я смекаю, эфто все так, на время лишь, а опосля крымцы опять за свое возьмутся, – со вздохом произнес старший.
– Нет! Теперь царь-батюшка, полагать надо, добьет их, и очухаться не даст!
– Давай Бог! Поживем – увидим!
– А куда ж это народ-то бежит, да и ты с ним?
– Молебен митрополит служит, сказывают, по эфтому самому случаю… Царь сам, бают, на ем будет… Ну и бегут, каждому и Бога поблагодарить хочется, и на царя посмотреть любо!..
– Вот оно что! А мне и невдогад!
– Так бежим скорее, а то наберется народу, и в собор не попасть будет! – сказал первый из говоривших.
– Бежим, бежим! Только как бы через толпу пробраться, – ответил Никита, и оба еще усерднее стали пролагать себе путь в толпе бегущего люда.
А толпа все росла.
Когда Никита и Федот приблизились, наконец, к собору, то увидели, что пробраться во внутренность церкви далеко не так легко, как они предполагали: на паперти собора была страшная давка. Пока они стояли, раздумывая, лезть ли уж им в эту давку, из толпы на паперти послышался хриплый старушечий голос:
– Ой, ой! Отпустите, православные, душу на покаяние! Да-а-вят!
Очевидно, в толпе кого-то давили. Крик этот раздался неподалеку от Федота и Никиты, стоящих близь паперти. Они поспешили на помощь, проложив дюжими кулаками себе проход, вытащили из давки того, кто кричал. Это оказалась старуха. Она полузадохлась и теперь, стоя на просторе, вне толпы, жадно вдыхала воздух.
– И чего эфто ты, бабушка, в давку такую полезла… Знамо дело, стар человек, слаб, как раз раздавят, – с укоризной сказал Федот, глядя на бледное лицо старухи.
– Ох, уж и не говори, милой! Чуть душу Богу не отдала… так сдавили… И ума просто не приложу, чего я полезла-то туда! Шла мимо, вижу, в собор народ валит. Что такое? спрашиваю, потому знаю, обедня уж кончилась. Говорят мне: – митрополит молебен служить будет по сему случаю, что крымчан наши вой побили, и царь приедет… Услышала я, ну и мне захотелось помолиться со всеми, и полезла в давку… Оглупела совсем, видно, я от старости. Вот те и помолилась! Кабы не вы, добры молодцы, спасибо вам, так совсем бы мне тут конец, право слово! Умерла б, спаси Бог, без покаяния!
– Авдотья! Ты что здесь делаешь, старая? – окликнул ее в это время высокий загорелый незнакомец.
Старуха – это была нянька Марьи Васильевны – с недоумением посмотрела на незнакомца, звавшего ее по имени.
– Чтой-то, боярин, – сказала она, глядя на стоящего перед нею мужчину, заслонив рукою от солнца свои подслеповатые глаза, – как будто мне не признать, кто ты таков.
– Перемена во мне, стало быть, большая, коли ты меня признать не можешь, – произнес, усмехаясь, незнакомец.
– Батюшки-светы! Да никак это ты, боярин, Андрей Михалыч! – всплеснула руками старуха.
– Он самый, он самый, бабушка!
– Да неужто вернулся уж совсем с похода?… Ведь, кажись, войско еще не возвратилось…
– Совсем вернулся!.. Хочу в Москве-матушке белокаменной пожить: надоело с татарами гололобыми возиться… Тоска взяла, вот и приехал домой, благо, попутчик нашелся – посланец от Данилы Адашева – князь Хворостин, Федор!.. Так-то! Вчера поздно только в Москву приехал, еще нигде побывать не успел. Ну, как поживаешь, старая?
– Да уж, какое мое житье? Знамо дело, старость – все кости болят, особливо к дождю, так просто моченьки нетути!.. Одначе Бог еще моим грехам терпит, скриплю помаленьку; сейчас только чуть было душу мою грешную Ему в руцы не отдала. Кабы не эти молодцы, то не быть бы…
– Как боярыня? Здорова ли? – нетерпеливо перебил Андрей Михайлович словоохотливую старуху.
– Здорова, слава Богу! К ней-то я и пробиралась, да по пути в собор завернуть вздумала.
– Как к ней? – удивился князь, – Стало быть, домой?
– Нет, к ней самой… Да ты что же, нешто не слыхивал?
– Чего? – спросил князь, и сердце его сжалось недобрым предчувствием.
– Неужто не слышал про радость-то нашу? – снова спросила старуха.
– Да нет же, не слышал, да и слышать некогда было: сказывал, вчера вечером только приехал… Что же? Какая радость!
– Да ведь повенчали мы нашу боярышню! – брякнула старуха, не подозревая, какой удар она наносит этими словами князю.
– Как?! Давно ль? – вскричал, побледнев как смерть, князь.
– Да вот уж второй месяц идет…
– За кого она вышла? – едва слышно спросил Андрей Михайлович.
– За Ногтева князя, царица сама, бают, ее просватала… Только, по правде сказать, не больно, видно, охота была боярышне замуж идти… Убивалась страсть как, сердешная! Высохла вся с тоски, перед венцом такая была, что в гроб краше кладут, глядеть жалостно становилось. И с отцом у нее была допреж этого ссора большая: она, вишь, бают, за кого-то другого замуж просилась, а отец не пущал. Известно, не захотел – что с ним поделаешь!.. А только гневался он тогда сильно, на весь дом страху нагнал. Теперь ничего живет с мужем Марья Васильевна, ладно, кажись… Известно, стерпится – слюбится!
– Прощай, Авдотья! – внезапно сказал князь, отходя от старухи.
– Что ж ты это так вдруг, боярин? – удивилась старуха. – И не сказал, что передать Марье Васильевне, али сам зайдешь к ней?
– Скажи ей, чтоб лихом меня не поминала, а сам к ней не пойду.
– Почему ж?
– А уж так! Прощай! – проговорив это, Андрей Михайлович скрылся в толпе.
А старуха долго еще стояла неподвижно, дивясь такому концу разговора с князем. И пришло ей на ум, что уж не Андрей ли Михайлович был тем молодцем, который Марье Васильевне приглянулся, и по которому слезы горькие боярышня проливала, да и ему, знать, девица по сердцу пришлась.
«Так, должно, и есть!» – думала старуха, устремив глаза куда-то вдаль и пожевывая тонкими ввалившимися старческими губами. – «Ишь, дело, какое! Да… То-то она, сердешная, так слезами горючими обливалась. Грех, какой! И чего Василий Иваныч не позволил замуж за этого боярина идти, ума не приложу?… Спесь, должно, боярская помешала, – родом, верно, ниже его Андрей Михайлыч, ну и вздурил старый! Эх, греховодник! Ну, да уж теперь что – дело сделано, назад не оборотишь. Поплетусь, ин, да расскажу Марье Васильевне, кого видала… Тоже, пожалуй, грустить будет, болезная!
Авдотья заковыляла, медленно пробираясь сквозь толпу снующего перед храмом люда.
X. РАЗБИТОЕ СЧАСТЬЕАндрей Михайлович, отойдя от Авдотьи, поспешно пошел, сам не зная куда. Он словно хотел уйти от того, что сейчас внезапно закралось к нему в душу: от чего-то ужасного, более страшного, чем смерть, тоскливого и щемящего неумолчно. Он шел, опустив голову, ничего не видя, не слыша. Натыкался на прохожих, чуть не попадал под копыта коней и все шел вперед, не останавливаясь, не оглядываясь назад. В его голове не было дум, лишь одна мысль жгла ему мозг. «Изменила! Изменила!» – проносилось в его голове, и это же слово шептали уста.
Прохожие останавливались и сторонились, глядя на этого быстро шедшего прямо на них человека, неестественно размахивавшего руками и что-то бормотавшего себе под нос
– Ишь, молодец, как зелена вина нахлебался! – говорили они и провожали молодого боярина насмешливыми или укоризненными взглядами.
А Андрей Михайлович все продолжал свой путь, все прямо, прямо, никуда не сворачивая, не останавливаясь.
Невдалеке узкою серебристою лентою сверкнула Москва-река. Андрей Михайлович, не сознавая, что он делает, подчиняясь лишь стремлению идти все дальше и дальше, шел прямо к реке, миновал набережную, тогда не имевшую никаких перил, спустился с откоса берега. До воды оставалось шага два. Молодой боярин поднял голову. Ему бросилась в глаза сверкающая под лучами солнца поверхность речки. Он понял, что перед ним вода.
«Что-то мне теперь? В омут! Да… Туда… – мелькнуло у него в голове. – Прости-прощай, жизнь!» – и, перекрестившись Андрей Михайлович готов был броситься.
Чья-то рука удержала его.
– Побойся Бога, боярин! Не губи душу! – раздался за его спиною чей-то голос.
Бахметов с досадой оглянулся. Позади себя он увидел небольшого роста мужчину, лет шестидесяти. Человек этот был чрезвычайно слаб по виду, длинная запущенная борода и всклокоченные волосы, обрамлявшие его исхудалое лицо, придавали ему странный и дикий вид. Одет этот незнакомец был в длинную, темную одежду, напоминавшую подрясник, кое-где прорванную. Поясом ему служила железная цепь.
Как ни был расстроен Андрей Михайлович, однако он с первого взгляда узнал в этом незнакомце известного всей Москве юродивого.
Во взгляде юродивого было что-то такое, что заставило Андрея Михайловича несколько прийти в себя.
– Оставь меня, блаженненький! Чего тебе? – с неудовольствием промолвил Бахметов.
– Негоже так делать, боярин! Негоже! – ответил юродивый, качая головою.
– Почем ты знаешь, старче, что негоже? Знать, жизнь опостылела… Не от сладости ведь… Пусти меня! Не могу я жить… Кабы ты знал, то… – мрачно произнес Андрей Михайлович.
– Жизнь опостылела! Экие слова промолвил, – перебил его юродивый. – И не боязно тебе?
– Чего бояться? Жизнь хуже смерти!
– А грех? Аль для тебя и Бога уже нет? – строго промолвил старик.
– Бог… Бог… – смутился Бахметов. – Бог простит. Он все видит, знает, с какого горя я на это решаюся.
– А! Бог-то терпелив и многомилостив, а грех мы – в орех! Вот оно что! Так, так!.. Ныне и все православные так делают, потому им от этого и жить легче, и помирать не боязно… Хе-хе! Христиане боголюбивые… И жить легко, и помирать хорошо… н-да… Один – грех в орех, чтоб мошну потолще за пазуху спрятать, другой – чтоб мошну ту стащить, а третий – чтоб горе в реке утопить… Так-то… И ладно бы все – да грехи-то, пожалуй, в орехи не запрячете – орехов не хватит, а грехов еще короб целый останется… Куда деть? Отдадим блаженненькому, он до Бога дотащит… А у блаженненького силушка слабенька… Где ему стащить коробище? Тащите, говорит, сами, православные, коли натаскать сумели… Тащите. Хе-хе. А блаженненькому не под силу. Хе-хе. Вышла вся силушка его, в людях истратилась, – говорил юродивый, по привычке прибегая к темной и странной речи.
Он все еще не выпускал рукава Андрея Михайловича, и, должно быть, было что-нибудь особенное в этом старом и дряхлом существе, что богатырь, каким был Бахметов, не пытался освободиться от державшей его слабой руки юродивого.
– Пусти меня, блаженненький! – произнес Андрей Михайлович.
– Для ча не пустить! – ответил тот, выпустив рукав боярина. – Иди! Вон речка… Бульк, бульк… И на самое дно низко тело твое упадет, на песочек, к рыбкам. Вода все горе покроет, хватит ее тут. И ладно. И делу крышка. Тебя нет и горя нет… Одно беда, душенька-то высоко, высоконько полетит, да не долетит куда надо! Ох, ох, грешная! Тяжко ей, бедной, будет. «Вот, бает душа-то, горе все думала оставить, ан оно за мной увязалось и к земле тянет… Не можно лететь! Тяжко больно насело на меня, ровно гиря тяжеленная»… И упадет на землю… А уж тут ждут… Пожалуй. В гости, милости просим. Давно тебя ждали. У нас тепло. Недаром пеклом прозывается терем-то наш. Зовут душеньку рогатые, да хохочут, да языками, что жалами змеиными, прищелкивают… Так-тось. Что ж стоишь, молодец, нейдешь? Вишь, водица плещется… Солнышко по волнам лучами играет… Весело! Манит!.. А душа-то тоскует, горе сердце давит… Разом все бросить, в волнах утопить… И ведь близехонько и скорехонько… Шаг, два, и готово. И тело рыбам, и душенька бесам. А горя нетути боле, нетути. Хе-хе. От горя мы избавились. Хе-хе…
– Довольно, блаженненький. Не мани жить: останусь жив – хуже будет, зла натворю много… Чую это! – мрачно проговорил Андрей Михайлович.
– Полно, чадо, не говори этого! – изменил свой тон юродивый. – Подь лучше со мной на тот бугорчик, сядем да потолкуем.
– Увидят тебя – народ, пожалуй, сберется! – нерешительно промолвил Андрей Михайлович.
– Ишь, ты! Должно, и взаправду ты, молодец, голову потерял: и пути своего не упомнил. Ведь ты, почитай, за Москву вышел… Какой тут народ… Глянь-ка! – усмехаясь, сказал юродивый.
Андрей Михайлович оглянулся.
Действительно, во время своей бессознательной ходьбы молодой боярин успел пройти громадное расстояние и теперь уже далеко находился от центра города. В этом месте Москвы было мало строений, лишь кое-где лепились по берегу реки убогие лачуги бедняков. Прохожих совсем не было видно.
Андрей Михайлович медленно подошел к юродивому, уже успевшему сесть на бугорчик, и опустился рядом с блаженненьким на мягкую прибрежную траву.
Происшедший перед этим разговор со стариком привел Бахметова в себя, зато тоска его заговорила сильнее прежнего. Он сидел, молча, устремив глаза на реку.
Юродивый зорко смотрел на сидевшего рядом с ним боярина. Лицо его было серьезно.
– Что же, молодец, молчишь, не поведаешь мне своего горя? Поведай! Посудим да покалякаем, может и выйдет из сердца твоего змея – тоска лютая, – сказал он боярину.
– Ох, нет, блаженненький! Не таково мое горе горькое, чтоб скоро ему из души моей уйти… По гроб будет оно со мной! – воскликнул Андрей Михайлович.
– По гроб? Почем знать! Нешто известно тебе, как Бог положил? Неведомо? Так как же ты говоришь такое?
– Чувствую – оторвалось словно что-то, а душу не наставишь, не пришьешь к ней чего, коли пустота… Чем заполнишь? – грустно говорил Андрей Михайлович.
– Поведай, не таись, что с тобой приключилось?
Боярин не отвечал. Слишком тяжело ему было повторять то, что он слышал от Авдотьи, словно рану больную бередить.
– Что ж молчишь? Тяжко вымолвить али не хочешь? – спросил юродивый. – Может, родитель нанес тебе обиду великую, не стерпело твое сердце, и вот ты горе топить побег? Так?
– Нет! Моего родителя уж давно на свете нетути… Не то совсем, – ответил Бахметов.
– Может, богатства лишился… Потерял али воры утащили, вот и бедно жить стало?
– Нет,… Я богат…
– Так, знать, приглянулась молодцу красна девица, да что-нибудь промеж них неладно вышло? – допытывался юродивый.
– Да, – тихо промолвил Андрей Михайлович. – Ты угадал, старче! Приглянулась мне девица, и любил я ее больше жизни своей, больше света белого!.. И она тоже тем же мне платила. И думали мы счастье наше устроить… Ан вышло не то! Уехал я в поход, а ее здесь выдали силком, почитай, за немилого! И нет теперь для меня радости на белом свете, опостылела мне жизнь!..
– Полно, родный! Полно грешить! – мягко заговорил юродивый. – Жизнь – дар Божий, и нешто наше дело толковать, хорош этот дар али нет?… Надо жить, положась на волю Божию: он знает, Благий, что делает, куда ведет нас.
– Ах, блаженненький! Коли б можно было жить с таким горем на сердце! – с тоской сказал Андрей Михайлович.
– И можно, и надо жить! – горячо воскликнул старик. – Али думаешь, у тебя лишь горе, другие не тоскуют и бед не терпят?… О, боярин! Eщe горше беды бывают, да не бегут топиться, потому, нешто можно отнимать чужое добро? А жизнь – не наша, она Божья – можно ль ее отнять?
– Да, ты верно говоришь. Но что же делать, если силушки вынести горе не хватит? – в раздумье проговорил Андрей Михайлович.
– Понатужься – и хватит! Отчего же у других хватает? А беды терпят больше твоих! – сказал юродивый.
– Да вот что, – продолжал он, немного помолчав, – скажу про самого себя… Не для бахвальства, сохрани Бог, а чтоб показать, как Господь премудро все соделывает, и через беды и испытания великие ведет людей к спасению. Поведаю тебе то, что никому допреж сего не говаривал… Потому скажу, что вижу слабый дух твой, надо укрепить его… Слушай же… Был я молод и деньгу имел. В купцах тогда в Ростове состоял. Жена у меня была в ту пору молодая, детки малые – сыночек да девочка… Благословил меня Господь счастьем. Жил я, припеваючи, ни о чем не тужил, не заботился, и в делах удача шла. Расторговался. Почитай, на весь Ростов известен стал. И не думал я тогда, что пошлет мне Господь испытание! Поехал раз я по делам в Нижний. Это было весной. Растопель. По дорогам ни проходу, ни проезду, и реки вздулись, почернели – не сегодня-завтра лед тронется… Замешкался я в пути, как ни торопился, однако, к сроку поспел и дело выгодно справил. А назад, думаю, спешить нечего, погожу, пока дороги малость пообсохнут, и сижу себе в Нижнем, с приятелями забавляюсь; и не чует моя душенька, что у меня дома творится… Однако время шло, долго ль, коротко, я тронулся в обратный путь. Скоро до Ростова добрался, и радостный, довольный такой еду. «Вот, думаю, сейчас жену ласковую увижу, деток расцелую. То-то радостей, смеху да говору будет, как узнают, каких гостинцев я им понавез! Весел я, доволен, только одно дивило меня, что это купцы, – встречные со мной, кланяются да так пристально на меня поглядывают. Диву я тогда давался, чего они на меня так смотрят; однако мне и в голову не приходило, что, может, беда какая приключилась. Привык я к счастью и не думал, что от счастья к несчастью переход меньше шага курьего! Подъехал к дому. Вижу, народ около похаживает, а прямо на меня из ворот поп с дьяконом выезжают, со мной поклоном обменялись. Думаю, что за притча? Да и где же моя Александра? Чего же меня не встречает? Не ждет, верно! Однако все еще про беду и не думаю. Слез с возка, подхожу к крыльцу. Навстречу сиделец мне мой из лавки попадается.
– Здравствуй, говорит, хозяин! – а сам печально так смотрит.
– Здравствуй, – отвечаю. – Чего ты не в лавке?
– Да беда тут у нас, хозяин.
– Что такое? – спрашиваю, а у самого сердце так и упало: не привычен к бедам-то был.
– Да супруга твоя…
– Что, что? Говори скорей! Больна?
– Была больна, а теперь…
– Да договаривай, Бога ради! Что же с ней!
– Приказала долго тебе жить!
Как вымолвил он это, оторопел я совсем. Бросился в горницу.
Гляжу, лежит моя Александра в гробу, худая-худая такая. Света не взвидел я тогда!
Только и спросил, когда скончалась.
– Три дня назад, – отвечают, – давно хоронить собирались, да тебя поджидали. И она все ждала тебя, болезная, как чуяла, что не поправиться ей… А заболела, почитай, с самого твоего отъезда.
Похоронили ее вскоре.
Все это время у меня ровно в тумане прошло. Плохо помню. Знаю, что тосковал очень. Однако все же были у меня детки, их поднимать надо было. Одни они мне утехой были. И, должно, сильно Бога я прогневал, что послал Он мне еще горшее испытание, али, может, до конца претерпеть меня заставить восхотел…, пути Божьи неисповедимы!
Жил с детьми я в избе деревянной… Внизу сидельцы мои помещались, а наверху я с деточками.
Был праздник большой, Троицын день. Сидельцы, известно, парни молодые, подгуляли маленько да, должно, как стали вечером себе ужин разогревать, искру где-нибудь заронили… Потому ли али с другого чего, только сгорел ночью мой дом, ровно свеча. Меня полусонного вытащили, а от деточек моих милых только косточки одни обгорелые видеть пришлось. Тяжко было это испытание… Обезумел я тогда совсем, и Бога, и людей клял, топиться, как ты, на реку бежать хотел… Однако не допустил меня Господь до погибели! Делами я в те поры вовсе заниматься перестал – всем брат мой двоюродный заведовал, а я сам ходил по городу, ровно зверь дикий. От людей прятался и все о своем горе раздумывал. Только однажды вздумалось мне в церковь зайти… Давно я в храме не был и молиться, кажись, разучился. Вошел я… Служили обедню… Пение это… Дым благовонный… Народу молящегося многое множество… Отвык я от всего этого, и так оно на меня подействовало, умилило словно, и на сердце, замечаю, легче стало. Прошел сквозь народ к алтарю поближе… Стал на колени и молитву шепчу. Чую, как в голове все светлей и светлей становится, а тоска совсем улеглась. В первый раз вздохнул полегче. С того дня стал я кажинный день на все службы церковные ходить. И просветил меня Господь своим светом! Понял я, что скорбь моя от того происходила, что привязан я очень к земному был. И захотел я отречься от мира. Передал дела торговые брату двоюродному, отделил себе только третью часть из всего добра, роздал все нищей братии и сам в нищего обратился. И легко мне стало! И мне путь Бог к спасению открыл… Стал я с той поры между людьми юродивым прикидываться, потому что блаженненького скорей послушают, а хотелось мне их на путь истины наставлять… Вот, молодец, вишь, как Бог через испытания великие нас к спасению ведет… Только духом не падай, отчаянию в сердце забраться не дай… Так-то!
Андрей Михайлович сидел неподвижно и молчал.
– Счастлив ты, старче, что мог утешиться, – проговорил он, наконец.
– И ты можешь! Только крепись да духом не падай: Бог поможет! – ответил юродивый.
– Нет! Мне не будет утешенья!
– Почему нет? Надейся, терпи и, главное, веруй! Пройдет время – и забудется все, полегчает скорбь!
Между тем в душе Андрея Михайловича тоска, замершая на время, пока он слушал рассказ юродивого, разгорелась с новою силою. К щемящему чувству, которое он раньше испытывал, присоединилось еще что-то новое, похожее на злобу на Марью Васильевну, на людей, окружавших ее, и на самого себя. Андрей Михайлович уже не слушал старца, он весь погрузился в созерцание того, что творилось в его душе. Он не отвечал старцу и сидел в мрачной задумчивости. А юродивый, видя боярина погруженным в размышления, продолжал говорить, думая, что слова его произвели действие и теперь в душе сидящего рядом с ним молодца совершается борьба стремления к добру со стремлением к злому.
– Да, молодец, – продолжал старик. – Помни слова: вера, надежда, любовь и терпение, и тебе будет легче. Ты страдаешь от любви – лечись тем же – клин клином вышибай – лечись любовью. Ты любил одну – она тебе изменила, так люби всех людей, весь мир – все не изменят! Иди терпеливо по пути спасения, надейся, что Бог подкрепит тебя, веруй в Него – и ты снова найдешь счастье и благословишь Господа, тебя создавшего!
– Полно, старче! Не утешай меня! – поднялся с земли Андрей Михайлович. – Я не баба. Ты достиг своего: теперь я буду жить, но терпеть… Эко слово промолвил! Терпеть! Нет, не для того я живу! Веруй – тоска пройдет… Я верил в счастье, разбито счастье… Я любил – мне изменили! Я надеялся – надежда разбита! Нет, старче! Я страдал, пусть другие страдают так же! Терпеть! Нет! Не потерплю! Не для терпения и покорности жить я остался! – говорил, весь пылая и трепеща, Андрей Михайлович.
Густые черные брови его сдвинулись, а черные глаза злобно сверкали.
– Довольно, старче! – продолжал он, – Ты спас меня, не дал руки на себя наложить, спасибо тебе за это! А теперь дай мне жить, как я хочу… Каждому свое – тебе молитвы и любовь ко всем, мне – совсем иное… Прощай! – и, круто повернувшись, Андрей Михайлович поспешно отошел от юродивого.
– Погибшее чадо! – произнес, смотря ему вслед, старик, и словно слеза блеснула в его выцветших глазах.
Дурная слава скоро пошла по Москве про князя Андрея Михайловича. Сошелся он с недобрыми ребятами, и не было такого озорства, на которое он не решился бы. Часто Анастасия Фёдоровна говорила своей дочери, слыша про проказы Бахметова, как хорошо это вышло, что отец не выдал ее за Андрея Михайловича.
– Вишь он, какой дурной оказался! – добавляла она. Только Марья Васильевна догадывалась, почему так себя ведет Бахметов, она понимала, что своею гульбою, своим озорством хочет молодец заглушить свою тоску лютую.
Так и было на самом деле. Тоска снедала Андрея Михайловича, и он искал забвения в чем попало.
Однако напрасно Бахметов думал найти успокоение среди непристойных потех: тоска продолжала грызть его сердце. Родина опостылела ему. Все связи с людьми, близкими для него когда-то, были порваны. Он был одинок… Он остыл к вере отцов своих, и, когда благовест призывал православных на молитву, он, громко хохоча, замышлял с товарищами какую-нибудь новую озорную забаву. Среди же ночной тишины все чаще и чаще приходила ему на память клятва, данная им татарке, воротиться к ней, если изменит милая.
А тоска не умолкала, и все более и более постылели Андрею Михайловичу родные места.
Вскоре князь Бахметов без вести пропал из Москвы. Куда? Того не знали даже и его товарищи.








