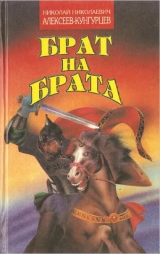
Текст книги "Брат на брата. Заморский выходец. Татарский отпрыск."
Автор книги: Николай Алексеев-Кунгурцев
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 35 (всего у книги 50 страниц)
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
I. ПОСЛЕ РАЗЛУКИВернемся к тому моменту, как Марья Васильевна рассталась с Андреем Михайловичем.
Тяжко было боярышне! Слезы душили ее, сердце щемила тоска… Она словно навеки рассталась с милым. Словно похоронила его… Напрасно рассудок шептал ей, что пронесутся дни и он опять возвратится к ней, такой же ласковый, любящий, обоймет ее, свою голубку, поцелует крепко-крепко и уже больше никогда не расстанется с нею. Чуялось Марье Васильевне, что не бывать тому: что не целовать ей больше своего дружка милого, не прижимать к груди своей девичьей. Унеслось ее счастье, как в воду кануло, и не вернуть будет времечка золотого!
Плачет Марья Васильевна. Поднимает порою голову, обведет помутившимися от слез очами вокруг себя, словно ищет кого-то, и снова слезы польются.
«И ведь только что, только что он сидел здесь! Вон еще ветер следов его на снегу замести не успел; а словно уж невесть, сколько времени протекло! – думает боярышня. – Давно ль он обнимал меня, желанный! Еще щеки не остыли от его поцелуев, а уж теперь его нет и не воротить мне моего друга милого. И может всякое с ним приключиться, а я здесь, одинокая, ведать ничего не буду… Полоснет его татарин злой саблей острою, и закроются очи соколиные, и сырой землей засыпятся уста его алые. И останусь я, горемычная, ждать его и лить слезы горькие… Ох, зашло, закатилось мое солнышко, нету мне теперь дня красного. Все болеть будет сердце мое девичье и нашептывать, вещун, думушку тяжкую, что никогда, никогда не увидеть мне дружка моего милого».
– Боярышня, а боярышня! – раздался в это время в саду голос старухи няньки. – Где ты?
– Я здесь, Авдотьюшка! Что тебе? – прерывающимся голосом откликнулась на ее зов Марья Васильевна, поспешно вытирая слезы.
– Подь сюда, родная! Матушка тебя кликнуть велела: ужинать пора!
– Что так рано? – удивилась боярышня.
– Какой же рано, дитятко! – произнесла старуха, подходя к ней. – Вишь вон и солнышко скоро спрячется! – продолжала она, щуря, прикрыв рукою, свои подслеповатые глаза на красный шар заходящего солнца…
– Сейчас приду!.. А только скажи матушке, что я ужинать не буду…
– Что ж так? Аль недужится? – спросила старуха, пристально глядя на лицо молодой девушки.
– Да… Голова что-то тяжелая, – промолвила боярышня, опуская глаза.
– Головка болит? – участливо проговорила нянька. – С чего бы это? То-то, я вижу, и глазки у тебя заплаканы, а мне-то, старой, и невдомек! А ты вот что, дитятко, сделай: поди да ляг, а я тебя липовым цветом напою, аль малинкой… Да закройся одеяльцем потеплее… К утру хворь как рукой снимет! Пойдем, родная!
– Пойдем, Авдотьюшка… Спать-то я лягу, а липового цвета не надо мне: так пройдет, – сказала боярышня, направляясь вместе со старухой к дому.
– Ну, как хочешь, дитятко, как хочешь! Так, думаешь, пройдет, так и ладно!
– Что, батюшка дома?
– Да, недавно пришел… Только гневный такой, ровно туча грозовая! Теперь и на глаза ему не попадайся! Беда! – говорила старуха, входя с боярышней в дом.
Марья Васильевна прошла прямо в свою спальную светлицу. Обстановка комнаты была проста. У стены стояла широкая кровать дубового дерева, под кисейным пологом. Небольшой шкаф, стол, покрытый скатертью, и пяльцы у окошка, выходящего в сад. В углу, перед иконой Божьей Матери, теплилась лампада. Из сада, почти задевая окно, протягивались ветви старой, развесистой липы и тихо шуршали, ударяясь в стену дома, когда ветер покачивал вершину дерева. Все это давно было знакомо Марье Васильевне, и каким миром, каким спокойствием веяло на нее, когда она, бывало, летом в жаркий полдень или после заката солнца уйдет в свою светелку, сядет, если день, вышивать или, если уже темно, то без работы смотрит в окно на большой сад и прислушивается к шелесту листьев тихо покачиваемой липы и шуршанью ее ветвей. И кажется боярышне, что то ведет речь старое дерево на своем языке, рассказывает были и сказания стародавние, и слушает девушка, и летят мечты ее далеко-далеко, туда, в страны заморские, где живут, говорят, басурмане ученые такие, но поганые, потому что веры русской, православной, не признают. И мерещатся боярышне диковинные вещи, и любит она свою светелку и шелест листьев душистой липы, и кажется ей, что это дерево – друг ее и тоже любит свою подругу молодую, которую оно видело еще в колыбели или на руках няни. Тихо тогда, спокойно становится на душе боярышни, и не хочется ей думать, что, рано или поздно, должен прийти этому конец, и придется ей покинуть и свою светелку, и свое деревцо, и думы девичьи, распроститься с батюшкой и с матушкой родимыми, идти в чужой дом женою боярина какого-нибудь бородатого.
Такие грезы лепет листвы навевал на боярышню летом, а зимою дерево, качаемое северным ветром, тоскливо, жалобным скрипом, казалось, жаловалось девице на постигшую невзгодушку, или в тихий и ясный зимний вечер, чуть слышно ударяя сухими безлистыми ветвями о тесовый терем, словно тихо, дрожащим, с перерывами голосом, говорило о том; что невзгода минула и скоро опять, как в былое время, зашумит дерево зеленой листвой под лучами животворного весеннего солнца. Но сегодня не то! Сегодня смутно на душе боярышни, и не хочется ей мечтать у окошка, забыла она и про липу свою старую, развесистую.
Опустилась на колени перед образом Марья Васильевна, войдя в спальню, и сотворила жаркую молитву о своем дружке милом. Долго молилась она, а потом, поспешно скинув одежду, легла на постель и одеялом укрылась, думая сном забыться, но не спалось ей. Душно ей, жарко, и подушка, не так лежит, как всегда, и одеяло ее узорчатое, работа искусных сенных девушек, сползает, а пуще всего не дают ей спать думушки. Хочет она отогнать их, а они, как назло, так живой волной и набегают. И все-то думает она о своем дружке желанном! Вспоминается ей теперь, как она впервые его увидела. И ведь не ахти уж как давно это было, а словно она век уж с ним знакома! Прошло же времени год с половиной, или два года, не более, а сколько изменилось с тех пор! – думает боярышня. Было это, помнит она, когда рать русская шла из-под Астрахани. Настасья, девушка сенная, любимица ее, прибегает: – «Боярышня, – кличет, – А боярышня! Вои наши из Астраханского царства возвращаются! Пойдем, господыня желанная, на них смотреть!» – А Марья Васильевна в этот день только что полотенце для батюшки кончила вышивать и с пялец снимала. Новой работы начинать сегодня не приходилось, и захотелось ей на витязей русских поглядеть, которые, слышала она, Дербыша, князя ногайского, посаженного государем на стол Астраханский, за измену наказали и в покорность привели царю православному весь край Астраханский. Пошла она, спросилась у матушки:
– Дозволь, родимая, на воев наших поглядеть съездить!
– Эх, девица, погляжу я на тебя! Уже невестишься давно, не сегодня, завтра замуж пойдешь, да детушек своих качать будешь, а все ветер в голове! – сказала ей мать, улыбаясь. – Ну, да иди, Бог с тобой! И то сказать, пока в девках сидишь, только и воли, а там, замуж вышла, и сиди день-деньской в тереме! Поезжай, поглазей на воев наших хоробрых!
Только этого и ждала боярышня. Побежала она, сказала Настасье, что матушка позволила, и та стремглав полетела к Степану, к кучеру, коня приказать закладывать, да погорячее который, чтоб вовремя поспеть. Живо оделась боярышня, Настасья тоже собралась, и вышли они на крыльцо: «возок, – думают, – уж ждет». Ан, нет! Возка еще не было, и Степан только ходит да в затылке дочесывает.
– Чего ж ты это, Степан? – спросила боярышня. – Али Настасья приказать тебе запамятовала?
– Нет, она мне приказывала закладывать, – ответил Степан, сняв шапку, – а только загадку она мне задала здоровую?
– Что такое?
– Да, вишь, боярышня, сказала она мне, чтобы я погорячее коня заложил, я и не знаю, как быть. Лошади у нас сытые и смирные, ну и бегут, признаться, тихо, а есть один конь, недавно его батюшка твой у боярина одного купил, что ветер, несется, но зато боязен и горяч больно. Теперь я и не знаю, его ль запрягать, али другого коня.
– Конечно, его! Ведь ты сам говоришь, он бежит скоро.
– Бежит-то скоро, а вдруг разнесет, что тогда батюшка твой скажет? Тогда и головы мне не сносить!
– Не разнесет, Бот даст! А в случае чего, не дай Бог, так я на себя вину перед батюшкой приму. Не бойся, закладывай его!
Степан, который и сам любил поправить, как говорится, чертом-конем, больше не спорил, не чесал затылок, а быстро запряг коня и, заломив шапку набекрень, уселся на козлах.
Поехали. Конь вед себя смирно и летел как ветер; только прохожие сторонились от него.
– Ишь, коняга! – говорили они, любуясь на могучего красавца коня.
Пронеслись несколько грязных и узких московских улиц и выехали на окраину. Народу тьма-тьмущая, и всякого сорта: и бояре, и купцы, и смерды. Еще бы! Каждому любо посмотреть на славных витязей. Много было и возков разных: и крытых, и не крытых. Остановились. У боярышни нашлись девицы тут знакомые. Пошли промеж них разговоры и смехи, и сказы да пересказы всякие! А тем временем и войско подошло.
– Идут! – пронеслось по толпе, и все затихли, ждут.
Вдруг раздались клики… Это народ радостно встречал показавшихся витязей. Рать шла не стройно, ряды смешались. Где уж тут было порядок наблюдать, коли у каждого в голове мысль гвоздит, что конец походу, что скоро можно свидеться и с женой молодой, и с детишками малыми! Каких только тут молодцев не было! Кто в грязной изорванной одежде, видно, истрепалась в пути, а смениться нечем, идет пеший и таким соколом поглядывает; кто на коне, – то боярин, знать, какой-нибудь, одет чисто и красиво. У многих бояр латы тонкой немецкой работы, на головах шлемы золоченые с перьями длинными. Едут, сверкает их панцирь на солнце, бренчит оружие, а народ радостно кричит, приветствует их. Шум страшный.
Вон опять едет толпа всадников, все больше в латах, только один в простой кольчуге, надетой поверх алого кафтана, и в шлеме без перьев, простом белом, стальном.
Глянула Марья Васильевна на этого витязя, да и очей скоро отвести не могла, – загляделась! И, верно, не ей одной он приглянулся, потому что все подруги ее, боярышни, тоже очей с него не сводили, даром, что он пятном черным выделялся среди золоченых доспехов товарищей. На что Настя, и та шепнула Марье Васильевне:
– Боярышня! Глянь-ка на этого витязя, что в кольчуге одет, вот-то красавец писаный.
– А как звать его? Не знаешь? – спросила боярышня.
– Не знаю. Кажись, бают тут, что Бахметовым князем, а чтоб подлинно, не знаю…
– Должно, он и есть Бахметов! Я слышала о нем… Храбрый витязь, его сам царь отличил, как Казань брали.
Всадники между тем миновали их и, звеня оружием, скрылись из виду.
Теперь шло пешее войско. Всадники попадались только изредка. Очевидно, шествие заканчивалось. Прошли последние воины. Позади их провожала беспорядочная толпа баб, мужиков и мальчишек, громко крича и размахивая руками. Степан, подобно боярышне и Насте, разглядывал проходившее войско и, весь отдавшись этому, сидел на козлах боком и опустил вожжи. Ни он, ни сидевшие на возке не замечали, что уже давно конь стал как-то беспокойно поводить ушами, фыркать, рыть копытами землю и порою дорожал всем телом. Однако до сих пор он стоял тихо. Но, когда показалась гогочущая, кричащая и размахивающая руками толпа, следовавшая за войском, вид этих людей испугал коня. Он вздрогнул, лягнул задними и передними ногами и рванулся вперед. Это было так неожиданно, что Степан, не предвидевший толчка, и сидевший боком на облучке, потерял равновесие и упал не землю, выпустив вожжи. Ничем не удерживаемый, испуганный конь закусил удила и, заложив уши назад, понесся по Москве, задевая колесами возка за идущих навстречу и сшибая с ног пешеходов. Гам и переполох, поднявшийся при этом, еще больше напугал его, и он несся быстрее и быстрее. Напрасно Марья Васильевна и Настасья призывали на помощь, никто не был в силах остановить взбесившуюся лошадь. Казалось, их ждала смерть. Марья Васильевна сидела бледная и читала молитвы. Настя закрыла лицо руками и плакала. А конь все несся с прежней неудержимой быстротой. Та толпа всадников, где находился витязь в кольчуге, уже давно скрылась из вида, когда еще Марья Васильевна продолжала смотреть проходившее войско. Теперь несшийся с быстротой ветра конь догнал ее. Слыша позади себя крики, витязи оглянулись. Едва только кольчужник увидел несущуюся лошадь, он повернул коня и, прежде чем успел кто-нибудь из его товарищей, бросился наперерез ей. Потом, быстро соскочив с седла, поймал узду бешеного коня и повис всем телом на его удилах. Ошеломленный неожиданностью конь сразу остановился как вкопанный.
Женщины были спасены. Дав время коню успокоиться, он, за отсутствием Степана, сам сел на козлы, привязав свою лошадь позади возка, и отвез Марью Васильевну и Настасью к их дому.
В первую минуту, избавившись от опасности, женщины до того растерялись, что даже забыли поблагодарить своего спасителя. Когда же он подъехал к дому, боярышня протянула руку ему и сказала:
– Спасибо тебе, боярин! Без тебя нам не видать бы больше света белого! Скажи, как зовут тебя?
– Князь Андрей Бахметов, – ответил он. – А благодарить, боярышня, нечего: на моем месте это сделал бы каждый. Будь здорова! – прибавил он, вскакивая в седло.
Через минуту он уже исчез за углом улицы. Отец Марьи Васильевны скоро узнал о том, какой опасности подверглась она, и кто ее спас.
Зная раньше Бахметова, он поблагодарил его за спасение дочери и позвал к себе. С этих пор Бахметов и Марья Васильевна стали часто видеться. Молодого князя привлекала в дом не беседа с Темкиным, несколько свысока обращающегося с ним, так как считал тот Андрея Михайловича, как потомка мурзы, ниже себя родом, а лазоревые очи его дочери.
Видеться им приходилось, впрочем, редко. По обычаю того времени, женщины мало показывались к гостям-мужчинам, но тем дороже были им их мимолетные встречи. Быстрее билось сердце у Марьи Васильевны, и щеки загорались ярким румянцем, когда она видела князя. Ярче блестели глаза князя, веселее звучал его смех, когда он встречался с боярышней. И как-то сами собой, не говоря ни4 слова о любви, молодые люди поняли, что они любят друг друга: сердце сердцу, знать, весть подает!
Вспоминается Марье Васильевне и первое свидание с ним с глазу на глаз.
Вот как это было.
– Боярышня, – тихо шепнул раз ей Андрей Михайлович, – приди, желанная, в сад, где скамья, как солнце зайдет… Буду ждать!.. Побеседуем. Я, чаю, тебе спать не захочется? Придешь?
А сам смотрит очами своими соколиными так любовно, ласково и просительно, что не может Марья Васильевна отказать ему прямо, медлит. Тем временем отец в комнату вошел, прогнал ее в девичью, так и простилась она с князем, не дав ответа.
Ушла она в свою светлицу. Сидит, ждет. Вот и солнышко скрылось. Позвали ужинать. Князя уже не было. Поела, для вида, боярышня, а самой и. кусок в горло не идет, простилась с родителями, и спать, будто бы пошла. Батюшка с матушкой улеглись. Люди тоже. Тихо в доме, только липа чуть-чуть скребет по дому своими сучьями, словно зовет к себе боярышню. А Марья Васильевна не спит. «А он ждет там меня в саду, желанный, – думает она. – Пойти к нему? Обмануть матушку, батюшку – грех, да и стыдно!.. Обмануть! Да ведь для него, сокола, не для кого другого!». Бродят эти мысли в ее голове, а уж рука сама за платьем тянется… Оделась она и тихо-тихо пошла к крыльцу. Вот и крыльцо. Потянула она за кольцо в двери, а сердце так и стучит, так и колотится в груди… Дверь чуть-чуть скрипнула, но никто не слышит – спят. И вот уж боярышня в саду. Издали видит она, сквозь сумерки, что он ждет ее… «Не придет она!», верно, думает.
– Нет, вот, я! Пришла! – шепчет боярышня, приближаясь к скамейке. Увидел он ее, подошел, обнял своими могучими руками, почти поднимая на воздух, и поцеловал. Обжег этот первый поцелуй Марью Васильевну пуще огня, и ответила она ему тем же. После сели на скамью. Он взял ее руку, глянул ей в очи, и пошла у них беседа. И чего, чего только они не переговорили! И ведь, кажись, все о пустяках толковали, а между тем у них на сердце так весело было, словно там птицы божьи песни свои распевали! А кругом деревья чуть-чуть шелестели листьями под набегом легкого ветра. Зашелестят и: замрут, словно не хотят мешать беседе боярина молодого с боярышней. После свидания повторялись, и больше днем. Просто, бывало, зайдет в сад Андрей Михайлович и сядет на скамью. А Марья Васильевна подойдет к нему потом. И увидит кто, что ж! Зашел князь и встретился с боярышней, вот и весь сказ! И ведь как недавно это было! – отрывается боярышня от своих воспоминаний. – А теперь? Теперь он далеко, и удастся ль свидеться!.. Только и осталось от милого друга – память о нем… Опять прежняя тоска налегла на сердце боярышни, и слезы подступают к горлу…
Тихо скрипнула в это время дверь ее светлицы. Кто-то вошел. Марья Васильевна подняла голову от подушки: перед собой она увидела свою мать.
II. МАТЬ И ДОЧЬАнастасия Федоровна, мать Марьи Васильевны, была уже пожилая женщина. Между ней и дочерью было заметно большое сходство. Те же золотистые, волосы, хотя уже немного поредевшие и на висках подернутые сединой; те же голубые глаза, только с иным, чем у дочери, выражением.
– Что разнедужилась, Марьюшка? – ласково спросила Анастасия Федоровна дочь, склоняясь к ней и проводя по ее шелковистым волосам.
– Да… Голова разболелась, – краснея, отвечала Марья Васильевна.
– Да что у тебя глаза красные такие?… Ровно бы ты плакала? Болит, знать, головушка тяжко?
– Нет… Так… – замялась, не зная, что ответить, девушка.
– Как же «так»? С чего же плакала? Марья Васильевна молчала.
– Кручинушка, какая есть? Да что ж ты, родная, слова не промолвишь? – продолжала она, видя, что дочь молчит.
– Тяжко, матушка, мне очень! Тяжко, родимая! – в неудержимом порыве хоть немного облегчить свое горе, почти вскрикнула девушка и закрыла лицо свое руками.
Сквозь сжатые пальцы ее рук пробились слезы и, скатываясь, крупными каплями западали на подушку.
Анастасия Федоровна с удивлением смотрела на ее слезы.
– Что с тобой, Марьюшка? Что за кручина? Поведай, родная!.. Чего убиваться? – почти с испугом спросила она.
– Ах, матушка, матушка? Как и поведать тебе, не знаю? – прерывающимся голосом ответила Марья Васильевна.
– Мне ль, родимой своей, не можешь горя своего поведать? – с укоризной произнесла Анастасия Федоровна.
– Милая! Родная моя! – воскликнула Марья Васильевна, обнимая мать. – Тебе ль не поведаю!? Да я всю душу свою открою.
– О чем же плачешь, скажи? Небось, красной девице добрый молодец приглянулся, потому и тоска на сердце ее девичье пала? А? Так? – улыбаясь, спросила мать.
– Так, родимая, – ответила девушка, пряча на плече матери свое зардевшееся лицо.
– И чего раньше не говорила? Грех, что ль, девице на. молодца заглядываться? Живой рукой бы все дело обделали! Сватов бы заслали, а там и за свадебку! И то сказать – ты девица в поре… Чего ж тут плакать? Аль не возьмет тебя замуж? Аль дурнушка, с лица неказиста, что ли? Скажу тебе, другой такой невесты поискать, так не сыщешь, пожалуй! – говорила мать с гордостью. – Да и не бесприданница, чай!
– Не о том кручинюсь я, матушка… Какой откажется! И он меня пуще всего на свете любит!
– Так о чем же ты слезы-то горькие проливаешь? Чего же лучше? Ты, стало быть, с ним и столковаться успела?… Когда только, ума не приложу! Кажись, день-деньской у меня на глазах была… Ну, девки! Й хитрый же вы народ! Смотри да смотри за вами! – шутливо говорила мать, а в глазах ее между тем мелькнула забота. – Да полно тебе теперь-то вздыхать! Сказано – кручиниться нечего, призналась, благо, мне; все дело устрою.
– Кручинюсь о том, родимая, что теперь из Москвы он уезжает в страну далекую.
– Куда ж это он от своей зазнобушки уходит? Да и как звать его? Кто он таков? – поспешно спросила мать, спохватившись, что она до сих пор не спросила у дочери о самом главном: кто был ее любимцем.
– С Данилой Адашевым, слышь, татар бить идет в Крым…
– Да как звать-то, звать-то его как? – спрашивала Анастасия Федоровна, перебирая в уме, кто бы мог быть.
– Ты его знаешь, родимая… Андрей – князь Михайлович.
Лицо Анастасии Федоровны стало серьезным.
– Ну, Марья, – сказала она, помолчав, – огорошила ты меня. По правде по истинной, скажу: не ждала я этого, и, признаться, кабы и ждала, так не желала бы тебе его в женихи.
– Что ж так? – дивилась Марья Васильевна. – Чем же худ он?
– А тем, что батюшка твой тебя замуж за него выдать не захочет. Вот что, – проговорила печально Анастасия Федоровна, присаживаясь на постель дочери.
– Почему? – спросила девушка, и сердце ее сжалось от предчувствия какого-то нового, неведомого горя.
– Почему? А вот мы с тобой потолкуем, так узнаешь… Скажи-ка наперед, ведомо ль тебе, какого рода Андрей Михайлыч, хорошего али низкого?
– Должно, не низкого… Он боярин и князь…
– Вот то-то и есть, что не знаешь ты всего! Хоть он и боярин, и князь, да отдать тебя за него отец твой желанья не будет иметь, потому что боярскому роду его и ста годов еще нет, а княжество его не от русских князей идет…
– Как так?
– Да так! Послухай – и узнаешь! Идет его княжество от татар тех самых, каких он теперь бить поехал, от Крымских. Прозвище-то его знаешь?
– Бахметов, – едва слышно промолвила Марья Васильевна.
– Вот и смекай, откуда прозвище такое взяться могло, как не от мурзы татарского; прадеда Андрея Михалыча, Бах-мета… Прадед его к нам перешел, выкрестился, да и княжество с собою привез…
– Что ж от этого, матушка? Ведь Андрей Михайлыч не татарин, ведь и отец его уже чисто русским был и царю верою и правдою служил.
– Как что из этого? – горячо воскликнула мать. – Да ведь коли он из татарского, а не коренного русского рода, так ему и ходу нигде не будет, и ежели при дворе государя нашего батюшки служить захочет, так ему окольничим [58]58
В Москве существовала известная градация придворных чинов. Звание окольничего, хотя было довольно высоким чином, не пользовалось почетом, и в него назначались только лица незнатного происхождения, лица же знатного рода обходили его.
[Закрыть]посидеть придется!.. Вот и подумай, может ли батюшка твой, который во введенных [59]59
Высокий придворный чин.
[Закрыть]боярах при царе Иване Васильевиче состоит, за худородного дочь свою замуж выдать?
На глазах Марьи Васильевны опять блеснули слезы.
– Да ты полно, не кручинься, – произнесла Анастасия Федоровна, заметив это. – Молодец он, что говорить, хороший, и храбр, говорят, и лицом, что картина, и достаток у него есть… Всем бы ладный жених был, кабы…
Неужели батюшка не согласиться только из-за того, что родом Андрей Михайлович не знатен?… Ведь он к тому же и жизнь мне спас, как лошадь меня с Настей чуть не убила… Чай, батюшка того не запамятовал.
– Должно, не запамятовал, а только честь он свою боярскую очень любит, и дороже она ему всего… А ведь супротив него не пойдешь… Сама знаешь, какова наша женская доля; пока при отце живешь – отцу не поперечь, замуж вышла – муж из тебя хоть веревки вей… Так-то! Что поделаешь; знать, так Господом Богом положено, чтобы мы под чьей-нибудь волей ходили. Помню, как я в той же поре была, как ты теперь, разве годка на полтора помоложе, – перенеслись мысли Анастасии Федоровны к прошлому. – Жила я у батюшки родимого, ни о чем не тужила, не заботилась. Только, знай, песни день-деньской распевала да за пяльцами у окошка сидела. Хорошо мне было тогда, и не думала я о замужестве. Так, казалось, весь свой век с батюшкой да с матушкой родимыми проживу. Сижу, бывало, вышиваю, да в окно поглядываю. А оно на улицу выходило, и улица людная была. Кто пешью идет, кто на коне едет… Возки разные ездят, али обозы тянутся. А то, нередко, и царь с царицей-матушкой в собор молиться поедет… Оно и занятно, не видишь, как день и пройдет. И любила я, признаться, в окно поглядеть. Вот раз так-то подняла я голову от пялец, смотрю на улицу, и вижу, идет на супротивной стороне какой-то молодец и прямо на меня глазами уставился. Я вспыхнула вся, ровно маков цвет, и голову к пяльцам опустила, а сама смотрю искоса, где тот добрый молодец. Вижу, стоит он насупротив, да все на мое окно смотрит. Потом прохаживаться стал, словно гуляет, а сам с окна глаз не спускает. Неловко мне тогда стало, да еще, думаю, увидит его матушка моя, так скажет мне, что вот, дескать, Настасья, в окно-то часто высматриваешь, уж и парни глядеть на тебя начинают. Оставила я работу и отошла от окна. Так больше весь день и не подходила к нему. А только приглянулся мне тогда, должно быть, этот молодец: во сне ночью снился. Подошла утром на другой день к пяльцам, глянула в окно, а уж молодец-то мой тут как тут и опять на меня поглядывает. На третий день то же самое, на четвертый опять тут, и дошло у нас дело до того, что, как первый раз увидела я его, был понедельник, а в пятницу он уж и шапку снял да мне, словно знакомый, кланяется. Ну и я не утерпела, кивнула в ответ ему головой. А он, как увидел это, весело-весело так улыбается. Так мы с ним знакомыми стали, хоть и двух слов друг с дружкой не промолвили. Пошла я в воскресенье с матушкой моей в собор к обедне. Стою, молюсь, только в сторону как-то глянула, смотрю, а мой молодец совсем близко, рядом со мной стоит и на меня смотрит. Я так и обомлела. А он наклонил голову да тихо так шепчет:
– Здравствуй, боярышня! Признала, чай?
Я стою, молчу, ни жива, ни мертва, услышит, думаю, матушка, что тогда. Так ему тогда ни слова и не ответила. Опосля этого стал он за мной, словно тень, ходить. Я в собор к обедне али к всенощной – он там; пойду гулять с матушкой – гляжу, и он где-нибудь недалеко бродит, да нет-нет на меня и посмотрит.
Долго это так было… Привыкла я, наконец, к нему. Как, бывало, не видать его день-другой, так словно и тоскливо на сердце становится. А только мне и на мысль никогда не приходило, чем все это кончится, а он, видно, думал, потому раз, как была я с матушкой в церкви и послала она меня свечку купить, он идет сзади меня, да и шепчет:
– Что ж, боярышня, можно ль сватов засылать?
В краску меня всю ударило. Однако ответила я ему тихо:
– Что ж, засылай, боярин.
– Люб, стало быть, я тебе, – говорит, а голос у самого дрожит.
– А почему ж не люб? – отвечаю.
Не знаю уж, как я тогда свечку купила, как обедню достояла, помню только, что всю ночь потом не спала, все о нем думала… Да и ладен был молодец, грех сказать… Красавец! – говорила Анастасия Федоровна, и словно грустью затуманились ее голубые глаза.
– Так, верно, этот молодец и был мой батюшка, коли сватов засылать собирался? – спросила Марья Васильевна, с интересом слушавшая рассказ матери.
– Нет, родная, случилось все тай, как и думать нельзя было! На другой день после того, как молодец про сватов мне толковал, батюшка уехал куда-то и оттуда вернулся домой веселый-превеселый. Кликнул матушку и меня тоже. Прихожу. Отец сидит, на меня так ласково поглядывает.
– Садись, Анна Павловна, – говорит матушке, – да и ты, Настасья, сядь: буду с вами кое о чем речь вести.
Села матушка, села и я, а сама думаю: «Что же бы это такое значило?» Молчу, жду. Матушка тоже сидит да на отца поглядывает.
– Ну, Настасья, – говорит батюшка, а сам ухмыляется, – девка ты теперь, что называется, в соку, и пора тебе своим домком обзаводится. Не след девице под кровом родительским стариться. Думала ль ты об этом?
– Признаться, – говорю, – батюшка, не думала, – а у самой у меня сердце так и застучало: догадалась я, зачем меня он позвал.
– Не думала, так думай. А ты, жена моя богоданная, как полагаешь, – сказал он матушке, – пора ль Настасье замуж идти?
– Полагаю, что пора бы… Девица на возрасте… А, впрочем, как ты, Федор Павлович, знаешь, так и делай: потому я, баба, мужу своему не указ и не советчица.
– Это ты, верно, баешь, что баба не указ мужу и не советчица, а только все же без твоего родительского благословения дочке замуж идти не можно, так ты благослови ее, да и приданое шить начинайте. Свадьба скоро.
– Как! – вскрикнула матушка, – нешто сваты приезжали?
– Нет!
– Так как же? Да и смотрин не было, ни сговору, а ты говоришь, что свадьба скоро.
– Какой же еще сговор да смотрины, когда у меня уже все с боярином Темкиным улажено да уговорено? У него сын на возрасте, у меня дочь, мы и порешили поженить их, сговорились обо всем и свадьбы день назначили… Так-то! Шейте приданое, и дело с концом!
На том разговор и кончился.
Проплакала я всю ночь напролет, а на другой день приданое стали шить.
Присылал ли молодец тот сватов, так и не знаю, но, должно, присылал, да отказ получил, так как я уж просватана была. Думаю, что было так, потому что перед окном он моим уж не стаивал, как прежде. Увидела же я его последний раз, когда меня с батюшкой твоим венчали. Он в народе стоял. Бледный, в лице ни кровинки, и на меня смотрел так тоскливо-тоскливо.
Потужила я, погоревала о моем молодце, а опосля забыла, и вот уж с батюшкой твоим который год живу, славу Богу…
И диковинно то, что, как мы с отцом твоим под венцом стояли, мы совсем друг с дружкой знакомы не были: он меня видел в первый раз, и я его тоже… А вот теперь свыклись! Так-то вот она, доля наша женская, – вздрогнув, проговорила Анастасия Федоровна.
Марья Васильевна молчала, все еще находясь под впечатлением рассказа матери.
– Вот и ты так же, родная, – не иди наперекор отцу. Захочет тебя выдать за кого, иди, слова не молви: стерпится – слюбится, – сказала мать.
– Нет! – встрепенулась девушка, – по мне, лучше в гроб, чем за немилого.
– Коли так, я тебе вот какой совет дам. Ежели вернется Андрей Михайлович да зашлет сватов, отец, знаю я его, со стыдом их выгонит. А ты сделай вот как: выжди время, когда отец будет весел да ласков с тобою, кинься ему в ноги и поведай, что замуж хочешь идти за князя. Авось его сердце смягчится, – говорила мать, встав с постели, на которой сидела, и собираясь уходить.
– Попробую, родимая! – ответила тихо Марья Васильевна.
– Ну, спи с Богом, и мне лечь пора! – сказала Анастасия Фёдоровна и вышла из комнаты.








