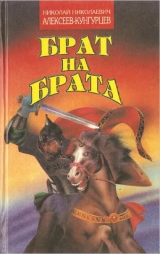
Текст книги "Брат на брата. Заморский выходец. Татарский отпрыск."
Автор книги: Николай Алексеев-Кунгурцев
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 24 (всего у книги 50 страниц)
Ложась спать вечером после отъезда Александра Андреевича и Марка Даниловича, Степан Степанович был в очень хорошем расположении духа.
– Ловко вышло, что говорить! – рассуждал он. – Оно, пожалуй, и лучше, что душегубы прикончили дурня этого, Дмитрия Ивановича, – тому надо было б в приданое за Катькой не малую толику, а этому можно и мимо. Я упредил, что прикрута мала, согласился – его дело. Хе-хе!
С такими приятными думами он и заснул. Как бывает нередко, сновиденья не соответствовали его радужному душевному настроению. Ему снилось что-то безобразное. Тут были и Дмитрий Иванович и Кириак-Лупп с перерезанным горлом, с выпученными от ужаса глазами, и холопка Агра– фена, грозившая и проклинавшая его, своего обидчика, и много-много еще лиц, участников событий, неприятных для старого Кречет-Буйтурова. Посреди ночи он проснулся, покрытый холодным потом.
«Чтой-то грезится такое несуразное!» – с досадой подумал он и хотел встать и пройтись по спальне, но освещенная луной комната показалась ему, под действием недавних сновидений, какою-то таинственной, и его охватило что-то похожее на суеверный страх. Он с головой закрылся одеялом и попытался снова заснуть. Ему это долго не удавалось. Им овладело какое-то странное, беспричинное беспокойство. Ему пришли на память рассказы о разбоях, совершившихся в окрестностях усадьбы, о сожжении и разграблении нескольких помещичьих домов, и мысль, что нечто подобное может постигнуть и его, заставляла его волноваться.
– И чего я в Москву до сей поры не съеду? Дурак, право, дурак! Беспременно на днях переедо!
Таким решением он старался успокоить себя. Мало-помалу он опять начал дремать.
Грубый толчок заставил его разом очнуться и приподняться на постели. Он глянул, и у него от ужаса зашевелились волосы на голове: перед ним стоял с ножом в одной руке и свечой в другой его беглый холоп Илья.
– Вставай, Степан Степанович! Побеседовать я с тобой пришел! – насмешливо сказал Лихой.
– Ко мне! Люди! – закричал боярин.
– Ты здоров орать, боярин! А только понапрасну горло дерешь – твои людишки лежат перевязанными – я распорядился так, чтобы они нам с тобой йотолковать да счеты кое– какие свести не мешали. В случае же надобности послужить нам помогут и мои молодцы, благо ими полон двор. Ну, вставай, али мне тебя поднять надо? – и с этими словами он спихнул Степана Степановича с постели.
– Как смеешь, холоп! – грозно закричал Кречет-Буйтуров.
– Я-то холоп? Ха-ха! Нет, было да прошло! Теперь ты мне – холоп. Гей! Сюда!
Этот окрик прокатился по дому, и до того времени молчаливый дом наполнился шумом и движением. Несколько человек вбежало в комнату.
– Связать его покрепче! – приказал Илья, указывая на Степана Степановича. Тот попробовал было отбиваться, но его живо скрутили.
– Теперь за работу, ребята! Грабьте добро боярское, холопьей кровью и потом нажитое. Ничего ему не оставьте… Слышите – то мой приказ вам. Ну, гай да! А я с ним потолкую.
Разбойники рассыпались по дому. Подле Ильи остались всего двое из них.
Атаман сел на пол рядом со Степаном Степановичем и некоторое время молча смотрел ему в лицо. По лицу боярина пробегали судороги, вытаращенные от ужаса глаза уставились на Лихого.
– Давно я ждал этого часа, боярин, – тихо заговорил Илья. – Только и тешился надеждой с тобой по-свойски переведаться. Почто отнял от меня мою голубку, ворон черный? Али мало было тебе, проклятому, других красоток? Почто и ее загубил, и меня? Лиходей! Вот я теперь – душегуб, грешник великий, которому ада не миновать, а все же ты грешнее меня! Ты тоже душегуб, только не стоишь с дубинкой при дороге, не прячешься в лесу под кустиком, не дрогнешь от холода да сырости ночной порой, а живешь в хоромах, носишь платье боярское и йикого и ничего не боишься.
Вдруг лицо атамана злобно исказилось.
– Чем отплачу я тебе, проклятый? Прирезать, как собаку? – глухо проговорил он, занося нож.
– Помилуй, пощади! – простонал боярин.
– Пощади! А ты щадил? Я у тебя в ногах валялся, как Бога, молил… Пощадил ты?
– По мне, атаман, – заметил один из разбойников, – пырять его ножом негоже – что ему! Вздохнет да и помрет. Его бы надо хоть посечь перед этим.
– Посеки, посеки, Ильюша, да и отпусти душу на покаяние! – запросил Степан Степанович.
Илья грбмко расхохотался.
– Посечь просишь?!. Ха-ха! Да могу ль я, холопишка беглый, такого родовитого боярина сечь!
– Тебе все смешки! – простонал боярин.
– Были и слезки. Надо ж когда-нибудь и мне посмеяться.
В это время дверь с шумом распахнулась и в комнату вбежала Катя, с распущенными волосами, в одной сорочке. Разбуженная шумом, увидев множество незнакомых людей, услышав их возгласы, девушка в неописуемом страхе вскочила с постели и бросилась бежать куда глаза глядят и таким образом очутилась в спальне отца. Увидев и здесь разбойников, заметив лежавшего связанным на полу Степана Степановича, боярышня вскрикнула и остановилась.
Илья посмотрел на нее.
– Боярышне Катерине Степановне низкий поклон, – насмешливо сказал он. – Что, пришла посмотреть, как Ильюшка расправу чинит с твоим батюшкой? Изволь, покажу!
И он опять занес нож над Кречет-Буйтуровым.
Девушка кинулась к нему.
– Не тронь! Не убивай! – воскликнула она, схватывая его за руку.
Атаман опустил нож и покрутил ус. Новая мысль зарождалась в его мозгу.
– Не трогать? Добро! А только пусть он мне наперед вернет мою Груняшу., Не вернет, чай? Как же быть? А так я его помиловать не могу. Разве вот что, не взять ли заместо Груни мне тебя в полюбовницы?
Катя с ужасом отпрянула от него.
Илья расхохотался.
– Претит? Холоп, вишь, я! Тебе б с бояринрм. А ты то смекни, что теперь я уж и не холоп, а атаман разбойников удалых, что теперь я поболее всякого боярина. Решил я честь тебе оказать – быть тебе моей полюбовницей. Дай-ка я тебя поцелую, боярышня.
Он обнял боярышню. Она вырвалась и отбежала.
– А, так! Не хочешь с атаманом, хуже будет. Гей! Приятели дорогие! Крути ей руки, чтоб не царапалась.
Катя умоляла, отбивалась, кричала, но разбойники ни на что не обращали внимания. Через мгновение она уже лежала связанной.
Степан Степанович делал невероятные усилия, чтобы освободиться. от веревок, но они были крепки. Он скрежетал зубами, но должен был в бессильной ярости смотреть на дикую расправу.
– Пока кончать пир, – сказал Илья и вышел из спальни.
– Ребята! – крикнул он, – выволакивайте холопов на двор да запалите боярские хоромы.
– А что с боярыней делать? Мечется она тут, что угорелая, – спросил кто-то.
– Пырните ее раз-другой ножом, чтоб не разводилась на земле боярская порода, да и делу конец.
Предсмертный хрип несчастной Анфисы Захаровны скоро возвестил, что приказание исполнено. Связанных холопов разбойники вытащили из дому и бросили посредине двора. После натаскали соломы и сена, обложили палаты Степана Степановича и подожгли. Скоро яркое пламя уже тянулось к небу. При свете пожарища разбойники делили добычу. Илья обходил связанных холопов.
– Ба-ба! Тебя-то я и забыл! – вдруг наклонился он. – Тебя-то, клеветницу окаянную, я чуть было невредимой не оставил!
– Ильюша! Ильюша! Что я тебе сделала? За что ты на меня серчаешь? – бормотала Таисия Рыжая – над ней-то и наклонился Илья.
– Что ты мне сделала? Ты – ничего, а язык твой сделал. Раскрой рот!
– Зачем?
– Раскрой, говорю, а не то! – он замахнулся ножом.
– Изволь, изволь! – вскричала Таисия и раскрыла рот во всю ширь.
– Высунь язык!
Таисия высунула язык. Лихой разом отрезал конец его.
– Это чтоб вперед тебе на людей небылиц не взводить, – свирепо проговорил он, отер нож и пошел дальше.
– Иван Дмитрич! Боярский ключник и приспешник, как здравствуешь? – промолвил атаман, снова наклоняясь. – Как делишки? Много ль боярину девок молодых приволок? Что ж молчишь?
Ключник только крякал от ужаса.
– Надо тебя за твои делишки наградить. Эй, возьмите-ка этого хрыча да повесьте на воротах!
– Помилуй! Илья! Голубчик! – взмолился тот.
– Ладно, ладно! Тащите его, тащите!
Скоро длинное тело Ивана Дмитриевича уже покачивалось на перекладине ворот.
– Пора в путь! – приказал атаман.
– Разбойники живо завязали добычу и уложили на коней. Вся ватага, кто пешью, кто на коне, вывалила за ворота. Илья повернулся на седле и посмотрел на пожарище. Дой уже весь был охвачен пламенем.
– Расправа учинена, – прошептал он. – Теперь легче будет на сердце.
Но тотчас же он понял, что на сердце не стало легче. Напротив, там копошилось что-то новое.
«Совесть жжет», – подумал атаман и успокоил себя: – «пройдет!»
XXXVII. ПОСЛЕ РАСПРАВЫКомната была полна дымом. Языки пламени врывались в окна и лизали стены. Багровый отблеск пламени ложился на лица Кати и Степана Степановича. Девушка неподвижно сидела на постели и, казалось, ничего не видела и не слышала. Она не плакала, но выражение, лежавшее на ее лице, было ужаснее самых горьких слез. Это было выражение полнейшего отчаяния, того отчаяния, которое уже не оставляет места ни для надежд, ни для утешений.
– Горим! Спасите! – кричал, катаясь по полу и напрасно силясь освободиться от веревок, Степан Степанович.
Этот вопль ужаса был так силен, что заглушил треск горящего дерева, но Катя не шевельнулась.
– Катя! Развяжи! – вспомнил про дочь боярин.
Она не отозвалась. Он подполз к постели, закричал еще громче, коснулся ног дочери.
Только тогда боярышня обратила на него внимание.
– Развяжи!
Она медленно встала, развязала веревки и опять села.
Степан Степанович поднялся на доги.
– Бежим скорее!
Девушка отрицательно покачала головой.
– Бежим, Бога ради! – воскликнул боярин, схватывая дочь за руку. Она тихо высвободилась.
– Беги! Я останусь.
– Катерина! В уме ль ты! – вскричал Степан Степанович. – Сгоришь ведь!
– Что ж! Зачем мне жить?
– Катя! Дитятко! – вдруг расплакался Степан Степанович. – Дочка моя! Не губи себя!
– Уж погублена, – с отчаянием в голосе отозвалась боярышня.
– Бежим! Нет – так я тебя силком вытащу.
– Оставь, отец! Беги – скоро крыша провалится.
Степан Степанович взглянул на пылающий потолок и отпрянул к выходу. Боязнь за свою жизнь одержала вверх над любовью к дочери.
– Беги! – еще раз повторил он, уже переступив порог.
– Нет! Смотри, промедлишь еще – поздно будет.
Степан Степанович бегом бросился вон.
– Что! Я угадал: горит усадьба Кречет-Буйтурова, – говорил на скаку Турбинин. – Господи! Как бы не приключилось с Катей чего!
Из окрестных сел и деревень тянулся народ к пожарищу. Когда приятели подскакали к усадьбе, у ворот уже стояла целая толпа.
– Ключник это! Ей-ей, он!
– Ан, нет, не он. Тот седой был.
– Он, он!
Это спорили в народе о том, кто был повешенный на перекладине ворот.
– Сказывают, холопей всех перевязанными нашли, а у одной холопки язык отрезан.
– Ишь, душегубы проклятые! Пробраться бы во двор, поглазеть.
– Где проберешься! Народу – тьма!
Несмотря на то, что народу, действительно, была «тьма», Турбинина и его приятеля пропустили к пожарищу.
Дом был уже совершенно объят пламенем. О спасении его нечего было и думать. Однако мужички метались по двору, пробуя тушить пожар. В понуром старике, сидящем на земле вблизи пылавшего дома, друзья едва признали Степана Степановича.
– Все ли спаслись? Где Катя? – бросился его расспрашивать Турбинин.
– Все, все погибло: и честь, и добро, – глухо ответил Степан Степанович.
– Где Катя? – еще раз воскликнул Турбинин.
– Там, – указал боярин на пылавший дом.
– Ведь она сгорит! Господи! – в ужасе вскричал Александр Андреевич.
И он кинулся к объятым пламенем Ъеням. Он еще не успел добежать до крыльца, как крыша провалилась. Вместо дома перед ним была груда пылавших бревен. Турбинин отчаянно вскрикнул:
– Погибла! Погибла!
– Всё, все! И дочь, и честь, и добро… Всему конец! – бормотал Степан Степанович.
Александр Андреевич рыдал. Приятели не находили слов для его утешения.
Часть третья
I. ПРЕРВАННЫЕ ДУМЫ ПРАВИТЕЛЯШуйские не дремали. Это вот уже второй год знал Борис Федорович. Да, они не дремали. Они пользовались всяким случаем, чтобы вредить правителю. Глухая борьба продолжалась, ни на минуту не прекращаясь. Нападали они, Шуйские, душою борьбы которых был князь Василий Иванович. Он, Годунов, только защищался. Но уже терпение истощалось. Уже лютый гнев начинал все сильнее и чаще клокотать в его богатырской груди. Пора бы кончить.
– Да, пора бы кончить, – вслух повторил свою мысль Борис Федорович и остановился, и обвел взглядом палату, по которой прохаживался.
– Царев чертог! – продолжал он рассуждать сам с собой. – И золото, и парча. А чего все это стоит! Стоит-то чего! Ни дня, ни часа спокойного. Вечно настороже, вечно в опаске. Куска спокойно проглотить нельзя – того и гляди, отравленный. Ведь хотели ж отравить, уж это доподлинно известно, да сорвалось. А теперь это измыслили – развести царя с Ириной. Неплодная, дескать. Ха! Она неплодная! Царь – вина, а не она. И этот Дионисий тоже увязался с ними. Разрешенье свое владычное дать хотел на развод. У! Вороги! Хорошо, что я сведал, что всюду у меня глаза есть! А не сведай? Что тогда? Ирину постригли бы, а меня… меня либо услали бы к Белому морю, либо и того хуже – придушили бы. Эх, кабы не дети мои! Бросил бы все, зажил бы простым боярином. Все из-за них боюсь: хочется им жизнь устроить лучше. Детки, детки!
Дверь распахнулась, и хорошенькая маленькая девочка, блистая черными глазенками, с веселым смехом вбежала в комнату.
– Батя, батя! Спрячь! – хохоча воскликнула она, прячась за отцовскую ферязь.
– Ишь, шустрая, убегла и не словишь! – говорила, запыхавшись, вбежавшая за девочкой нянька.
Борис Федорович поднял девочку и посадил к себе на плечо.
– Сиди, Ксюша, здесь не достанут.
– Ай, не достать меня! Не достать! – кричала няньке Ксения и хлопала в ладоши.
Отец, подняв голову, заглядывал на смеющееся личико ребенка и добродушно улыбался. В этот миг он забыл о всяких заговорах, о всяких кознях против него.
II. ГЛАВА ПОЛУОПИСАТЕЛЬНАЯМарк Данилович неровными шагами прохаживался по комнате. За протекшее время боярин сильно изменился. Последние следы юношеской свежести и мягкости изгладились с его лица; суровая складка набежала между бровями, горькие морщинки обвели рот. Это был уже не юноша, это был мужчина, повидавший горя.
Его горем была любовь к Тане. Как ни боролся он со своим чувством, как ни заглушал он его – это чувство жило, и, нет-нет, давало себя знать приступами мучительной тоски. За эти годы переменилось многое, кроме душевного состояния Марка Даниловича. Его вотчина представляла какой-то благословенный уголок во всей окрестности. Населена она была свободными людьми: в поместье молодого боярина не было ни одного раба: села и деревни поражали своим «сытым» видом. «Мальцы» бегали в школу, которую устроил Марк Данилович. Помня свою обязанность: «выступать в поле» [47]47
В поход
[Закрыть]на службу государеву «конно, людно и оружно», он на случай похода подготовлял должное число молодых парней и, отыскав в Москве, в «Немецкой слободе», знающих ратное дело иноземцев, поручил им выучить будущих воинов конному и пешему строю. Теперь с его «молодцами» могла поспорить разве только наемная царская дружина.
Одним словом, имение Марка Даниловича, густо населенное, потому что в него стекались привлекаемые льготами крестьяне от всех соседних помещиков, представляло из себя своего рода маленькое государство со своеобразным управлением, со своими законами и обычаями, государство, несомненно, гораздо более благоустроенное, чем вся тогдашняя Русь. Достичь всего этого Марку удалось в такое короткое время лишь благодаря его энергии. Это ему стоило немалых усилий и борьбы с недоброжелателями. А их было немало: все окрестные помещики были его тайными или явными врагами. Он их презирал.
Но был еще враг, враг злобный и непримиримый, с которым приходилось вести борьбу. Этот враг был поп Макарий, настоятель церкви в селе Марка Даниловича.
Вот к теперь, расхаживая по комнате, молодой человек чувствовал, что грудь его дрожит от гнева. Он мысленно переживал разыгравшуюся за час перед этим сцену между ним и Макарием. Он ясно представлял себе сухую, длинную фигуру попа с дряблым лицом, длинною козлиной бородой и впалыми, злобно сверкающими глазами. Он видит его поднятую руку, слышит хриплый, раздраженный голос, выкрикивающий: «Еретик!»
Еретик! – этим именем клеймит Марка Макарий за все его деяния на пользу крестьян. Ересь – то, что молодой боярин сбавил наполовину поборы; ересь, что держит закупов, а не принимает себе крестьян в кабалу; ересь, что выстроил школу и заставляет ребятишек учиться «азам» и «ведям» у Ильи-пономаря, возведенного в степень учителя.
– «Ересь, ересь! Не по обыку творишь!» – вот что постоянно слышал Кречет-Буйтуров от Макария.
Чем дальше, тем становилось хуже. Вначале поп ограничивался только упреками, потом начал осуждать поступки боярина при народе, наконец начал громить с церковной кафедры и сбивать крестьян не повиноваться боярину, не пускать детей в школу, не подчиняться «греховным» новшествам. Марк Данилович долго ждал, что Макарий образумится, но постепенно раздражение стало все чаще и чаще прорываться и наконец сегодня, когда поп пригрозил пономарю Илье проклятием, если тот будет учительствовать в «богомерзкой» школе, долго сдерживаемый гнев боярина вылился бурной волной. Между ним и Макарием произошла ссора такая, что о примирении нельзя было и думать. В конце концов Марк предложил Макарию убираться из села куда анает и сказал, что испросит у владыки в свою вотчину нового священника.
– Уберусь! Уйду! А только и ты меня попомнишь, еретик проклятый! – пригрозил в заключение Макарий.
«Еще грозить смеет! – думал, прохаживаясь, боярин. – Так я и испугался его угроз! Нет, вон его, вон! Завтра же в Москву съезжу!»
В это же время в своем домике расхаживался и поп Ма– карий, вернее – бегал по комнате так, что полы рясы метались в воздухе. Попадья два раза звала его обедать, но он только отмахивался от нее да приговаривал: – Отстань! Ну тебя.
Потом он подошел к небольшому шкафу, где хранились письменные принадлежности, вынул лист бумаги, чернильницу, перо и, присев к столу, начал что-то старательно выводить полууставом.
III. СБОРЩИК ПОДПИСЕЙ– Боярыня! Отец Макар приехал.
– Отец Макар? Зови его в светлицу да дай мне приодеться, что ль.
И Василиса Фоминишна, спешно допив кружку утреннего сбитня, поднялась с лавки.
Время и на ее лице оставило свой след. Она была по– прежнему хороша собой, но ее взгляд потерял былую ласковость, морщинки перерезали лоб.
Отцу Макарию пришлось ждать недолго.
– Гость дорогой, отец Макар! Вот рада я радешенька! – сказала боярыня, входя.
– И, полно, боярынька! Какая радость! – поднялся тот ей навстречу. – Непгго со мной, стариком, веселье вдовице младой?
– Ай, шутник, отец Макар! Скажи лучше, чем потчевать: медком, наливочкой, али зеленым вином?
– И не хлопочи: ей-ей, не до угощенья. По делу я.
– Дело делом…
– Нет-нет, уволь! Мне и времени нет, признаться…
– Экий какой ты! Ну, твоя воля! С каким же это ты делом?
– Ох, матушка, невеселое дело! Еретик тут завелся.
– Еретик? – удивленно спросила боярыня.
– Еретик богопротивный. Честным людям житья от него нет. Хоть бы меня взять – сколько лет я здесь священствовал, а вот теперь еретик гонит меня, без хлеба норовит оставить.
– Чудное что-то ты говоришь! Кто же этот еретик?
– Ох, ходит волк в личине овчей. На вид и ласков, и пригож, и добр будто… Говорю я не про иного кого, как про царева окольничего Марка Даниловича Кречет-Буйтурова.
– Вот про кого, – протянула Василиса Фоминишна, и ее лицо покрылось красными пятнами.
Отец Макар продолжал, не глядя на нее:
– Да, вот про кого. Много ль он здесь? До-трех годов не дохватит, а что он натворил? Все вотчинники окрестные криком кричат. Крестьян от всех переманил, завел порядки басурманские – «у меня», говорит, «нет рабов, все люди вольные», – школу построил… это для смердов-то! А? В церковь так калачом его не заманишь, а на потехи дурацкие есть время: выдумал, вишь, он ратному делу холопов обучать. Царю, говорит, я ратных людей добрых должен поставить. А на деле не к тому он клонит – помыслы у него нечистые: хочет измену учинить.
– Измену?
– Да. Перво-наперво, Бориса Федоровича от царя отдалить хочет, а потом мятеж учинить, благо ратники готовые, и на его место сесть.
– Ой, верно ль?
– Лгать ли стану? Для чего он с Мстиславскими да Шуйскими спелся? Вместе с ними хотел царю просьбу подать, чтоб он, батюшка, с царицей развелся да другую жену себе взял?
– Доподлинно знаешь?
– Я ль не знаю! Вот, теперь я объездил всех вотчинников здешних, все в голос кричат: «прогнать надо еретика этого из мест наших». Составил я к царю челобитную, подписи собираю… За тем и к тебе приехал: охоча ли будешь подписать?
Василиса Фоминишна некоторое время молчала. Ей вспомнились печальные дни, полные тоской неудовлетворенной любви, вспомнился холодный отказ Марка на ее пылкое признание, вспомнилась его любовь к Тане, и злоба шевельнулась в ее сердце.
«Погубить! Досадить!» – мелькнула злобная мысль.
– Да, да… Я руку приложу к челобитной… Да, да… проговорила боярыня.
– Вот и бумажка… Чернилец бы да перышка.
– А только я крестов понаставлю по безграмотству.
– Ничего, матушка, ничего. Мы оговорочку сделаем, – говорил поп.
Лицо его сияло. Это была удача немалая: втайне он мало надеялся на согласие Василисы Фоминишны, а согласие ее было важно: вотчина ее была одною из самых значительных, и на ее имя, подписанное под челобитной, обратили бы большее внимание, чем на всякое другое.








