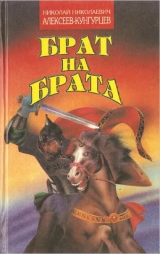
Текст книги "Брат на брата. Заморский выходец. Татарский отпрыск."
Автор книги: Николай Алексеев-Кунгурцев
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 21 (всего у книги 50 страниц)
В сумерках весеннего вечера неясно рисуются две фигуры. Это – Илья Лихой и Аграфена. Холоп хмур, девушка задумчива.
– Принесла его нелегкая не в пору. Думал дней йотеп– лее дождаться да тогда и утечь с тобой, ан, видно, придется раньше, – говорил Илья.
– А у тебя все уж слажено для ухода?
– Ну, вестимо же. Выберем только денек поудобней да и тягу. А ты что спрашиваешь?
– Да так, Господи!
– То-то так! Знаем мы вашу сестру! Может, тебе бежать неохота? Ведь и то сказать, что я? Холоп да еще беглый к тому же буду, а он – боярин богатый. Вестимо, слаще стать боярской полюбовницей, чем женою холопишки безродного. А? Так?
Глаза Ильи сыпали искры.
– Что ты! Как и думать такое можешь? Попросту спросила, потому лишь, чтобы, как убежим, так не нашли бы нас.
– Гм… Да… А чего ж ты сама к боярину подлезаешь?
– Я?! Откуда взял такое?!
– Все говорят…
– Кто все? Кто? – и в голосе Груни послышалось такое негодование, что Илья смутился.
– Да вот хоть бы Таська Рыжая.
– Верь ей, клеветнице, больше, так она еще и не то скажет. Ах, Ильюща, Ильюша! Не люба я тебе, видать! – с горечью промолвила Груня.
– Кабы не люба была, стал бы я изводиться так? Ведь извожусь я, Грунюшка, извожусь!..
– Милый мой, соколик! Зачем в сердце свое пускаешь думы черные? Зачем веры мне не даешь? Уж я ль не люблю тебя, желанного моего?
– Верю тебе, Груня, верю, а что я с собой сделаю, коли думы черные покоя не дают? Ах, милая! Только тогда и успокоюсь, когда мы сбежим отсюда, заживем на волюшке… Родная моя!
И Илья крепко обнял Аграфену.
– А только, – добавил он через минуту, – ты смотри не сдавайся на улещанья боярские.
XXIII. УЛЕЩАНЬЯНа следующее утро после описанного свиданья Аграфене было что-то не по себе. Какое-то смутное чувство, точно ожиданье предстоящей беды, наполняло ее душу. Работа не спорилась.
– Чтой-то, Груня, у тебя сегодня дело на лад не идет? – заметила ей Фекла Федотовна.
– А сама не знаю, что такое. Просто руки опускаются.
Ключница посмотрела на нее.
– Не разнедужилась ли, грехом? Ишь, и с лица белая что-то больно.
– Нет, кажись, здоровешенька. Так что-то…
Время тянулось страшно медленно. Кое-как дотянули до обеда. Поели, и как будто всем стало веселее. Пошли разговоры, песни. В это время пришел Иван Дмитриевич и присел рядом с Аграфеной.
– Ну, что, как работишка?
– Ничего себе, помаленьку, – ответили девушки, а сами подумали: «Что сивому тут надобно?»
Иван Дмитриевич пустился в россказни, балагурил, смеялся, подтягивал певуньям своим козлиным голосом. По-видимому, он не собирался скоро уйти.
Фекла Федотовна с неудовольствием смотрела на него. Она недолюбливала хитрого «Ваньку».
«Уж неспроста припер, старый черт, ой, неспроста!» – думала она и зорко наблюдала за Ванькой.
Поэтому от нее не укрылось, что он, уловив время, шепнул что-то Груне и та, удивленно взглянув на него, стала складывать работы.
– Чего это ты? – спросила ключница.
– Да вот, Иван Дмитрич зовет зачем-то, что-то сказать мне хочет.
– Чего ж здесь не говоришь, Иван Дмитрич? Говори, коли надо, а из-за работы тащить девку не рука.
– Да ты не серчай, Фекла Федотовна: живехонько назад ее отпущу. А сказать мне пару слов, точно, надо.
– Что за тайности такие! – ворчала старуха.
– И впрямь, Иван Дмитрич, что за тайности? Мне работу доканчивать надобно… Сказали бы здесь, – промолвила Аграфена.
– Да не рука здесь говорить, потому, – тут ключник наклонился к уху девушки, – шепнуть тебе надобно пару слов об Ильюшке.
Раньше Груне не хотелось идти, но последние слова подействовали на нее в обратную сторону, и она просительно обратилась к Фекле Федотовне:
– Пусти, баушка!
Та печально покачала головой.
– Эх, девица, девица ты бедная!
– Не тяни, Фекла Федотовна! Сказать правду, не по своей я воле говорить-то с ней хочу – боярский приказ получил. Пойдем, Аграфена.
У Груши мелькнуло что-то вроде подозрения. Ей вдруг почему-то стало страшно идти за ключником.
– Лучше б ты здесь сказал… – пробормотала она.
– Да иди, иди, глупая! Чего там!
Волей-неволей Аграфене пришлось следовать за ключником. Он прошел сени, свернул в светлицу и перешел ее.
– Куда ж ты, Иван Дмитриевич? – недоумевая, пробормотала девушка.
– Иди, иди! Знаю, что делаю, – отозвался он, направляясь к боярской опочивальне, дверь которой была заперта. Тут он приостановился.
– Ну, девка! Клад тебе в руки дается, – сказал он.
– Какой клад?
– Да… Только дурой не будь, вот что. Будешь боярыней жить…
Груня догадалась и побледнела.
– Иван Дмитриевич! Коли ты на худое что намекаешь, так я ни в жизнь не соглашусь. Помереть лучше.
– Эка! Стану я на худое намекать! Клад, говорю, тебе в руки дается, а что ж тут худого? Иди-ка!
И, прежде чем она могла опомниться, он приоткрыл дверь опочивальни и втолкнул туда Груню, шепнув:
– Не будь дурой!
Дверь затворилась, и щелкнула задвижка. Аграфена оказалась запертой в пустой опочивальне Степана Степановича. Она поняла, что попала в западню. Она забегала по ней, как зверек в клетке. Тянула дверь – дверь не подавалась. Кричала, молила – никто не отвечал на ее вопли. Тогда она подбежала к окну и раскрыла его. До земли было несколько сажен. Она перекрестилась и готовилась встать на подоконник, чтобы выпрыгнуть.
В это время дверь отворилась.
– Ай-ай, красавица! Не гоже так! – раздался за нею голос боярина, и сильная рука Степана Степановича оттолкнула ее от окна.
Кречет-Буйтуров затворил окно и сел подле него. Груня плача стояла перед ним. Боярин молча смотрел на девушку, которая прикрыла лицо рукавом сарафана; грудь ее вздрагивала от рыданий.
– Ну, чего ты плачешь, девица? А? И не стыдно тебе? Ай-ай! Утри слезки-то да сядь со мной рядком, мы и потолкуем ладком! – проговорил боярин отеческим тоном и отвел руку Груни от лица.
– Ишь, слезки-то, слезки-то – росинки! И глазки покраснели… Полно тебе, полно!.. Садись!..
Тон Степана Степановича несколько ободрил Груню. Она опустилась на скамью.
– Не туда. Садись рядком со мной. Али я такой страшный? Ась?
Девушка полуулыбнулась.
– Нет, – тихо проговорила она.
– Я и сам так думал, что не страшен, ан, кажись, и сам ошибся, и ты неправду молвила: страшен я – вишь, со мной рядом сесть не хочешь.
Девушка нехотя поднялась и пересела к нему ближе.
– Вот, теперь так. Ну, скажи мне, о чем ты плакала?
Груня молчала.
– Меня боялась? А что я – зверь? Ишь ты, красотка какая! Кажись, зверь лютый и тот, поглядев на тебя, подобрел бы, хе-хе! А я – не зверь, а человек добрый и добра тебе хочу.
Он обнял стан девушки. Она попробовала вырваться, но боярин держал крепко.
– Не вертись, все равно не пущу: ничего, от этого от тебя не убудет… Добра я тебе хочу, да. Что ты теперь? Девка-холопка и ничего больше, раба моя. Вот у тебя Ильюшка завелся – того ж поля ягода: раб безродный и плохой еще к тому же, и нищий. Ну, выдам я тебя за него – эка сласть тебе будет! Весь век холодать да голодать, да детей плодить! Потому и не выдам тебя за него, что добра тебе хочу.
– Эх, боярин! Будь что будет! Выдай меня за него! – сказала Груня.
– Ни-ни! Я тебе – не ворог… Тебе надобно в шелку да в бархате ходить, боярыней быть. Вот что! Ишь, шея-то, что у лебедушки, – сюда б ожерельце, а на ручки бы запястья да кольца с камнями самоцветными. А сарафанчик бы атласа красного, а на ноженьки б чоботки сафьяновые… Эх, Грунька! Да и раскрасавицей же была б ты!
Он привлек к себе Груню и чмокнул ее в щеку.
Девушка вырвалась из его объятий и вскочила.
– Боярин! Батюшка! Выпусти меня отсюда, Христа ради! – вскричала она умоляюще.
– Пустое! Куда тебе торопиться? Сядь-ка, сядь!
Степан Степанович потянул Груню к себе. Она упиралась.
– Пусти, батюшка Степан Степанович!
– Ой, не пущу! Говорю, боярыней заживешь. Полюби– ка меня, девка!
Боярин встал с лавки и заключил в свои объятия девушку.
Она отчаянно отбивалась, и из ее груди вырвался отчаянный вопль.
Вопль Груни был настолько силен, что донесся туда, где работали девушки и Фекла Федотовна.
Услышав крик, старуха побледнела и сурово сдвинула брови. Девушки переглянулись и примолклй. Таисия завозилась на своей скамье, и ядовитая улыбка промелькнула на ее губах.
Через несколько времени она под каким-то предлогом вышла из девичьей.
XXIV. НЕПОВИННАЯ ЖЕРТВАВыйдя из девичьей, Таисия Рыжая пустилась отыскивать Илью Лихого. Она нашла парня за работой в боярском саду. Против обыкновения, Илья был в духе и мурлыкал какую-то песенку. Увидав Таську, он поморщился.
– Зачем пожаловала?
– Так себе. Захотелось передохнуть малость от работы, вышла в сад – глядь, и ты тут. А ты работаешь?
– Нет, щи хлебаю.
– Какой ты сердитый, право.
– А чего ты пустое спрашиваешь? Чай, сама видишь.
– Работящий ты парень. Эх, жаль мне тебя!
– Что больно разжалобилась?
– Да как же… Слышал, чай?
– Что такое?
– Да про Груньку…
– Ну, опять закаркала ворона! Что опять придумала? – сказал Илья, а на лице его выступили от волнения красные пятна.
– Большая нужда мне придумывать! Непутевая девка твоя Грунька.
– На себя бы лучше посмотрела.
– Да я что ж? Я знаю, какова я, и святой не прикидываюсь. На то зло берет, почто она тебя-то морочит.
– Полно врать-то!
– Соври сам, я врать негоразда. Да что толковать – шабашкино дело теперь с твоей Грунькой.
Илья даже выронил из рук заступ, которым работал.
– Как шабашкино дело?
– Да так… Пришел это сегодня к нам Иван Митрич и присел с ней рядком. Пошепталась она с ним маленько, а потом пошли оба в боярские покои. Ну, и до сей поры Грунька не вернулась. Одначе мне пора. Заболталась я, работа ждет. Прощай!
И Таисия ушла.
Илья даже не заметил ее ухода. У него подкашивались ноги. Он опустился на траву и словно окаменел. Удар был слишком силен и неожидан. Еще сегодня он думал, что скоро конец мукам – день-два, и они убегут, будут свободны.
Его сердце было полно отчаянья. Он сжал руками голову.
«Не покончить ли с собой? – мелькнула мысль; другая ее перебила: – Чем с собой, лучше с ними – с боярином да с обманщицей проклятой. Проклятая! Проклятая!»
К отчаянью начала примешиваться злоба.
«Убить!» – сказала мысль уже не мимолетная, а созревшая.
Отчаянье отняло от Ильи силы, злоба возбудила их. Он поднялся с травы и вытащил из-за голенища нож.
– Туп, – проворчал Илья, пробуя лезвие.
Вскоре после этого его видели точившим нож на оселке. Все время он что-то бурчал себе под нос. Отточив, он опять засунул нож за голенище.
Эта мысль заставила радостно забиться его сердце. Он схватился за нее, как утопающий за соломинку.
«Да, да. Верней, что наврала. Коли Груня придет, стало быть, ничего не было.»
Илья с нетерпением стал дожидаться вечера. Только что солнце стало западать, он уже стоял на месте обычных свиданий с Аграфеной. Ждать ему пришлось долго. Только когда золотая быстро темнеющая полоска на небе указывала то место, где скрылось солнце, Груня пришла.
Илья так и кинулся к ней.
– Что долго не шла?
Когда он взглянул на заплаканные глаза девушки, на ее осунувшееся лицо, он понял, что Таська сказала правду. Дикая злоба проснулась в нем. Рука потянулась за ножом.
– А-а! Значит, правда? Да?
– Ах, Ильюша! Ах, родной мой! Что со мной сделали! – плача заговорила Груня.
– Так, так! Сделали! Прочь, боярская полюбовница! У! Змея проклятая] Жить тебе не след – только честных людей обманывать… Проклятая!
И он с размаху раз и другой всадил нож в грудь Груни. Она вскрикнула и упала, обливаясь кровью.
Сейчас же Илья и выронил нож и тупо уставился на красное пятно, вдруг появившееся на белом полотне Груниного сарафана. Девушка металась, прижимая руки к груди.
– Груня! Родная!.. Прости!.. И я все прощу… Грунюш– ка, ангел Божий, не помирай! – залепетал Илья, наклоняясь над ней.
– Бог простит, Ильюша, – слабо заговорила Груня. – Мне и лучше… помереть, чем… жить… Ох! Жжет в груди, жжет! Помираю, Илья. Прости… А только, сокол мой, в смертный час говорю: люб ты мне был один, и ни на кого тебя я не променяла б… Ни на золото боярское… ни на ласки его… Насильем меня взяли… Ох!
Она опять заметалась. Илья с ужасом видел, что Груня кончается.
– Господи, сжалься! – воскликнул он, ломая руки.
Между тем умирающая успокоилась. Она уже не металась, не стонала. Оца лежала неподвижно. Покрытое мертвенной бледностью лицо ее было ясно, и взгляд спокоен. Она смотрела на Илью.
– Не грусти, милый! Все там будем… – прошептала она.
Ее грудь поднималась неровно. Дыхание становилось все медленнее.
– Прости… милый… – едва слышно прошептала она.
Грудь высоко поднялась и опустилась, веки смежились.
Тело дрогнуло и вытянулось.
Груня была мертва.
Илья заплакал над нею, как ребенок.
Была уже ночь, когда Илья Лихой поднялся от ее трупа. Он постоял некоторое время в глубоком раздумье, потом поднял нож, погрозил им в сторону боярского дома, затем засунул нож за голенище и поплелся к воротам.
Поутру бледный как смерть Иван Дмитриевич вбежал в опочивальню Степана Степановича.
– Беда стряслась, боярин!
– Что такое?
– Аграфену мертвой нашли – грудь в двух местах просажена, и Илья Лихой пропал.
– Гм… Вот дело! Жаль девку, красивая была! Ну, что делать! Царство ей небесное! Свезите на погост. А Илью разыскивать пошли.
– И то уж послал.
Илью Лихого разыскивали долго, но не нашли. Он словно в воду канул.
XXV. «СЧАСТЬЕ – ЭТО МГНОВЕНИЕ»Когда в их дом принесли Марка Даниловича, истекающего кровью, избитого, израненного, Таня, наперекор запрещениям мачехи, сделалась самой внимательной сиделкой больного.
– Здесь нет боярина молодого, здесь есть только болящий, – отвечала она на приказания Василисы Фоминишны удалиться и настояла на своем. Мачеха ничего не могла поделать с ее упрямством.
Кречет-Буйтуров долго находился между жизнью и смертью, наконец крепкая натура осилила болезнь. Когда он пришел в себя, первое, что он увидел, было лицо Тани. Еще грезы мешались с действительностью; он еще не сознавал, где он, кто перед ним.
– Ангел! – прошептал он.
Это было первое слово, которое от него услышала Таня.
После, по мере того как Марк Данилович поправлялся, пошли долгие беседы. Он рассказывал ей о своей прошлой жизни, о своих планах и намерениях. Он говорил ей, как болит его сердце, когда он видит бедность крестьян, их угнетение, их невежество. Он говорил, что хочет всю жизнь положить на служение «меньшому брату».
И Таня понимала молодого боярина. Его слова выражали лишь то, что она сама думала.
Сродство их душ сказалось, и духовная связь крепла.
– Вот скоро мне и встать с постели можно, – сказал в этот майский день Марк Данилович Тане.
Она слегка вздохнула.
– Да… Еще дня три полежать, а там…
– А там и прощаться с усадьбой боярыни Василисы Фоминишны придется, – закончил зе нее молодой человек.
– Зачем? Погости еще!
– Уж и то гостил немало. Знаешь, я даже и не больно радуюсь поправкой.
– Что такое? – спросила боярышня, а щеки ее слегка зарумянились.
– Больше б проболел, дольше бы с тобой пробыл. Что за ангел ты, боярышня!
И он взял ее маленькую ручку и прижал к своим губам. Она наклонилась и поцеловала его в лоб.
Больше им ничего не требовалось; не нужны были ни клятвы, ни уверения: они ничего не прибавили бы к их сознанию, что они любят взаимно и любимы,
Поэтому Тане показалось странным, когда Марк Данилович после этого сказал:
– Я думаю не тянуть дело со сватовством за тебя. Чем скорее, тем лучше. Так ведь?
– Вестимо так, родной мой, – ответила боярышня. Марк сжимал в своей руке ее ручку, смотрел на ее милое, счастливое личико и думал, что он нашел то, чего искал, чего ему не хватало в жизни – верную и любимую подругу-помощницу. А Таня – Таня впервые познала, что зовут счастьем.
В дверь постучали.
– Можно? – спросил звучный голос боярыни Доброй. Мгновейье счастья пролетело. Что принесет следующее мгновенье?
Марк Данилович тяжело вздохнул.
– Входи, будь добра, – вымолвил он, выпуская руку боярышни.
XXVI. ЗЛАЯ ЛЮБОВЬВойдя в комнату и увидев падчерицу, Василиса Фоми– нишна нахмурилась.
– Танька, ты опять здесь! Пошла вон – боярин не так уж недужен, как прежде, не гоже тебе тут быть! – проговорила она.
Боярышня медленно удалилась.
– Напрасно ты гневаешься на нее, Василиса Фоминиш– на! Она, словно ангел небесный, исцеленье мне приносит.
– Уж ангел, нечего сказать! – презрительно промолвила боярыня. – Ну, что? Лучше ли тебе, соколик? – добавила она иным тоном.
– Слава Богу, куда лучше. Скоро и в путь можно.
– Торопиться нечего, погости у нас, коли с нами не скушно, – говорила Добрая, не сводя с лица Марка ласкового взгляда.
Странное чувство испытывал Марк Данилович всегда, когда находился в обществе Василисы Фоминишны. Чувство это было похоже на смутное предвидение какой-то опасности. Если при появлении Тани у него становилось светло на душе, то, наоборот, приход ее мачехи навевал на него что-то вроде тоски. Его сердце начинало тревожно биться; разговорчивый с Таней, он не находил слов для беседы с боярыней. Пробовал он было заговорить с ней, как с Таней, о своих планах и намереньях, она слушала его рассеянно и зевала. Зато чуть разговор касался любви, она оживлялась и бросала на молодого гостя такие взгляды, что Марк Данилович смущался.
– Скучно – не скучно, а не век же мне тут гостить.
– Дела разве есть спешные?
– Нет, да уж пора: слава Богу, благодаря тебе да боярышне я хворь одолел, раны зажили. Ты вот сказала: «Коли не скучно», а знаешь ли, что мне болеть веселее было, чем здоровым быть.
– Вот тебе на!
– Верно слово! Пока я здоров был, все я один-одине– шенек, а тут-то ты навестишь, то Татьяна Васильевна.
– А зачем живешь одиноким? Женился бы, – сказала боярыня, и странная нотка послышалась в ее голосе.
– И то думаю…
Лицо Василисы Фоминишны покрылось яркой краской.
– Доброе дело… За тебя всякая пойдет… хоть вдова, хоть девица.
– У меня уже на примете есть.
– Вот как!
Глаза боярыни Доброй так и сияли.
– Хочу сказать кое-что тебе, Василиса Фоминишна.
– Говори, говори, соколик!
– Да что-то не говорится.
– Что же так?
– Будто боязно.
– Боязно? Чего бояться? Верно сделается, как ты думаешь.
Это было сказано таким многозначительным тоном, что молодой окольничий удивленно взглянул на свою собеседницу.
«Неужели она догадалась, что люба мне Таня?» – подумал он.
– Бог знает!
– Сказывай, родной сказывай!
– Ты прости, боярыня, что делаю не так, как у русских спокон века заведено – ни сватов не засылаю, ни свах, ни про прикруту речь вести не буду…
– Так-то лучше еще, Марк Данилович… Говори, говори! – сказала боярыня, вся пылая.
Кречет-Буйтуров не смотрел на нее.
– Просить я тебя хочу… – тянул Марк.
– Ну, ну!
– Чтоб ты выдала за меня свою падчерицу, – быстро вымолвил он, собравшись с духом.
Ответом ему было молчание.
Он поднял глаза на боярыню и изумился, испугался той перемене, какая в ней произошла. Лицо ее было мертвенно– бледно, и черты искажены. Глаза выражали испуг и страдание.
– Что с тобой, Василиса Фоминишна? – воскликнул он, приподнимаясь.
– Ничего, пройдет, – ответила она глухо, прикладывая ладони к вискам.
Через несколько минут она встала и направилась к двери.
– Василиса Фоминишна! – остановил ее боярин.
– Что?
– Ответь же, выдашь али нет за меня падчерицу?
– Нет.
– Почему же? – растерянно пробормотал Марк Данилович.
Стоявшая уже у выхода боярыня медленно приблизилась к нему.
– Почему? Потому, что она – не пара тебе, – заговорила она, задыхаясь и низко наклонясь к лицу Марка, – потому, что ты – сокол и соколиху надо в подруги тебе; потому… потому что ты люб мне, соколик мой, и не уступлю я тебя ей, глупой девчонке. Вот почему, родной ты мой, милый сокол!
Она охватила руками шею Марка, покрыла лицо его поцелуями.
– С первого раза, как увидела я тебя, полюбился ты мне… Виновата ль я, что красавцем ты таким уродился, что не похож ты на других людей? Ах, родной, золотой! Пусть и я тебе полюблюсь хоть капельку. Полюби! Полюби!
В ее голосе слышалась мольба. Она продолжала осыпать боярина поцелуями.
«Вот оно, предчувствие-то злое, к чему было!» – мелькнуло в голове боярина.
Он высвободился из объятий Василисы Фоминишны.
– Оставь, боярыня, негоже… Люба мне Татьяна Васильевна и никто боле, – сказал он.
– Неужели это – твое последнее слово?
– Последнее.
– Смилуйся, родной, милый!
Василиса Фоминишна плакала.
– Ах, боярыня! Да, нешто сердцу прикажешь? Люба мне одна падчерица твоя и никто боле, и, коли отдашь ее за меня, вечно тебе спасибо буду говорить.
– Не отдам! – вдруг, выпрямляясь, крикнула Добрая.
– Грех тебе будет.
– Хоть сотня грехов, мне все равно! Не отдам! Я мучусь, мучься и ты. Да еще мало с тебя этой муки! У! Если б силы у меня были, кажется, взяла бы да и разорвала б тебя сейчас! – говорила боярыня, и лицо ее исказилось от злобы, губы побелели, в глазах сверкал злобный пламень.
– Вот ты какая!
– Да, вот я какая! Не отдам! Слышь, пока жива – не отдам! – и с этими словами она направилась к двери и вышла, не обернувшись.
Невозможно описать, что делалось в душе Марка Даниловича. Это была какая-то смесь разнородных чувств. Но преобладала тоска, глухая, давящая.
Он еще около недели пробыл в доме боярыни Доброй… Ни разу за все это время в его комнату не вошли ни Василиса Фоминишна, ни Таня. За Таней был установлен строгий надзор, чтобы она даже мельком не заглянула в комнату боярина.
Когда он уезжал, Василиса Фоминишна вышла его проводить.
– А где боярышня? Проститься бы надо.
– Она за работой сидит. Негоже девке с молодыми парнями прощаться, – услышал он суровый ответ от боярыни.
Марк Данилович поблагодарил ее за гостеприимство и помощь, но простился холодно.
Она проводила его злым взглядом.
Выходя за ворота, боярин посмотрел на окна терема, ожидая, не мелькнет ли там златокудрая головка Тани, но там никого не было.








