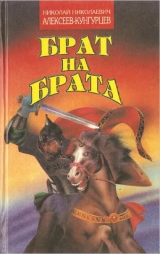
Текст книги "Брат на брата. Заморский выходец. Татарский отпрыск."
Автор книги: Николай Алексеев-Кунгурцев
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 45 (всего у книги 50 страниц)
Сперва татарскому отряду, с мурзой Алеем во главе, не встречалось особенных затруднений подвигаться вперед: сухие деревянные дома, с которых пошло начало пожара, большею частью успели уже сгореть дотла и представляли из себя груду дымившихся, полуистлевших балок и углей, начинающих покрываться тонким беловатым налетом золы.
Повсюду на пути лежали обгорелые трупы. Тут женщина, почти превратившаяся в уголь, лежала со скрещенными на груди руками, которыми прижимала к груди такой же черный уголь, как и ока, – свое дитя, там раскинулся на земле, словно улегся спать после веселого пира, молодец – огонь мало его тронул: обгорели только ноги, вероятно, он погиб более от дыма, чем от пламени; вон группа обгоревших остовов – знать» погибла целая семья. Чем дальше, тем трупы становятся многочисленнее, и препятствия растут больше и больше.
Уже татарам приходится идти между двух сплошных огненных стен. Жар до того силен, что татары стараются закрыть свои лица, кожа которых начала трескаться.
Дышать почти нечем: дым перемешался со смрадом горящего человеческого мяса и отравил воздух.
Многие из сопутников бывшего князя, менее отважные и решительные, чем он, отказываются продолжать путь далее. С мурзой Алеем остается не более десятка человек.
Навстречу татарам несутся толпы испуганного, обезумевшего люда. Некоторые, увидя перед собою отряд врагов, в страхе шарахаются в сторону и опять продолжают свой бег, повинуясь лишь одному бессознательному влечению убежать как можно дальше от ужасного пожарища; другие смотрят, выпуча глаза, на татар и лезут прямо на них, очевидно ничего не сознавая, ничего не чувствуя, кроме подавляющего ужаса.
Татары не трогали бегущих, и, напрягая все усилия, пробирались сквозь толпы, заботясь лишь о том, как бы им не разделиться, не затеряться в этом многолюдстве.
Несмотря на то, что пожар все изменил, бывший князь узнавал прежде столь знакомые ему улицы. Воспоминания теснились в его голове, и он шел, значительно опередив своих сопутников.
Погруженный в размышления, всецело занятый новым ощущением, которое недавно появилось и овладело его думой, он инстинктивно направлялся к той части города, где стоял дом Темкиных.
Путники его изнемогали от жара, задыхались от дыма, а он, словно ничего не чувствуя, быстро проходил одну за другой горящие улицы Москвы.
Постепенно татары, шедшие за ним, стали отставать и понемногу затерялись в толпе; Алей не замечал этого – он вглядывался туда, где за клубами дыма должен был находиться сад Василия Ивановича.
«Нашел! Вот он!» – радостно подумал отступник, когда, пробравшись еще сквозь один объятый огнем переулок, он увидел искомый сад – частокол, который некогда окружал сад, исчез, и на месте его торчали только обгорелые головни. Алей перешагнул через них. Деревья-великаны стояли совсем почти обнаженными от той молодой зелени, которая покрывала их часа два тому назад; лишь кое-где виднелись на них листья, свернувшиеся от жара в сухие трубочки.
Чем-то мрачным и зловещим веяло на князя от этого полуистребленного огнем сада, и казалось ему, что ветви дерев грозно машут над его головой, словно в бешенстве на то, что к ним приближается виновник их гибели.
Как не похоже это на прежнее! Бывало, входил сюда молодой князь, веселый, полный ожидания горячих ласк души-девицы, и листья приветливо шептали над ним, словно говоря: иди! спеши! Она давно уже ждет тебя на заветной скамье. И князь, трепещущий от счастья, ускорял шаг.
Тяжело вздохнул отступник и, подняв опущенную голову, взглянул на то место, где находился дом. Он был еще цел, но уже весь охвачен огнем.
Князь подошел ближе и остановился, смотря, как с треском и шипением догорало строение.
Иногда порыв ветра раздувал пламя, столб его с завыванием поднимался еще выше, чем прежде, и на князя сыпались целые снопы искр.
Вдруг до слуха князя долетел отчаянный женский вопль:
– Спасите! Спасите! Не меня, так детей!
Верно, был дик этот крик, если он не смешался с шумом, не был заглушён им и дошел до ушей мурзы Алея.
Почему же так вздрогнул отступник? Почему лицо его вдруг так побледнело, и дрожь потрясла его тело?
В этом вопле отступник узнал некогда дорогой ему голос: это кричала Марья Васильевна.
Взволновал этот крик жестокую и холодную душу мурзы Алея Бахмета. Он забыл о своем вероотступничестве, о татарском наряде и титуле мурзы. Он сознавал только одно, что там, наверху, в объятом пламенем тереме, гибнет «она», и, не задумываясь, ни о чем не размышляя, кинулся к ней на помощь.
«Как пройти? Как проникнуть в терем?» – думал бывший князь и метался вокруг пожарища.
– О, Аллах! О, Бог христианский! Благодарю тебя! – вдруг вскрикнул он.
Перед ним, невдалеке от дома, лежали две лестницы: одна длинная, другая много короче.
Взять первую и приставить к стене, было делом одной минуты. О, радость! лестница почти достигала до окна.
Мурза Алей, цепляясь, как обезьяна, полз наверх.
В своем крике Марья Васильевна, казалось, вылила последние силы. Теперь она стояла, еле держась на ногах. Дым кружил ей голову. Дети уже были без памяти. Она, обняв детей и закрыв их лицо краем своей одежды, поддерживала их слабой рукой, чтобы они не упали в пламя, а другой старалась как-нибудь защитить от жара свое лицо и, главное, глаза, на которые жар оказывал свое ужасное действие.
Пламя было уже совсем близко. Одежда Марьи Васильевны тлелась все сильнее… Вдруг в это время несчастная женщина услышала шорох за окном. Собрав силы, она взглянула в него: наверх поднимался какой-то человек. «Спасемся!» – радостная мысль мелькает в ее голове. – О Боже, благодарю Тебя! – шепчет Мария Васильевна и вглядывается в поднимающегося.
Крик ужаса исторгается из ее груди: к ним лезет татарин, она ясно различила его тюбетейку.
«О Боже! Смерть и там, и тут! Лучше уж тут умереть, чем попасться в руки басурмана. О Боже, Боже!» – в отчаянии проносится в ее голове.
А татарин между тем уже совсем близко. Голова его появилась в окне. Обезумевшая от ужаса боярыня не узнает в этом татарине Андрея Михайловича и в ужасе пятится от окна.
– Давай детей! – говорит мурза Алей глухим от волнения голосом.
Марья Васильевна смотрит на него расширившимися от страха глазами и крепче прижимает детей к своей груди. Ее не удивляет даже то, что слова эти были сказаны на чистом русском языке.
– Давай же их! – повторяет свою просьбу Алей. – Давай скорее! Лестница уже загорелась: сгорит она – спасенья нет! О, спеши же, ради Бога!
Марья Васильевна остается по-прежнему безучастной к его словам.
Тогда бывший князь вспомнил о своем татарском наряде и понял причину страха боярыни.
– Марья! – тихо говорит он, с упреком глядя на нее. – Неужели ты не узнаешь меня!
Эти слова, произнесенные знакомым голосом, заставили встрепенуться Марью Васильевну.
– Боже! Андрей! Ты ли это? – в недоумении прошептала она.
– Да, это я! Что же, перестала бояться? Давай детей! – сказал князь.
Не медля ни минуты, не колеблясь, Марья Васильевна исполнила его просьбу.
Осторожно спустившись вниз по начинающей уже гореть лестнице и положив детей на траву, Алей поднялся за Марьей Васильевной.
Неизъяснимое волнение испытывал князь, когда спускался сверху, держа в своих руках почти бесчувственную боярыню.
Что ему до того, что его платье горело, что огонь уж жег его тело! Он заботился только о том, как бы бережнее нести дорогую для него ношу.
Марья Васильевна, едва спустилась на землю, бросилась к неподвижно лежащим на земле детям.
Изнемогшая от испытанных душевных потрясений, она пыталась приподнять их с земли своею слабой рукой.
– Оставь их! Они сейчас очнутся, – сказал бывший князь и, нарвав травы, принялся растирать ею бесчувственных детей.
Результат скоро сказался. Настя, которой Алей Бахмет первой оказал помощь, скоро вздохнула и открыла глаза. Мать покрыла поцелуями ее побледневшее личико.
Потом Бахмет принялся за Васю. Мальчик пришел в себя еще скорее, чем Настя. Видя, что для детей уже не представляет опасности и что единственным последствием перенесенного пожара останется на некоторое время сильная головная боль, Бахметов, трепещущий теперь от взора голубых ясных глаз Марии Васильевны, которые поселяли в его душе какую-то смесь разнородных чувств, решил не медлить и довершить дело спасения.
– Пора в путь… Надо выбраться из Москвы, – сказал он, не глядя на Марью Васильевну и стараясь не называть ее по имени.
– Да! Да!.. Скорее отсюда прочь! – воскликнула боярыня, невольно вздрагивая при воспоминании о пережитых ужасах.
Спасенные и их спаситель отправились в дорогу. Впереди пошел бывший князь, неся на руках Васю, сильно ослабевшего, прикрыв его наготу полою своей татарской одежды, за ним шла Марья Васильевна, держа Настю.
Трудно описать, что испытывал в это время отступник. Стыд за отступничество, счастье быть опять вместе с Марьей Васильевной, боязнь, что скоро надо лишиться этого счастья, какое-то неясное ощущение тоски, не то смущения перед взором очей боярыни Ногтевой, все это перемешалось в его душе. Он был счастлив близостью некогда страстно любимой женщины, а сам боялся взглянуть на нее. Он спешил, чтобы поскорей выбраться из горящей Москвы, а сам проклинал ту быстроту, с которой они подвигались вперед: каждый шаг подвигал его все ближе к разлуке навеки с Марьей Васильевной.
А Марью Васильевну в это время тоже теснили думы.
«Андрей жив, а все считали его умершим. Бедный! Милый! Как, должно быть, он страдал все это время! Сколько зла я ему причинила, а он – вот истинный христианин! – отплатил за это добром, да каким! Жизнь подарил! Чистая душа! Прости меня, родной! Судьба разлучила нас, а не я тому виной… Что делать! Не так живи, как хочется, а как Бог велит! Теперь я люблю своего мужа, своих деток, а все словно щемит что-то сердце, как вспомню былое! Особливо теперь, когда он здесь, мой милый, мой желанный! Была бы моя воля, да коли б не грех великий и обет, данный мужу, тоже милому, дорогому мне, так, кажись, сейчас бы обвила руками шею моего прежнего дружка желанного и целовала б»…
«А изменился он сильно за это время!» – принимают мысли Марьи Васильевны иное направление.
«Просто признать трудно, а все ж красавец писаный! Так-то строен, и наряд, расшитый золотом, к лицу ему. Да!.. А отчего он одет, словно бы и татарину в пору? И тюбетейка на голове. Шапку-то, должно, забыл второпях… Голова выбрита гладко. Да и все так, как у татарина. Не лазутчиком ли он нашим среди татар пущен был, а как увидел, что, разузнавай не разузнавай, все равно горю не поможешь, потому наши с ними биться не могут, коли город родимый горит, он и прибег от басурманов в Москву, чтобы помощь свою оказать кому-нибудь, вроде как нам: у него сердце доброе!»
«Так, должно, и есть. А все ж беспременно спросить надо, а то, что за притча! Все был русский князь, а тут на! Вдруг, заместо его, бритый татарин с тюбетейкой на голове очутился!»
Как раз в это время, когда мысли боярыни Ногтевой приняли такое направление, князь, пересилив свое смущение, обернулся к ней.
– Что, Марья…по старой привычке назвал он ее одним именем и тотчас же поспешно добавил: – Васильевна, тебе, кажись, тяжело тащить девочку? Дай ее сюда – снесу обоих, – произнес отступник.
Марья Васильевна беспрекословно передала Настю в руки бывшего князя.
Для силача Бахметова подобная ноша не казалась очень обременительной, и он, посадив на одну руку девочку, на другую Васю, зашагал по-прежнему легко и свободно.
Однако теперь Марья Васильевна пошла с ним рядом, не зная, в какое смущение повергает она своего прежнего милого.
– Тебя узнать трудно, Андрей! Ты сильно изменился, – начала разговор Марья Васильевна.
– Да… Я думаю… Да ведь и было с чего! – ответил бывший князь.
Марья Васильевна поникла головой.
– Андрей! – сказала она, помолчав, – Ты во всем винишь меня и клянешь свою прежнюю любу желанную!.. Андрей? – продолжала боярыня, и в голосе ее послышались слезы. – Верь мне, милый, дорогой! Я ни в чем неповинна, видит Бог! Судьба разлучила нас.
– Марья! Теперь уж все прошло и быльем поросло. Не прежний я, не прежняя ты, а все-таки слова твои мне всю душу воротят! Как вспомню все – инда кровь закипает!.. Ах, милая, милая! Многого бы не случилось, кабы не покинула ты меня! Если бы ты знала, если бы ты знала! – волнуясь, говорил князь дрожащим голосом.
– Знаю, милый, тяжко тебе было, да и мне нешто легче! Легче, думаешь? О! какое времечко пережить пришлось! – воскликнула Марья Васильевна. – Теперь, конечно, не то, – добавила она, – двенадцать лет время не малое, все успело улечься, да и позабыться кое-что. Теперь есть муж у меня, и люблю я его, прямо говорю тебе, люблю, хоть не так, как прежде тебя, а все же крепко. И в детках Бог послал мне утеху не малую. Забылось все помаленьку… А раньше, раньше, ой, как не сладко было! И судьбу кляла, и людей! Но Он, Великий, наставил меня, и помню я Его слова: верь, люби, терпи и надейся! И, скажу тебе, Андрей, в этом вся жизнь! Отними одно слово отсель – и другие не нужны, и жизнь опостылит!.. С той поры я счастлива, Андрей! – говорила молодая женщина, и очи ее спокойно смотрели на побледневшее лицо князя-отступника.
Слова Марьи Васильевны как огнем жгли его сердце. Ему вспомнилось, что некогда юродивый, удерживая его от самоубийства, говорил то же самое. Если б князь последовал тогда совету старца! Но в нем кипела кровь, его душила злоба в, то время, и он не мог постичь всей глубины этих слов. Он не знал тогда, что нельзя жить счастливо, заменив любовь ненавистью, терпение – жестокой местью… Он не знал тогда этого! Теперь он понял все!
Теперь ему ясно, почему за все двенадцать долгих лет он напрасно стремился к счастью. Он стал богат, еще больше, чем прежде, знатен, славен и любим красавицей Зюлейкой, у него так же, как у Марьи Васильевны, были двое ангелов-утешителей, двое деток, и все же он не был счастлив. Чего-то не хватало; был призрак счастья, тень его, но, как и во всякой тени, в ней не было души, и она служила лишь отражением, пародией на то, что находилось у других в действительности.
– Я рад, Мария, что ты счастлива… Верь! Рад от души! А я… что мне сказать про себя? Я женат и любим женой, да и сам ее люблю. Есть дети: два красавца мальчика, но…, но я несчастлив, – глухо сказал отступник.
– Как? Ты тоже женат? Может ли быть? Как же я не слышала о твоей свадьбе? Или ты женился не здесь, в Москве? – засыпала его вопросами Марья Васильевна.
– Да… Я женился не здесь, – уклончиво ответил ей бывший князь, избегая встретиться с ее взглядом.
– Где же ты женился? На ком? Молодая твоя жена, красивая? – продолжала она расспросы.
– Далеко отселе… А жена моя красавица, – нехотя произнес он.
– Что же ты не говоришь, где ты женился? s Князь не отвечал.
– Не хочешь, стало быть? Ну, твое дело! – сказала Марья Васильевна, несколько обиженная этою скрытностью своего прежнего милого.
– Нет не хочу, а зачем тебе знать? Слушай! Бывает так, что лучше, когда не знаешь всего. Так и здесь… Хочешь, я отвечу, но и тебе, и мне после этого только тяжелее станет.
Марью Васильевну мучило любопытство – этот обще-женский недостаток. Ей казалось невероятным, чтобы слова князя могли бы действительно быть для нее неприятными.
– Андрей! В память прошлого, скажи! – попросила она его.
Князь решился.
– Изволь, я тебе отвечу! Я женился в Крыму! На красавице Зюлейке, дочери мурзы Сайда.
– Как? – воскликнула Марья Васильевна и даже приостановилась. – Да что же это? Да ведь она татарка, стало быть? И не нашей веры? – продолжала изумляться Марья Васильевна.
– Татарка и, как все татары, мусульманка, – ответил мурза Алей-Бахмет.
– Значит, она приняла наш закон?
– Нет… Разве ей позволили бы?
– Так как же? Нешто можно православному на басурманке жениться? Полно! Этого не бывает! Ты, чай, Андрей, просто не хочешь сказать правды и морочишь меня.
– Я тебе сказал истинную правду!
– Да ты где же живешь с нею?
– Там и живу, в Крыму.
– В Крыму? С татарами? Да ведь они убить тебя могут!
– Не убьют!
– Сюда-то ты как попал?
– Пришел с ханом.
Марья Васильевна пристально посмотрела на него.
– Андрей! Что ты говоришь: неправду или…
– Ну, что ж или…? Договаривай! – проговорил князь, начинавший испытывать раздражение.
– Али ты татарин, – медленно проговорила Марья Васильевна.
– Да! Ты сказала верно! – тихо ответил князь. Марья Васильевна остановилась как вкопанная.
– Андрей! – с укоризной и грустью произнесла она. – Ты отступил от нашей веры, ты стал врагом своей родины?
Князь, не отвечая, низко склонил голову.
– Отступник и изменник! – проговорила она, с презрением глядя на бледного как полотно князя.
– Мария! Тебе ли бросать в меня камень? Из-за тебя я погиб… О, Боже! Если б я меньше тебя любил, нешто бы я решился на это? Слушай и суди! Я в Крыму, когда бился с татарами, когда проводил бессонные, тяжелые ночи в татарской неволе, думал лишь о тебе да о том счастье, какое выпадет мне на долю, когда я свижусь с тобой. И вот я дождался конца похода! Как я был рад этому! Сколько коней я переморил, чтоб поскорей добраться до Москвы! Приехал и что же? В Москве я не нашел моей любы желанной! Боярышни Темкиной не было, была лишь княгиня Ногтева! Повернулось в груди моей сердце! Не взвидел я света, чуть руки на себя не наложил! Грызла меня тоска, и ничем не мог смирить я ее! Опостылела мне родина и вера отцов. Куда деться? Чем заглушить тоску? Что мне делать на родине? А там, в Крыму, знаю, ждет, изнывает по мне девица красная. Нет счастья здесь мне, никому я не нужен, никто меня не любит, так прости же, прощай, родимый край. Так и покинул я Москву и обратился в татарского мурзу. А думаешь, легко мне было? Не мучила совесть? О, не дай тебе Бог никогда пережить того, что я пережил. После привык и к новой родине, и к новой вере и преданным даже стал ей. Мало-помалу все позабылось: нашел я утеху в жене, в деточках милых… Настоящего счастья не бывало, а все же лучше, чем прежде. А теперь увидел тебя, и нахлынуло на меня былое! Опять тоска щемит сердце и совесть проснулась. Эх! Да что говорить!
Ничего не ответила отступнику Марья Васильевна на его пылкую речь. Да и что могла она ему ответить? Вероотступничество и измену родине, казалось ей, ничем нельзя оправдать.
Мурза Алей глянул ей прямо в очи: его встретил суровый и холодный взор молодой женщины. Он отвернулся и быстро зашагал, опережая боярыню.
Весь остаток пути они прошли молча. Вот уже горящие московские улицы остались далеко позади, перед ними тянулись чуть дымившиеся, догорая, развалины предместий.
Прошли их, и на путников повеяло прохладой. Они вздохнули с облегчением.
«Однако как же быть с боярыней? – задал себе вопрос князь. – Куда доставить ее?»
В это время навстречу им попалась ватага, татар, со смехом тянувшая под руки отчаянно отбивавшегося от них какого-то человека.
– А! Мурза Алей-Бахмет! – приветствовали князя татары. – Уже воротился из города? И с добычей, кажись? Ишь, какую красотку добыл, хоть самому хану в гарем!
– Это не пленница! Ее пальцем никто тронуть не смей! – сурово произнес мурза.
Услышав это, татары почтительно заговорили, что они не хотели оскорблять ханым, а что только подумали: не пленница ли.
– Кого это вы тащите? – спросил князь. На лицах татар появилась улыбка.
– Мы здесь его нашли, недалеко, – отвечали они. – В луже он сидел, от пожара спасался. Трус, видно, страшный, да забавный такой… И по-нашему кое-что маракует.
Между тем пленник во время этой речи внимательно вглядывался в боярыню.
Внезапно он вырвался из рук державших его татар и подбежал к Марье Васильевне.
– Матушка-боярыня! Не выдай басурманам на пагубу холопа своего верного, – завопил он.
– Боже мой! Да это никак ты, Миколка-выкрест! – воскликнула Марья Васильевна.
– Я и есть, боярыня! Я и есть! Изловили меня, окаянные! Теперь пропала моя головушка, как пить дать, коли ты меня, матушка-боярыня, не выручишь! продолжал вопить Миколка.
– Что, это твой человек? – спросил мурза Алей боярыню.
– Да, мой… При муже он был, – ответила она и обратилась к Миколке с вопросом: – Где же муж? Не погиб ли, Боже упаси! – спросила она с тревогой.
– Не! Боярин в Кремле, вместе с князем Воротынским, – успокоил боярыню Миколка.
– В Кремле? – вмешался в разговор князь. – Так, пожалуй, к нему боярыню доставить можно?
– Никак эфтаго нельзя сделать, – решительно произнес Миколка. – Потому что те, кто заперлись в нем, к себе никого не впущают, потому, как навалит народа тьма-тьмущая, так тогда никому не спастись – ни им, ни тем.
– Так как же быть? Куда же доставить боярыню? – недоумевал мурза.
– Мне бы лучше всего в вотчину мою попасть, – сказала Марья Васильевна.
– А где твоя вотчина?
– Недалече от Серпухова. Десятка верст от него нет.
– Ладно… Устрою. Слушай ты, как тебя, Миколка, что ль? – обратился он к пленнику.
– Да, меня Миколаем звать, – ответил тот.
– Так вот что… Я тебя освобожу из полона. Миколка радостно вскрикнул.
– Да подожди радоваться, наперед дослушай… Я тебя освобожу с тем, чтобы ты доставил Марью Васильевну с детками целой и невредимой… А коли что случится с нею, узнаю, нарочно из Крыма приду тебя наказать. Слышишь? – добавил князь грозно.
– Слышу! – печально ответил Миколка, для которого перспектива пути по заполненной татарами стране далеко не казалась привлекательной.
– А чтоб безопаснее всем вам, было, дам в охрану воинов своих отряд, которые проводят вас до вотчины. Уж ты прости, боярыня, что не провожаю сам: к хану нужно, – сказал Алей-Бахмет Марье Васильевне, по-видимому, спокойно, между тем как сердце его болезненно сжималось.
– Я уж и так тебе должна спасибо сказать большое: без тебя бы ни мне, ни детушкам не увидеть света белого! – ответила Марья Васильевна, сердце которой, несмотря на ее чувства, возбужденные его исповедью, было все-таки полно благодарности к князю.
– Есть за что благодарить! – ответил мурза и отвернулся, скрывая смущение, как, будто для того, чтобы отдать приказание татарам привести лошадей для Марьи Васильевны с детьми и для Миколки, а также вытребовать отряд воинов для охраны.
Пока исполнялось это приказание, Бахметов, или мурза Бахмет, стоял против боярыни, не сводя с нее глаз. Он словно хотел укрепить в своей памяти дорогие черты некогда любимой женщины.
Марья Васильевна, напротив, смотрела в сторону: татарский наряд ее прежнего милого напоминал ей об его отступничестве, и в ее душе снова поднималось отвращение к вероотступнику, пересиливая чувство благодарности и заглушая прежнюю привязанность.
Наконец она подняла на бывшего князя свои очи, и столько, грусти прочла она в его глазах, что ей стало его жаль, а совесть в глубине души шепнула ей, что сама боярыня, хотя против своей воли, но виновата в его измене родине и вероотступничестве.
– Что же ты скажешь мне, Марья, на прощанье? – тихо промолвил Бахметов.
– Что сказать тебе? Мне жаль тебя! – ответила она с чувством.
– Да! Жалей обо мне, милая, и молись за мою грешную душу! Если б ты знала, как тяжко мне, Марья! – воскликнул князь.
Между тем привели коней, и приехал небольшой отряд для охраны.
Бывший князь сам посадил Марью Васильевну на седло. С нею же сел и Вася, уже значительно оправившийся и теперь восхищавшийся, что ему придется править конем.
Настя была сдана на попечение Миколки.
– Ну, с Богом, – произнес князь дрогнувшим голосом, когда все были готовы к пути.
– Прощай, Андрей Михайлович! Спасибо тебе за твое добро! – сказала Марья Васильевна, протягивая ему руку.
– Прощай, дорогая! Прощай навеки! – грустно воскликнул князь.
– Кто знает? Все в руках Божьих! Прощай же и будь счастлив!
– Мне ли быть счастливым?
– Дети мои будут молиться за тебя, и Бог тебе поможет! Отряд тронулся.
Застучали копыта коней, поднялось облако пыли, и скоро всадники уже далеко скакали от смотревшего вслед им князя. Крупные слезы сверкнули в глазах отступника. Он не смахнул их и дал им волю скатиться на свой расшитый золотом татарский наряд.








