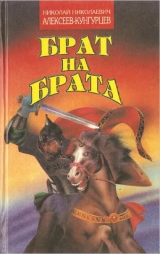
Текст книги "Брат на брата. Заморский выходец. Татарский отпрыск."
Автор книги: Николай Алексеев-Кунгурцев
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 28 (всего у книги 50 страниц)
– Что долго не шел, Тихонушка? Я ждала, ждала.
– Прости, голубка. Заговорился тут с приятелем, – ответил Анне Григорьевне Тихон Степанович. – Скучала?
– Еще бы нет. Да, признаться, мне теперь часто скучно бывает.
– Давно ли?
– С той поры, как в Углич перебрались. Все я жду словно беды какой.
– Э, полно! Чем в Угличе хуже Москвы?
– Ой, хуже! Там нас в саду кто заприметить мог? А не в саду, так еще лучше, в светелке моей, куда тебя тайком Марфуша проводила. А здесь, глянь – место открытое, чуть не за версту нас видно. В дом же тебе пробираться и думать нечего – тесно живем теперь, в каждом углу по холопу ютится. Пока еще ничего, а как зима придет…
– До зимы еще далеко…
– Далеко, далеко, а все подумывать надо. Знаешь, надо нам как-нибудь иначе устроиться. Сдается мне, что старый Семен что-то заприметил,
– Да неужели? – с беспокойством промолвил Топорок.
– Да… Все он за Марфушей присматривает. Чуть та со двора, он сейчас: «Ты куда?»
– Может, он так.
– Не таковский он, чтобы так.
– Гм… Чтой-то, слышишь, никак сполох бьют?
– Да, да…
– Должно, пожар где-нибудь.
Они замолчали и обернулись в ту сторону, откуда несся набат.
– Здорово трезвонят, надо будет потом узнать, в чем дело… – сказал Тихон Степанович, оборачиваясь, и не договорил. – Смотри! Идет! – почти крикнул он.
Анна Григорьевна вздрогнула и тоже обернулась: в нескольких саженях от них шел Лука Филиппович с Семеном и Прошкой. Старик не кричал, не бранился, он молча смотрел на них, но этот взгляд был таков, что боярыня в ужасе прижалась к Тихону Степановичу, у которого холодная дрожь пробегала по телу.
Они словно оцепенели и не двигались.
Стрешнев подошел к ним, не прибавляя шага.
– Здравствуй, Тихон Степанович. Что ж, здравствовать– ся не хочешь? – сказал он.
– Здравствуй, Лука Филиппович, – пробормотал Топо– рок.
– Ну, что? Понравилась ли моя женка? Да, да, она хороша… И лицом смазлива, и телом крупичата… Да, да… А только змея она подлая! Змея! – крикнул старик, вдруг затрясшись всем телом от гнева. – Я ли ее не ласкал, я ли ее не дарил? – продолжал он, – как собака, ей в очи смотрел, всякую прихоть ее исполнял. И на! Обманула меня, опозорила… Честь моя где, честь? Отдай мне ее, проклятая!
Он схватил боярыню за плечо и рванул к себе. Топорок загородил ее.
– Убей прежде меня, Лука Филиппович. Пока жив, в обиду не дам, – сказал молодой боярин.
– По гроб, стало быть, полюбилась? – насмешливо спросил Стрешнев.
– Да, по гроб, – ответил Тихон Степанович
– Можно ль голубков таких разлучать? Вместе вам надо и в могилу идти… Эй, Прошка! Скрути их!
Холоп не заставил повторять приказа. Взяв от Семена веревки, он подошел к Топорку. Тот вздумал было с ним бороться – и через минуту лежал связанным на земле – с Прошкой бороться было под силу разве медведю.
Перед боярыней холоп остановился в нерешимости. Анна Григорьевна глядела обезумевшими от ужаса глазами и тряслась, как в лихорадке. Во все время она не могла вымолвить ни слова.
– Чего стал? Вяжи ее! – послышался приказ Луки Филиппович, и Прошка «скрутил» боярыню.
– Рой яму! – приказал потом боярин.
Земля была рыхлая: заступ Прошки выбрасывал целые глыбы. Стрешнев стоял над ним и смотрел, как угбулялась яма.
– Довольно, – сказал он, когда была вырыта яма аршина в два. – Клади их теперь туда рядком.
– Как, то-ись? – недоумевая, спросил Прошка.
– А так – возьми, да и положь. Ну-ну, поворачивайся!
– Боярин! Смилуйся! – промолвил холоп.
– Лука Филиппович! Не бери греха на душу! – присоединился к его просьбам Семен.
– Молчать! – свирепо крикнул боярин. – Делай, как приказываю!
Прошка, чуть не плача, опустил в яму сперва Тихона Степановича, потом рядом с ним боярыню.
– Лука!.. Ради Христа!.. Пощади!., простонала она.
Стрешнев склонился над ямой.
– А ты щадила меня! А? Подлая! Проклятая! Прошка, заваливай! Что, Тихон Степанович, любо с милой своей лежать?
И, встретив полный ужаса взгляд молодого боярина, старик расхохотался, а потом еще раз крикнул Прошке:
– Заваливай!
Холоп копнул раз-другой и отбросил заступ.
– Хоть зарежь, не стану! – воскликнул он.
– Трус! – презрительно промолвил боярин и сам схватил заступ.
Дикий вопль вырвался из могилы. Лука Филиппович не обратил на него внимания. С ним делалось что-то необыкновенное. Он скрежетал зубами, плевался от ярости. На его губах выступила пена. Семен и Прошка с ужасом смотрели на него. Глыба за глыбой падала в могилу и, по мере того как слой земли утолщался, затихали вопли. Настал момент, когда вопли совсем смолкли; в гробовой тишине слышался только лязг заступа о землю и бормотанье боярина, да из города доносились беспорядочные звуки набата.
Яма заполнилась вровень с землей. Лука Филиппович бросил заступ, принялся утаптывать землю.
Вдруг он остановился и неистово расхохотался.
– Конечно! Нет жены, нет змеи! Ха-ха-ха!
Холопы стояли бледные как полотно. А Стрешнев продолжал хохотать. Лицо его багровело, глаза наливались кровью.
– Нет жены! Нет змеи! – почти хрипел он.
Вдруг его голос оборвался, и он как сноп упал на землю. Прошка и Семен подбежали к нему. Боярин лежал, закатив гдаза, и хрипел.
Прошка приподнял его и стащил с могилы.
– Неси в дом живей! – сказал Семен.
– Шалишь! Наперед надо их отрыть, – ответил холоп и принялся могучими ударами заступа раскидывать землю. Когда заживо погребенных вынули из могилы, Анна Григорьевна была уже мертва; Тихон Степанович был без чувств, но его удалось вернуть к жизни.
Стрешнев скончался в то время, когда Прошка нес его к дому.
Несколько дней спустя угличане с удивлением оглядывались на направлявшегося к городским воротам человека, молодого лицом, но с совершенно седыми волосами. Человек этот был Тихон Степанович покидавший Углич.
XX. ДРУЖЕСКАЯ УСЛУГА– Горе это или радость? – задал себе вопрос Борис Федорович Годунов, когда выслушал известие о погибели царевича Димитрия. – Вернее всего – горе пополам с радостью, – решил он.
Надо было так действовать, чтобы горе совсем соскочило прочь, и осталась одна радость – радость человека, увидевшего, что преграда, занимавшая его путь, сама собою пала. Приходилось действовать умело – малейший ложный шаг, и вышло бы обратное: радость была бы побеждена горем. Борис Федорович решился на смелый поступок: он захотел заставить самих своих врагов послужить ему на благо.
– Князь Василий Иванович! – сказал он Шуйскому, затворившись наедине с ним. – Слышал, чай, что в Угличе совершилось?
– Злое дело совершилось, Борис Федорович, злое дело! – промолвил Шуйский.
– Злое дело? Какое?
– Убили царевича, дите малое, извели царский корень.
– Убили? Кто убил? – спокойно спрашивал Годунов.
Молния блеснула в его очах и потухла.
– Вестимо, тем, кому польза от этого есть.
Скрытый и хитрый Василий Иванович говорил теперь с несвойственной ему прямотою: Борис Федорович понял, что враги его уже подняли головы.
– А кому польза может быть от этого?
– Мало ль кому, хе-хе!
– Так скажи, к примеру?
Шуйский молчал,
– Что ж молчишь? Сдается мне, что польза от погибели царевича одним родовитым боярам.
– Ой, нет!
– Да, да, – метят они на престол московский попасть, коли – чего Боже упаси – царь наш батюшка окончит дни свои. Да, да, никому больше. И царь так думает. Когда до него молва дошла, будто царевич убит рукой злодейской, он сказать мне изволил: «Коли братец мой взаправду убит, так никто больше это не учинил, как бояре лучших родов, Бо– рисушка!» А потом царь грозился, что, если и впрямь царевич убит, то на всех он бояр родовитых опалится… Особливо – напрямик тебе скажу – на вас, на Шуйских, больше всего он думает.
Василий Иванович всполошился. Он отлично понимал, что в словах Годунова нет и крупинки истины, но он понимал также и то, что Борис Федорович не станет слова зря бросать, что, значит, он сумеет внушить безвольному Федору Иоанновичу то мнение, какое сейчас высказал. Князь Василий даже побледнел.
– Почему ж на нас? Мы всегда были верными государевыми слугами.
– Уж не знаю… Наговорил, может, кто. У Шуйских ворогов много. Только я и друг вам…
«Чтобы ты провалился со своим дружеством!» – подумал князь.
А Борис продолжал:
– Вот, ты покосился сейчас на меня – думаешь: ишь, врет-то! А я правду говорю истинную. Друг я Шуйским и хочу по дружеству услугу оказать немалую. Коли пошлю я в Углич кого-нибудь из худородных, они такого наплетут, что не сносить вам голов. А я вам зла не хочу. В Углич ты поедешь,
Шуйский понял, что Годунов хочет им зажать рты, поэтому попробовал увернуться от поручения.
– Есть и старше, и родовитей меня. Из них кого-нибудь надо послать.
– Нет, нет, ты должен ехать. Я уж и царю сказал. Под опалу, чай, не хочешь попасть?
– Кто хочет!
– То-то. Ты поедешь, все это разберешь хорошенько, сыск добрый учинишь… Ну, и, вестимо, никакого убийства не окажется – молва это пустая, не боле. И все ладно будет, и никто под гнев царскии не подпадет, только ласку от него увидит. Ну, скажи теперь по совести, друг я али нет Шуйским?
– Друг, друг, – пробормотал Шуйский.
Выходя из комнаты, Шуйский кусал губы со злости: волей-неволей приходилось пред всею Русью открыто сказать, что Борис Федорович не повинен в убиении царевича, что все это – клевета одна, что никакого убиение не было.
XXI. СБОРЫШли крымцы. Весть об этом молнией пронеслась по Руси и заставила равно тревожно забиться сердца всех – от беднейшего крестьянина до самого правителя Бориса Федоровича. Татары нагрянули неожиданно. Главное московское войско находилось в Новгороде и Пскове; против ханских воинов можно было выставить только сторожевое войско, находившееся под начальством князей Мстиславского, Трубецких, Голицына и других воевод в Серпухове, Калуге и иных местностях, наиболее страдавших от набегов татар. 26-го июня пришла весть, что полтораста тысяч крымцев идут к Туле. От этой вести все пришли в движение. Стали думать о защите Москвы, распределяли по воеводам защиту ее частей. 28 июня стало известно, что неприятель направляется прямо на Москву. Сторожевым войскам приказано было стягиваться к столице. Москву укрепляли как умели и могли. 3 июля хан Казы-Гирей перешел Оку, сразился с передовым отрядом русского войска и разбил его наголову. Помешать ему прийти под стены Москвы ничто не могло. Бой должен был произойти вблизи столицы.
Готовились к битве. Пришла пора боярам нести службу государеву – прийти на помощь ему «конно, людно и оружно».
Марк Данилович почти рад был нашествию хана: оно давало ему возможность встряхнуться от той апатии, в которую была погружена его душа. Ему все опостылело. Смысл жизни был утрачен. Он продолжал прежнюю деятельность, но уже не вносил в свое дело священного огня. И оно ему надоело, как надоела и жизнь. А между тем он чего-то еще ждал, на что-то надеялся в тайнике души своей.
До него дошли слухи, что боярыня Василиса Фоминишна Добрая «ума лишилась», что всем правит теперь боярышня Татьяна Васильевна, говоря о которой, крестьяне непременно добавляли эпитет «андел». Ему говорили, что жить крестьянам под началом у Татьяны Васильевны очень хорошо. Слушая, он испытывал тихую грусть и тихую радость: его грусть была о потерянном счастье, его радостью было сознание, что добрые семена, кинутые им в ее душу, дали обильный плод.
Было раннее утро, когда Марк Данилович выезжал из вотчины в сопровождении холопов-ратников. Сумрачны были холопы, у многих слезы сверкали на глазах, когда они оглядывались на бежавшую за ними, голосившую толпу женщин и детей.
«Придется ль еще увидеть женку с ребятами?» – думалось не одному из них.
Только боярин их был весел – куда веселее, чем всегда. Казалось, он едет на пир, а не на битву.
– Боярин-батюшка! Обожди малость! – послышался крик издалека в поле.
Все оглянулись. Бежал какой-то человек и махал рукою, чтобы остановились. Его подождали. Он прямо подбежал к Кречет-Буйтурову.
– Батюшка Марк Данилович! Я к твоей милости, – сказал он, переведя дух. – Чай, не признаешь меня?
Боярин вглядывался в его лицо. Стоявший перед ним малый в изорванной одежде, грязный и лохматый, с опухшим от пьянства лицом, был ему, казалось, совершенно незнаком.
– Не знаю, братец, кто ты таков? – промолвил он.
– А не видал ты никогда у дядюшки у своего, Степана Степановича, Фильку-холопа?
– Как же не видать! Много раз видал. Так неужели это – ты, Филька? Да что ж это с тобой сделалось? Такой был ладный малый, и вот теперь…
Филька тяжело вздохнул и потупился.
– Совесть заела.
– Совесть?
– Да, только зеленым вином душу и отвожу. Хвачу это чарку-друтую, ну, будто и полегчает. Веришь ли, от людей отбился, одичал совсем, потому горит вот тут, – ударил он себя по груди, – не могу в глаза людям взглянуть.
– Да что же ты натворил такое?
– Страшное дело сотворил: господина своего предал. Ведь это я тогда впустил Ильюшку с разбойниками во двор… Я, стало быть, повинен в черной погибели боярышни… и Анфисы Захаровны. И иных прочих… Ох, и попадись мне теперь Ильюшка! Сорвал бы я на нем свою злобу. Где я его ни искал – сгинул, проклятый, как в воду канул!
Марк Данилович молча слушал его.
– Да, после такого, должно, не сладко тебе житье! – промолвил он потом. – А чего он меня-то тебе надо?
– Окажи милость, боярин: дай мне коня да саблю либо топор, либо хоть дубину – хочу загладить грехи свои, сложить свою голову за царя, за Русь-матушку.
– Что ж, доброе дело! – сказал Кречет-Буйтуров. – У нас конь один под поклажей, скиньте-ка ее да дайте коня ему, – приказал он холопам.
Через минуту Филька сидел уже на коне и, ударяя босыми пятками в его бока и помахивая топором, данным ему холопами, приговаривал:
– Ну уж и поработаю я на славу Руси-матушки!
XXII. БОЙВолнуется туман. Белые тени плывут в воздухе и тают где-то там в выси, у позлащенного первым солнечным лучом облачка. Край солнца выглянул и дал весть о себе снопом ярких лучей. Засияли кресты московских церквей, озарились колокольни. Множество черных точек видно на куполах, на кровлях домов. Издали кажется, что мириады муравьев заполнили город. И на стенах, на башнях, на каждом возвышении виднеются эти муравьи. Это московские граждане собираются смотреть на битву, которая через час-другой, а может быть, через минуту, запылает у стен Москвы.
Ратные люди уже давно готовы: в двух верстах от Москвы, в/подвижном дощатом городке они всю ночь стояли под знаменами. Тут и душа войска – Годунов Борис Федорович.
Ему царь вверил спасение отечества, как привык вверять всегда. Инок душою, Федор не взял меча в свои слабые руки; он с супругою и духовником уединился для молитвы.
Как в царской думе, так и здесь, Годунов сумел оказаться на высоте задачи. Он не был рожден полководцем, но мог быть им, как мог быть всем. Во избежании могущей произойти сумятицы он заранее определил, какому полку ударить из укрепления на какую часть вражеского войска, он поднял дух ратников, клянясь сам сложить голову на поле брани и увещевая их не жалеть своей жизни для спасения отчизны. И в ответ на его клятву ратники клялись ему. Главного начальства на время боя он не взял на себя – он предоставил его тому, кого считал опытнее себя в этом деле – князю Мстиславскому.
Едва рассвело, на Поклонной горе появились татарские всадники, сперва одиночные, потом густым массами, и остановились там. Казы-Гирей обозревал с высоты московский стан.
Несколько минут прошло в напряженной, давящей тишине. Вдруг застонала земля от топота тысяч конских ног – масса крымской конницы, пуская стрелы, размахивая шашками, с дикими криками ринулась с горы на равнину. Равнина была тиха и безлюдна. Казалось, крымцам не с кем будет биться. Только за стенами деревянного городка поблескивали стальные шеломы.
Лавина коней и людей с быстротой вихря достигла середины расстояния, отделявшего гору от походного городка, и мчалась дальше.
И вдруг снова дрогнула земля: сотни пушек из воинского стана, с кремлевских стен, из обращенных в крепости монастырей Даниловского, Новоспасского, Симоновского прогремели страшное приветствие, и чугунный град прорезал ряды татар. И в это же время распахнулись ворота городка, и отборные, дружины, литовская и немецкая, высыпали оттуда.
Живая лавина, осыпаемая ядрами, продолжала мчаться, но уже впереди нее была скала. И она налетела на скалу. Залпы ружейных выстрелов слились с громом пушек – это была музыка боя; проклятия и стоны были его пением.
Московцы и татары стреляли в упор, рубились холодным оружием, душили, грызли друг друга. Здесь не было места милосердию, неизвестна была пощада. Раненые, поверженные на землю, поднимались вновь и, стоя на колеблющихся ногах, ослабевающей рукой еще хотели разить врага.
А с горы спускались все новые толпы крымцев, из городка выступали все новые дружины.
Горожане со стен и кровлей с напряжением следили за ходом битвы. Не было сердца, которое не билось бы в это время страхом и надеждою; не было татарского сердца, кроме одного: это было сердце царя Федора.
Когда в комнату царя вошел боярин Григорий Годунов, царь встал и со всего терема смотрел на битву. Григорий плакал от волнения. Федор заметил его слезы и промолвил спокойно:
– На завтра, должно, царь крымский повернет восвояси.
Марку Даниловичу пришлось биться в самом центре битвы. В бою ему приходилось быть еще впервые. Он сам удивился тому, сколько зверства таится в натуре человека. Разве не зверским было то чувство, которое испытывал он, да, вероятно, и другие бойцы – чувство неутолимой жажды крови – крови человеческой?
Вид крови опьяняет – это на себе испытал Марк.
Холопы его дрались бок о бок с ним, а в их первых рядах – Филька. Он дрался лихо, и его топор раскроил не одну вражескую башку. Вдруг он повернулся к боярину и, кивнув головой в сторону, крикнул:
– Глянь-ка, там-то кто!
Марк Данилович оглянулся.
– Илья Лихой!
– Он самый. Ишь, леший, саблей-то как размахивает! А только ему несдобровать – татарва его уберет. Так ему и надо, проклятому!
И он отвернулся было, но через минуту опять посмотрел в сторону Ильи.
– Гм… Трое их, чертей, на него одного насело. Это не рука… Хоша так ему и надо, что говорить. Эх, сейчас зарубит его этот!
И вдруг он круто повернул коня и бросился на выручку Илье.
– Вы, бритые, что ж это на одного трое напали? Вот я вас! – рявкнул он и оглушил одного обухом топора. Татарин Кувырнулся с лошади.
– Филька! – с удивлением воскликнул Илья Лихой.
– Молчи знай. Пусть лучше я не знаю, кто ты такой, потому зарок я дал: как встречусь с Ильей – проломить ему башку.
– За что?
– За то, что он душу мою сгубил. Ну, ладно, ладно, не рас– тобаривай… Гляди лучше в оба! Вот, и недоглядел, экий дурень!
Последнее восклицание сорвалось у него при виде того, как татарин всадил клинок шашки в грудь Лихого. Илья уже падал с седла. Филька отбивался и в то же время поддерживал его.
– Чего валишься? Крепись!
– Помираю… – пролепетал Лихой.
– Эх, как же это ты оплошал! – с досадой проговорил Филька.
– Лучше… Пора… Прости, Филипп!
– Что с тобой поделать! Коли помираешь, как не простить? – пробормотал тот и заметил, что он поддерживает уже не живого человека, а труп.
Он выпустил тело Ильи. Мертвец тяжело рухнул с седла. Филипп очень удивился, что ему что-то заволакивает зрение.
– Никак слезы?! Этого еще не хватало! – с досадой промолвил он. – Поехать лучше рассказать про Илью Марку Даниловичу. Где боярин? – спросил он холопей, возвратившись на прежнее место.
– Эх, боярин наш, баярин! – печально ответили ему. – Вон его потащили где попросторнее.
– Зарубили? – с испугом спросил Филька.
– Почитай, до смерти, – было ему ответом.
– Что ж это я уцелел, – почти с гневом вскричал Филька. – Надо бы и мне ту…
Он не договорил: крымец раскроил ему череп.
А бой продолжался с прежним ожесточением. Только вечер да утомленье бойцов положили ему конец. Битва осталась нерешенной.
XXIII. ПОСЛЕДНЕЕ СЧАСТЬЕКогда окончилась сеча, москвичи толпами устремились в ратный стан. Одни из них несли пищу и питье утомленным воинам, другие бежали разузнать об участи бойцов-родственников.
Толпа людей, по-видимому простолюдинов, окружала лежавшего на земле человека. Девушка подошла к ним.
– Раненый? – спросила она.
– Да. Отходит, – печально ответили ей.
Она пробралась сквозь толпу. Ее и без того бледное личико стало мертвенно-бледным, когда она взглянула на умирающего; легкий крик сорвался с губ. Умирающий обратил на нее мутный взгляд.
– Таня, – тихо прошептал он. – Дай руку… Прости…
– Простила, родной! – ответила боярышня.
Светлое выражение легло на лицо умирающего.
– Счастлив, ох, счастлив… так я, Танюша… – шептал Марк. – Благодарю… Тебя, Господи!
Он закрыл глаза и вытянулся.
– Помер! Царство ему небесное!
Таня крестилась и тихо плакала. Еще долго сидела она над ним и целовала его холодные уста, на которых замерла счастливая улыбка.
Царь, сказав Григорию Годунову, что хан до завтра уйдет восвояси, высказал почти пророческое предвидение: действительно, хан ушел в ночь, следующую за битвой, напутанный вестями о приближении главной московской рати.
Москва ликовала. Воеводы были щедро награждены царем, а особенно Борис Федорович. Царь положительно осыпал его милостями: он надел на него шубу со своего плеча, драгоценную цепь, пожаловал кубок, добытый Димитрием Донским в Куликовской битве, три города в наследственное владение, даровал ему титул «слуги государева». Годунов благодарил царя, но он не был весел – его счастье было отравлено: до него уже дошли слухи, что в народе распускается молва, будто он, Борис, сам зазвал хана на Русь, чтобы заглушить толки об убиении царевича.
«Когда ж они замолкнут? Как вырвать мне их змеиное жало?» – думал Борис Федорович, и гнев клокотал в его груди.








