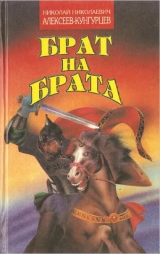
Текст книги "Брат на брата. Заморский выходец. Татарский отпрыск."
Автор книги: Николай Алексеев-Кунгурцев
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 42 (всего у книги 50 страниц)
Седьмого августа 1560 года погода была пасмурная. Со всех сторон над Москвою нависли тучи и грозили дождем, но дождь не шел, а небо хмурилось все больше и больше. «Ох, быть дождю!» – говорили московские граждане, глядя на хмурое небо, и все-таки, несмотря на это, редкий из них остался дома. И стар, и мал, все стремились к царским палатам. Тихо стояла толпа, собравшаяся перед дворцом. На лицах всех видна тревога и грусть. Казалось, свинцовое небо давило их своею тяжестью и заставляло тоскливо биться их сердца.
Нет, не погода, грозившая дождем, смущала народ: пойдет дождь и мочить-то ему будет нечего, кроме сермяг да рубах порванных, нет, иное, должно быть, что-нибудь поважнее, а к бурям и ненастьям, что к морозам, русскому человеку не привыкать стать. Что-то больно часто глаза столпившихся поглядывают на окна царского терема – там надо искать причину овладевшей народом кручинушки.
В первых рядах толпы стоят уже знакомые нам неразлучные «Микитка» и «дядя Хведот».
– Что, паря, – тихо говорит своему товарищу Федот, одетый все в ту же неизменную синюю рубашку, только еще больше прорванную на локтях, – должно, неладно творится в палатах: чтой-то больно тихо.
– Н-да! – пробурчал Никита, – то есть ничегошеньки не слыхать! Ровно там вымерли все… Спаси Бог! и впрямь неладно, кажись!
– Неужели Господь попустит такому делу совершиться?
– Не скажи этого! На все Его воля, не нам-ста толковать об эфтом.
– Знамо дело, не нам!.. Эфто ты правильно молвил, а токмо все ж как не дивиться: была царица-матушка молода, здорова, взглянешь на нее, так глаз отвести не хочется: кровь с молоком, и вдруг на! Кончается, бают! Что твоя сказка, право!
– Какая сказка, коли мне сам истопник дворцовый намедни говорил, что царица больно плоха. Лекарей одних, немецких, бает, что согнано, так страсти, – говорил Никита.
– Ох, уморят ее, болезную, басурмане поганые! Начнут зельями всякими пичкать, – произнес Федот, по-видимому, большой противник врачебного искусства и немецких лекарей, в особенности.
– Нет, лекаря что! Они хотя и немчины, а все, значит, от Бога сподоблены врачевать недуги, и следствия их и снадобья всякие, окромя пользы, ничего не принесут. Тут иное бают… Слышал, чай? Вот, эфто так, взаправду, царицу уморить может…
– А что такое? Ничего не слышал, – ответил Федот.
– Да, бают, что… – тут Никита наклонился к уху своего товарища и что-то тихо сказал.
– С нами крестная сила! Может ли быть? – воскликнул пораженный Федот.
– Стало быть, может, коли толкуют.
– Гмм! Да кому же эфто надо, чтоб такого ангела Божия, как царица-матушка…
– Шшш! – прервал его Никита, закрывая рукою рот «дяди Хведота» и оглядываясь по сторонам, – нишкни! Аль хочешь, чтоб тебя на дыбу потащили, что среди народа такое орешь!
– Да что же… Да я ничего. К тому только, что негоже, а оно, конечно…, того, – и Федот, смущаясь, не знал, что говорить и как оправдаться в своей неосторожности перед товарищем.
Но, видно, Никите самому хотелось поделиться с «дядей Хведотом» тем, что знал, так как он, наклонясь ближе к уху его, тихо продолжал:
– Известно кому! Тем, кто около царя сидит да всеми делами заправляет: попу да Адашеву!
– Вот те и на! Да может ли быть, чтоб такие мудрые государевы советники и вдруг эфтакое дело замыслили… Не верится!
– Да и мне самому тоже, признаться… Так, думать надо, пустое болтают.
– Знамо дело! – уверенным тоном ответил Федот. Таким образом, завистниками священника Сильвестра и
Алексея Адашева уже распространялись исподволь слухи в народе о том, что эти мужи «извели» царицу. Но народ видел в этих двух царских любимцах только благодетельных для себя советников Иоанна и не верил слухам. К сожалению, нельзя того же сказать о царе: он не остался глухим к шепоту зависти, и, на радость завистникам, скоро злоба на бывших любимцев змейкой стала шевелиться в душе Иоанна.
В то время, как толпы народа теснились перед окном и с тревогой смотрели на окна царских палат, внутри дворца все, начиная с царя и кончая последним поваренком на кухне, были исполнены скорби и печали: царица Анастасия Романовна была безнадежна – это только что сообщили лекари царю. Иоанн, стоя на коленях у изголовья постели, не спускал глаз с бледного и исхудалого лица умиравшей жены и тихо шептал молитвы: люди отказались противиться болезни – она была сильнее их – оставалось только молить Бога, чтобы Он совершил чудо, исцелил безнадежно больную.
Анастасия Романовна лежала на спине, закрыв глаза. Нос ее заострился, вокруг глубоко впавших глаз протянулись черные полосы. Бледная, с закрытыми глазами – она уже и теперь казалась мертвой, только руки, протянувшиеся вдоль тела, изредка судорожно сжимались да грудь медленно и неровно поднималась.
Вокруг постели безмолвно, с бледными лицами, толпились приближенные царя и царицы. Лекари переговаривались друг с другом по-немецки, пытаясь найти еще какое-нибудь не испытанное ими средство. Но напрасно ломали они головы: лекарства против смерти не было в их распоряжении.
Болезнь с самого начала была тяжкой, испуг во время московского пожара еще больше усилил ее, и теперь спасения не было.
Больная сделала движение. Все встрепенулись: она чего-то хотела.
– Что тебе, родная? – прерывающимся от волнения голосом спросил Иоанн.
– Святых Тайн… причаститься желаю, – слабым голосом, с долгими передышками, произнесла царица.
Царь немедля исполнил волю царицы. Анастасия Романовна исповедалась и приобщилась.
Глубокая ли вера, с которой больная приняла Святые Дары, или мысли о том, что ею исполнен последний долг, проносимый на земле христианами, подкрепили царицу, только она лежала, открыв глаза, со спокойным и просветленным лицом.
При виде перемены, Иоанн начал думать, что Бог внял его молитве и вернет ее к жизни.
– Что, милый, тоскуешь? – медленно проговорила царица, смотря на Иоанна.
– Еще бы не тосковать! Что я буду делать без тебя, сирый, горемычный! – горько воскликнул Иоанн.
– Божья… воля!
– Бог возвратит тебя к жизни на радость мне!
– Нет… родной! Зачем… себя напрасно тешить? Не поправиться мне… Чудо! Сегодня уйду на суд… Божий!
– Анастасия! Не молви такого! Ты словно сердце мне на части рвешь!
– Зачем печалиться? «Там» свидимся. Все «там» будут… Я сегодня… другие позже. Помни только, – продолжала царица, и голос ее слегка окреп, – помни только, что… на тебе лежат тяготы великие! И за себя… и за народ твой… за… все… ответ дашь Господу. Знаю, не бабье… дело учить мужа… уму-разуму…, но я теперь уж… почти стою перед лицом… Всевышнего… и могу сказать на прощание… Иван! – возвысила она, насколько могла, голос – Запомни, что скажу… Велик ты можешь быть…, и славен, только…, только не дай овладеть… тобой духу тьмы… Он, говорю тебе, сторожит тебя! Не забывай Бога, слушайся только… Его да совести, а не советников льстивых… и благо ты будет! А ослабнешь… Ох, помыслить страшно…, как далеко ты уйдешь… от лица Божия… Помни, Иван, и послушайся! Тяжко… опять… стало…
И, обессиленная долгою речью, царица закрыла глаза.
– Исполню, как ты повелела, – тихо ответил ей Иоанн. Больная открыла глаза, благодарно взглянула на царя, – очевидно, уже язык не повиновался ей, и снова смежила веки. Больше она уже их не открывала.
И прежде бледное лицо больной стало еще бледнее… Грудь поднималась все реже и реже.
– Она кончается, – произнес лекарь, тихо взяв ее руку.
– Читайте отходную! – приказал Иоанн. Раздалось протяжное чтение священного писания.
В комнате было так тихо, что слышно было слабое клокотание в груди больной.
Глубокий вздох еще раз поднял грудь больной…, и все было кончено! Первая царица русская Анастасия Романовна преставилась.
Крики и плач наполнили палату.
Иоанн, припав к еще не остывшему трупу, целовал руки умершей и, в страшном отчаянье, рвал на себе волосы. А за стенами дворца, в толпе собравшихся, слышались не меньшие вопли; то народ, уже узнавший обо всем, оплакивал своего «ангела» – матушку-царицу.
* * *
Откладывать подольше похороны было не в обычае того времени. На другой день царицу хоронили. Целые толпы народа преграждали путь печальной процессии. Плакальщиц нанимать не надо было: плакали все!
Князья Юрий и Владимир Андреевичи, братья царевы, вели под руки обессилившего от горя царя.
Царь постарел за это время лет на десять. Сильное потрясение пришлось испытать ему.
Тринадцать лет, душа в душу, прожил он с царицей. Одна она умела смирить его порою бурные порывы: достаточно было ее кроткого слова или взгляда прекрасных глаз – и стихал гнев Иоаннов. Царь привык к мирной и спокойной, полной тихого счастья, семейной жизни. Давно уже забыл он буйные забавы первой молодости, страсти его смирились под давлением не властной, но любящей руки царицы. Теперь все пало! Расстроен его мирный семейный круг, нет более друга, с которым царь мог бы поделиться своим горем и радостью. Есть еще прежние советники… Но кто? Сильвестр, Адашев? Царь уже переставал верить им! Они мудры, да, но к какой цели стремятся? – давно мелькал в уме его вопрос. Могут ли они заменить любившую его до самозабвения царицу? Нет! Могут ли они теперь скорбеть, как он, над телом Анастасии Романовны? Опять нет и нет! Они всегда были не расположены к царице – это не было тайной ни для него, ни для покойной. «Может быть, даже…, даже они причиной служат смерти царицы», – мелькает у Иоанна мысль, и злоба охватывает его сердце, но пока еще слишком сильная тоска, она осиливает злобу, не дает развиться неясному подозрению, и Иоанн, в отчаянье, пытается вырваться из державших его рук, чтобы броситься на гроб любимой жены и рыдать над ее трупом.
Плачет царь, плачет народ и вельможи, плачет даже митрополит, провожающий со всем духовенством Москвы тело царицы в Вознесенский монастырь.
Однако, хоть медленно, но все ближе и ближе подвигается процессия к месту вечного успокоения царицы. Из монастыря, навстречу телу, выходят рядами монахини. Слышится заунывное монастырское пение, голоса поющих монахинь мешаются с голосами митрополичьих и царских певчих и все вместе сливаются в один могучий стон.
А кажется, что это плачет сам город, сама Москва белокаменная испускает вопль из своих твердынь и отражает его в тысячах отголосков, чтобы каждый на Руси знал, что ныне день скорби великой, день погребения той, которая своей слабой, женской рукою часто спасала все огромное многомиллионное царство от бурного подчас проявления воли сердца Иоаннова. Да, плачь, плачь, Москва! Плачь, все русское царство! Не одну Анастасию, кроткую матерь всех обделенных судьбиной, погребаете вы здесь: вместе с ней зарываете вы надолго и свое счастье, и счастье отечества! Недаром уже второй день хмурится небо и прячется за тучами ясное солнце – это знамение вам, что закатилось на многие годы и ваше солнце. Но только завтра поднимется ветер, разгонит тучи, вновь на небе заблещет дневное светило и обольет горячими лучами землю, а ваше солнце еще не скоро взойдет! Еще теперь только хмурится ваше небо, только набегают тучки на небосклоне, а скоро они сольются в одну свинцовую тучу, и наступит для вас долгая, тяжкая ночь, полная страшных снов и кошмаров. Долго продлится эта тьма. Долго, до тех пор, пока не появится на престоле тот, в ком будет течь та же кровь, которая текла в жилах умершей царицы.
Последствия смерти Анастасии Романовны скоро начали сказываться. Не успели опустить в землю гроб царицы, не успели еще высохнуть слезы на глазах убитого горем царя, как уже подняла свою голову долго молчавшая гидра зависти, раздора и злобы.
Вот подошел к Иоанну рослый, красивый, сановитый боярин. Это Алексей Басманов.
– Утешься, царь! – тихо говорит он государю, – Анастасия Романовна сподобилась преставиться, но у тебя еще есть верные мужи и советники. Они разыщут тех ворогов лютых, что извели царицу своими чарами.
Иоанну, привыкшему видеть всегда царицу веселой и здоровой, кажется невероятным, чтобы цветущая, полная сил Анастасия Романовна могла так безвременно скончаться.
«Есть причина, есть! – скользит у него мысль. – Она умерла не по Божьей воле, а по людской злобе!»
Эта мысль как раз совпала со словами наушника.
– Кто эти царицыны вороги и супостаты? Говори! – приказывает царь Алексею Басманову.
– Ты сам их знаешь, государь, лучше, чем я, – уклончиво отвечает боярин.
Царь догадывается, что Басманов метит на недавних царских любимцев, к которым царь уже с весны этого года почувствовал охлаждение и отдалил от себя, или, вернее, они сами отдалились: это священник Сильвестр, теперь уже монах, и Алексей Адашев, ныне воеводствующий в Ливонии, но ему хочется услышать из уст Басманова подтверждение того подозрения, которое стало слагаться в его уме.
– Говори, кто они такие! – строго приказывает он Алексею Басманову.
– Коли такова твоя воля – повинуюсь, – смиренно отвечает боярин. – Это Алексеи Федорович Адашев да поп Сильвестр.
– Злые люди! – шепчет Иоанн. – Я ли им милостей не оказывал? Я ли не сделал их первыми после себя? За что они погубили голубку мою? – и грусть, и злоба мешаются в сердце царя, поднимается желание отомстить им, и глаза его сверкнули огнем.
Басманов с тайною радостью наблюдал действие своих слов.
«А, Алешка и поп, – думает он про Адашева и Сильвестра, – довольно вы царствовали да куражились над нами! Только б удалил вас царь – тогда он наш! Будет и на нашей улице праздник!»
Расчет Басманова оказался верным, но лишь с одной стороны: дурное семя, брошенное в душу Иоанна, дало быстрый и неожиданный плод. Не прошло и года, как царь стал неузнаваем. Он не только удалил бывших любимцев, но казнил всех сочувствующих им.
Слишком быстро и безостановочно зрел плод! Царь сделался подозрителен, никому не доверял и всюду видел врагов; он мучился от постоянной тревоги, что враги близко, подле него… Он страдал и, думая прекратить страдания, уничтожив всех своих недругов, искал их, и кровь лилась рекой, а враги все умножались, вместе с тем, как все больше разрасталась тревога царя.
Умерший в темнице, на чужбине, Адашев и его родственники были первыми жертвами, в этом расчет Басманова оправдался. Оправдался он также и в том, что настал на их улице праздник: Алексей Басманов, его сын Федор и еще несколько лиц: Афанасий Вяземский, Васька Грязной, Скуратов и другие – совершенно овладели царем и ворочали судьбами отечества. Но долго ли? Иоанн был не ребенок, не нуждался в опекунах и помнил, что он царь-самодержавец, владыка над своими подданными.
Скоро надоедали ему новые любимцы, подобно Сильвестру и Адашеву, и их постигала подобная же первым участь: они погибали или в темнице, или на плахе. Но горше всего пришлось тому, кто первый бросил злое семя в душу царя и раздул тот маленький огонек, который тлел в душе Иоанна, во всепожирающее пламя – Алексею Басманову: по приказу царя, он был задушен в темнице руками своего собственного сына, красавца Федора, царского кравчего, в свою очередь погибшего под топором палача. Недаром плакал народ над телом усопшей царицы: это были вещие слезы! Тяжелые времена наступили! Славные царские воеводы падали на плахе или бежали в чужие страны. Другие продолжали служить отечеству, ежедневно ожидая, что и им придется сложить под топором свои головушки или испустить дух в страшных истязаниях. Третьи, наконец, снедаемые честолюбием, стали служить не отечеству, а царским прихотям, потешая Иоанна на пирах и глумясь и ругаясь над безвинными страдальцами.
В числе первых был муж Марьи Васильевны, князь Данило Андреевич Ногтев, в числе вторых боярин Василий Иванович Темкин.
Данило Андреевич удалился из Москвы в свою вотчину и только тогда приезжал в столицу, когда нужно было идти в поход или ехать по какому-нибудь поручению царя.
Темкин остался в Москве и стал преданнейшим клевретом царя Иоанна.
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ
I. ВЕСТЬПрошло двенадцать лет с той поры, как обвенчали Марью Васильевну с князем Данилой Андреевичем. Двенадцать лет – не двенадцать дней! Многое успело измениться за эти годы, настали на Руси времена такие тяжкие, черные, что если бы раньше какой-нибудь ведун старый предсказал, что наступит такое лихое времечко, ему бы никто веры не дал и в глаза ему рассмеялся.
Крут стал нравом царь Иоанн, всюду измену отыскивал да казнил не любых себе, а тем временем враги не дремали, и шли полки за полками на Русь. Поляки, шведы, ливонцы – все, словно сговорясь, напали на Русь, не забыл прежних поражений хан крымский, Давлет-Гирей, и готовился, говорили, к набегу на Москву.
А что Марья Васильевна? Утешилась ли она? Помогли ли ей протекшие годы забыть друга, или она все так же, как прежде, грустит и слезы льет, своего дружка милого вспоминаючи?
Время все лечит, все изменяет! Привыкла Марья Васильевна к своему кроткому, души в ней не чаявшему мужу и полюбила его, если не так, как раньше любила Андрея Михайловича, то иной, спокойною любовью.
И счастлива она была! Если когда и вспоминался ей Андрей Михайлович, если когда и туманились ее очи легкою грустью, так она сейчас же спешила к своему мужу, обнимала, целовала и в его ласках забывала то, что так некстати, не вовремя зашевелилось в ее душе.
Кроме того, не слыша в продолжение многих лет о Бахметове, после его внезапного исчезновения из Москвы, она думала, подобно многим другим, что он умер, и вспоминала о нем с уважением и легкою печалью, как о навеки потерянном для нее друге. Было ей послано богом еще одно утешение, которое больше всего помогло ей забыть былые страдания: это были ее дети – мальчик и девочка. Сыну ее Васе шел уже десятый годок, дочь же, Настя, была года на два моложе его. Марья Васильевна души не слышала в своих детях, прекрасных, как ангелы.
Вся отдавшись воспитанию детей и уходу за ними, она уже который год жила в вотчине мужа, на Оке, верстах в десяти от Серпухова, лишь изредка наезжая в Москву, чтобы навестить отца и мать, уже сильно постаревших. Однако за последние годы она стала гораздо реже посещать их, так как муж, не перечивший ей никогда ни в чем, с неудовольствием относился к этим поездкам. Причина была та, что он почти совсем разошелся со своим тестем Василием Ивановичем Темкиным.
Произошло это потому, что старик, забыв о своем высоком роде и обязанностях боярина: служить царю верой и правдой, но не забывать о своей чести и совести, вступил в число клевретов Иоанна, подобно князю Вяземскому, года за два до этого погибшему на плахе, и другим родовитым честолюбцам. Он ездил в Соловки, вместе с епископом Пафнутием и архимандритом Феодосием, для отыскания, по желанию царя, улик против великого пастыря, митрополита Филиппа, бывшего прежде настоятелем Соловецкой обители.
Такая деятельность, противная не только правилам боярской чести, но и честной совести, оттолкнула Данила Андреевича от старика. Если же иногда князь дозволял жене съездить в Москву к родителям, так он это делал, чтобы доставить маленькое утешение Анастасии Федоровне, которую очень печалили поступки мужа.
Впрочем, для Марии Васильевны, помимо нежелания мужа, являлось еще большим препятствием и то, что путь к Москве был далеко не безопасен, так как опричники разъезжали по дорогам, и упаси Бог, было, попасться им в руки! Были и еще причины: как оставить детей одних? Муж почти всегда в «поле» [77]77
В войсках.
[Закрыть], а того и гляди наедут, спаси Бог, татары, их уж давно ожидают, что тогда будет? Может и иное случиться: царь часто с челядью своей бывал в Серпухове, ворвутся опричники буйные в вотчину, так не лучше татар, а то и похуже, пожалуй!
«Уж коли надо случиться чему, – думала Марья Васильевна, – так хоть разделю с деточками моими беду, а то как уехать самой да сиротинками покинуть ангельчиков таких?»
Поэтому Марья Васильевна уже давно жила в вотчине безвыездно.
* * *
Прошел слух дня три назад, что хан уже двинулся на Русь, и валит татар, как говорили, видимо-невидимо! Данило Андреевич спешно поехал в «поле» к князю Михаилу Ивановичу Воротынскому. Слух этот встревожил всех в поместье князя: близ Серпухова было лучшее место переправы через Оку, а татары, верно, прямо сюда повалят и не минуют князевой вотчины.
Марья Васильевна, успевшая за истекшие годы превратиться из стройной красавицы боярышни в дородную величавую боярыню, примеряла своему сыну новый кафтанчик, который она спешила окончить к празднику Вознесения, приходившемуся в 1571 году на 24-е мая.
Худенький и высокий мальчик, как две капли воды похожий на мать, послушно стоял, пока Марья Васильевна обсуждала с помогавшей ей работать Анфисой, нянькой детей, нужно ли сделать на рукаве, а пройме, поглубже выемочку или не надо, и так будет ладно. Боярыня, казалось, внимательно слушала Анфису, доказывавшую, что выемочка необходима, иначе под мышкой резать будет. Марья Васильевна возражала ей, а между тем словно какая-то дымка заволакивала ее взор, когда она взглядывала на мальчика, с живейшим интересом вслушивавшегося в разговор, происходивший перед ним, так как окончания кафтанчика он ждал с большим нетерпением.
Марью же Васильевну беспокоили невеселые думы. Мысль о близости татар не покидала ее. Напрасно она пыталась успокоить себя тем, что ведь татары уже не впервой набегают на Русь, а все Бог миловал: они еще ни разу не заходили в вотчину князя Ногтева.
К тому же, если б татары уже были близко, то верно Данило Андреевич прислал бы весточку. Однако вот уже, который день, а никаких вестей от него нет.
Может, даже и говорили пустое, что хан крымский идет. Не всякому слуху верь!
Так успокаивает себя Марья Васильевна, а все, как взглянет на сына, так словно что в сердце ударит. «А ну, как вдруг», – мелькает у нее в голове. И снова она старается себя успокоить и еще горячее начинает обсуждать с Анфисой вопрос о кафтанчике. В комнату вбежала, запыхавшись, хорошенькая девочка.
Ее золотистые волосы в беспорядке рассыпались по плечам, платье было смято и запачкано.
– Матушка! – кричала она, торопливо подбегая к матери, – вот сейчас я страху натерпелась!
– Что такое? – с беспокойством спросила Марья Васильевна.
– А вот послушай, что я тебе расскажу, – ответила девочка, блистая глазенками от желания заинтересовать мать. – Скучно мне стало одной бегать по саду… Братишки нет… Что делать? Дай, думаю, пойду к речке… И пошла. А там, знаешь, народу никого. На нашей стороне лес шумит, а на другом берегу только трава одна густая-прегустая да высокая. Тихо так крутом. И вспомнилось мне, что ты приказывала нам не ходить к реке. И жутко мне стало так, что даже дрожь пробежала.
– Видишь, Настенька, что значит, матушки не слушаться, – с улыбкой проговорила мать.
– За то, мамусь, меня Боженька и наказал… Жутко, говорю, мне стало, – продолжала свой рассказ девочка, – и хотела уйти я домой поскорее, да глянула в это время на другой берег и затряслась вся! Прямо ко мне на коне, вижу, кто-то скачет! Бежать хочу – ноги от страха не двигаются! А он все ближе да ближе… Скрылся за кустами, да, слышу, в воду с конем прямо – шасть! Тут только опомнилась я. «Батюшки-светы! думаю, то татарин, должно, за мной скачет!» И, что было сил, бежать пустилась, а сзади слышу, как о землю конь копытами стукает, меня нагоняет…
– Да кто же это был? Неужто и впрямь татарин? – с тревогой в голосе спросила Марья Васильевна.
– Нет, нет! – смеясь, воскликнула девочка, – Как поближе к воротам я подбежала, глянула назад и вижу, что-то был совсем не татарин, а Прошка! – сказала Настя и залилась серебристым смехом.
Однако ее рассказ произвел совсем не то впечатление, что она ожидала. Вместо того, чтобы смеяться вместе с нею, мать и Анфиса воскликнули в один голос:
– Прошка! Стало быть, вести с поля от князя! Что ж ты его не звала сюда?
Девочка с минуту глядела на них с недоумением.
«Как! Прошку звать сюда, в горницу? Да ведь он такой грязный!» – думала она, тараща глазенки.
Затем, сообразив, что должно быть, так надо, коли и матушка, и Анфиса, обе крикнули это, опрометью бросилась вон из комнаты за Прошкой.
Немного погодя в комнату ввалился Прошка, дюжий мужик, и, перекрестясь истово на иконы, низко поклонился боярыне и стал в ожидании, когда его спросят.
– Что князь? Здрав ли? – спросила Марья Васильевна.
– Здрав, Бога благодаря, и тебе, боярыня, кланяться низко наказывал… А еще наказывал передать, что татарове валом валят, – заговорил Прошка, только и ждавший вопроса боярыни, а стало быть и разрешения говорить. – А еще наказывал, чтобы ты, боярыня, не очень тревожилась, потому что сам царь хочет татар бить идти, и они скоро хвост то свой подожмут да побегут восвояси. А еще он, боярин, мне наказывал тебе пересказать, что хоть пужаться и нечего, а все же опаска нужна и потому соберись скореючи, да со всеми чады и домочадцы в Москву отъезжай. Последний же наказ боярский таков был, чтобы послание собственноручное его тебе передать. В нем, сказывал, все, что следует, подробно пересказано.
Прошка замолчал, видимо довольный тем, что, наконец, боярское поручение исполнено и что он ничего не забыл из этих «наказывал», «наказал», «наказал». Порывшись за пазухой, он достал послание Данилы Андреевича, бережно завернутое в тряпицу, и подал боярыне.
– Ахти, беда! – заголосила Анфиса. – Ах, татары проклятые! Ах, басурмане поганые! Житья от них, косолапых, нам, православным, нетути!
– Сейчас, стало быть, собираться надо да уезжать. Сколько сбору-то да хлопот! – произнесла Марья Васильевна, побледневшая от волнения.
– Вот тебе и кафтанчик мой новый! – грустно воскликнул Вася.
– До кафтанчика ли тут! – воскликнула Марья Васильевна. – Надо думать, как животы-то свои спасти! Анфиса! Не знаешь ли, кто в доме у нас грамоте обучен? Пусть письмо прочтет.
– Да, кажись, никого нет грамотного, – ответила нянька, – Семен знает грамоте – его пономарь из соседнего села обучил – да он вместе с князем Данилой Андреевичем в поход ушел, а больше никого. Может, ты сама, боярыня, разберешь кое-как, что там прописано?
– Нет, меня не обучили грамоте… Как же быть?… Настя! – обратилась она к дочке. – Кликни Аксютке, чтоб за отцом Иваном в село сбегала. Боярыня, мол, просит пожаловать. Грамотку от мужа с «поля» получила, так прочесть надобно.
Настя не заставила мать повторять приказание, и вскоре слышно было, как она звонким голосом передавала Аксютке, шустрой дворовой девочке, приказ матери.
Аксютка, выслушав приказание, стремглав помчалась в село, быстро семеня своими голыми ногами.
Между тем, весть о том, что татары близко, успела уже распространиться по дому, и поднялась суматоха. Бабы голосили, мужики, которые случайно остались в доме, не попав с князем в поход, пытались унимать их, а сами галдели еще громче, чем бабы.
Марья Васильевна приказала всем спешно собираться в путь.
Хотя было приказано брать с собой только самое необходимое, однако узлы и узелки быстро умножались, и скоро во всем доме царил такой развал, как будто татары уже успели побывать здесь, похозяйничать.
Среди этого шума, гама и переполоха пришел, сопровождаемый Аксюткой отец Иван, пожилой священник, с большой лысиной на темени и жидкими прядями длинных полуседых волос на затылке. Он, видно, очень спешил дорогой: крупные капли пота виднелись на его лбу и покрасневшее лицо его лоснилось.
Истово перекрестясь на образа и благословив боярыню, он спросил ее:
– Что, матушка-боярынька, весточку изволила получить от князя Данилы Андреевича?
– Да, отец Иван, пришел он него Прошка, холоп наш, да невеселые вести принес: татары, слышь, идут! – ответила Марья Васильевна.
– Слышал, слышал! Мне дорогой Аксютка все поведала. Только я думал, что это так еще, догадка одна. Да, видно, прогневался Господь на нас, грешных! Теперь только как бы нам животы свои унести от них, окаянных… Ох, ох! – тяжело вздохнул отец Иван.
– Да вот, батюшка, хочу тебя попросить, прочти ты нам посланьице мужнино, – сказала Марья Васильевна, подавая отцу Ивану письмо.
Тот осторожно развернул его и, перекрестившись и откашлявшись, приступил к чтению. Все в комнате сидели притаив дыхание, боясь пропустить какое-нибудь слово. Из дверей выглядывали головы тех, кому не хватило места в комнате.
– «Посылаю тебе, супруге нашей, Богом данной, низкий поклон, а деточек моих целую жарко, – медленно читал отец Иван послание князя среди затихшей горницы. – А у нас вести есть не больно хорошие: татар уж на Руси видали. Идут они во множестве великом, и сам царь ихний с ними, да путь держат, говорят видевшие, прямо к Серпухову: там, должно, хан рать свою переправить чает. А в войсках у нас нельзя сказать, чтобы ладно было: недавно царь, чая, что о татарах лишь вранье одно идет, распустил добрую половину войска, и теперь людишек у нас не много, хотя все ж есть чем хана встретить… И побьем мы басурмана поганого, коли меж вождями рознь прекратится, а то они, вишь, родом своим считаются. Сам царь, бают, хочет супротив басурман нас вести… Коль будет так, то татарам и костей своих не утащить до Крыма. Пока же нужно заботиться, как от басурманов тебя, жену мою, да детушек уберечь, потому самому, что басурмане, коли к Серпухову пойдут, вотчины нашей не минуют и, чаю, спаси Бог! тебя с Васей и Настей и со всеми домочадцами в полон уведут. А мне тогда лучше жизни лишиться, чем терпеть такое! Посему и прошу тебя и даже впрямь приказываю скореючи пожитки кое-какие собрать да к Москве отъехать. Придешь в Москву, Анастасии Федоровне поклон мой низкий передай. Да в дорогу много с собой не набирай: возьми, что понужнее. Иконы с собой захвати, чтоб басурмане, коли заберутся, над ними издевок не учиняли. Остальное же, что в дорогу брать не сподручно, оставь так: добро – дело наживное – будем живы – снова все приобретем. Людишек наших с собой в город забери, потому что и их негоже татарам бритым на потеху да на добычу оставлять: все же души христианские и не чета им, басурманам. А Миколку-выкреста не бери с собой, потому он трус – тебе в пути пользы не принесет, напортит еще, пожалуй, а пришли ты его ко мне с Прошкой, гонцом моим: аз его, выкреста, вышколю издеся и от трусости отучу».
Громкие крики выкреста-Миколки прервали чтение письма…
Миколка был парень лет за двадцать, высокий, здоровый, как бык. Его еще десятилетним мальчиком захватили в плен русские во время похода в Крым с Данилой Адашевым. Он забыл свою родину и обрусел совершенно. Всем своим обликом Миколка выдавал свое татарское происхождение: был скуласт и узкоглаз, но не унаследовал такого качества от своих предков, которое почти врожденно всем татарам – храбрости их, и был отчаяннейшим трусом.
Данило Андреевич, собираясь в поход, хотел взять его с собою, но Миколка, узнав об его намерении, заблаговременно запрятался в какой-то сарай, где и просидел да самого отъезда князя. Выкрест уже думал, что он счастливо избежал нежелательной и страшной для него поездки в поход, как вдруг это письмо совершенно разрушило его мечты. Теперь этот трусливый и глуповатый парень ревел, как бык.








