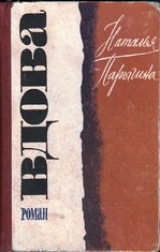
Текст книги "Вдова"
Автор книги: Наталья Парыгина
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 29 страниц)
3
В конце мая дали на новый завод первое сырье: спирт. Многие на стройке знали вкус спирта благодаря шинкаркам, к которым попадал он неведомыми путями. А теперь эта жидкость, булькая в трубопроводах, десятками, сотнями литров текла в огромные аппараты. Диво ли, что нашлись охотники лично проверить качество сырья?
К вечеру на заводе было полно пьяных. Покачиваясь и блаженно улыбаясь, тянулись самовольные дегустаторы к проходной. Степан Годунов, настроенный ввиду явно приближающегося пуска завода весьма оптимистично, распевал во все горло любимую песню:
Наш паровоз, вперед лети,
В коммуне – остановка...
Приятель безуспешно дергал его за рукав и упрашивал замолчать. Степан твердо решил допеть песню до последней строчки. Увы! Это скромное желание ему помешал осуществить некстати вывернувшийся из какого-то цеха директор завода.
– Спирт пробовал? – сурово спросил Дубравин, остановившись напротив Степана.
Годунову вопрос директора показался мелковат. Он фамильярно взял директора за пуговицу и не совсем твердо, но вдохновенно проговорил:
– Пустим завод, Иван Иванович, не сомневайся!
– Как фамилия?
– Моя? У меня знаменитая фамилия! Годунов. Во! Пушкина читал?
Однако директор не пожелал беседовать ни о пуске завода, ни о Пушкине. Оставив Степана, он решительным быстрым шагом двинулся к проходной. А когда до проходной добрался Годунов, вахтер даже не взглянул на пропуск с его знаменитой фамилией.
– Зайди пока в караулку, – сказал он Степану и добился своего, несмотря на самые бурные протесты со стороны подвыпившего оптимиста.
В караулке Степан недолго оставался в одиночестве. Покачиваясь, в комнатушку входили отфильтрованные от общего потока любители казенного спирта. Они были более разговорчивы, чем директор, и Степан легко нашел с ними общий язык.
На другой день на доске объявлений возле проходной секретарша приклеила отпечатанный на машинке приказ об увольнении с завода двенадцати рабочих за хищение ценнейшего сырья, из которого получается каучук. Седьмым в списке был Степан Годунов.
В последнюю ночь перед пуском завода на Дашу напала бессонница. В голове беспокойно мельтешили формулы. Ни сон, ни дрема. То стрелка на манометре прыгала на недозволенные цифры, то какой-то пар шел из аппарата.
Под утро заснула покрепче – привиделось страшное. Но завод уже, а Леоновка, и будто изба горит. На крыше пламя, из окошек пламя бьет – не подступиться. А мать – в избе. Люди кругом стоят, ахают, а помочь не хотят. Дашу держат за руки, она кричит: «Спасите, помогите!» Но никто не помогает. Тогда Даша вырвалась и кинулась в огонь. Опалило ее страшным жаром, Даша дернулась во сне и пробудилась. Вздохнула с облегчением: приснится же такая страсть.
На ситцевом коврике с огромными розами лежали солнечные пятна. Даша испуганно вскинула глаза на будильник. Неужто проспали? Нет. Половина шестого. Солнце стало раннее.
Осторожно сдвинувшись на край кровати, Даша спустила ноги, потихоньку встала. Оглянулась на Василия. Спит. Поперечная морщинка залегла меж бровей, волосы, рассыпавшись, спустились на лоб. Щека порыжела – за ночь пробилась щетина.
Она натянула старое платье с полинявшими цветочками. Голубая сатиновая кофточка и черная юбка-клеш висели на спинке стула, наглаженные, словно к празднику. Даша умылась, разожгла примус, принялась чистить картошку.
Василий проснулся, когда картошка уже вовсю шипела на сковороде. Хлеб стоял на столе, два пучка зеленого лука лежали рядом с вилками.
Даша с Василием сели завтракать. Вдруг какой-то новый, отдаленный, но сильный звук, похожий на гудок паровоза, разнесся над городом. Даша вскинула голову, и стакан застыл у нее в руке.
– Завод, – почему-то шепотом проговорила она. – Вася, это завод гудит!
– Завод, – кивнул Василий. – Я еще вчера знал про новый гудок, нарочно не сказал тебе.
Даша встала и распахнула окно, и гудок сразу стал слышнее, он заполнял весь дом, все улицы, весь город и пробивался до самого сердца.
Даша глянула в окно на противоположный барак и на сараи, сколоченные из чего попало между бараками, на свежую траву, скупо пробившуюся кое-где на истоптанной земле, и слушала гудок, впитывая густой однотонный звук каждой частицей своей души, и боялась пошевелиться, словно гудок мог оборваться от ее движения. Тихо лежали на подоконнике Дашины руки – небольшие, загрубелые руки с мозолями на ладонях, с толстыми ногтями, с наметившимися бугорками в суставах.
Василий подошел к Даше, встал рядом. Гудок, притомившись, пошел на убыль и смолк. Василий положил руку Даше на плечи.
– Вот и построили мы завод.
Даша вскинула на мужа счастливые глаза.
– Вася, у нас ребенок будет.
– Ну? – недоверчиво проговорил Василий, а губы у него сами собой расползлись в улыбку. И вдруг, обхватив жену сильными руками так, что у нее сперло дыхание, Василий закричал ей в самое ухо: – Сына мне, Дашка, роди! Слышишь? Сына!..
Проходная, словно плотина на реке, собирала людские ручьи в единый поток и выплескивала его в заводской двор. А здесь поток снова дробился на струи и растекался по цехам.
На развилке дорожек Даша свернула влево, но Василии удержал ее за руку.
– Ты гляди, – строго проговорил он, – в случае чего сама-то сильно не распоряжайся, мастера спрашивай.
Даша усмехнулась про себя, но вслух согласилась.
– Ладно, буду спрашивать.
И пошла, прямо держа повязанную пестрой косынкой голову, легко ступая сильными стройными ногами. Василий еще постоял, глядя ей вслед, потом повернул к электростанции.
В цехе пахло краской и известкой – обычными запахами нового помещения. Химия еще не обжилась под высоким потолком, ей сегодня только предстояло справить новоселье. Готовые к работе полимеризаторы в ряд выстроились в траншее.
У окна стояла Алена. Даша удивилась: Алена должна была работать во вторую.
– Ты же во вторую...
– Да так, пришла... Первый раз ведь. Помогу тебе.
Начальником цеха полимеризации назначили Мусатова. Он вышел из кабинета – неторопливый, торжественный, в черном костюме и при галстуке. Протянул руку Алене, потом – Даше, крепко пожал.
– Поздравляю вас с пуском завода.
Но завод не хотел начинать трудовую жизнь, куражился и медлил, как разоспавшийся школьник.
На тарелки, укрепленные на стержне, Даша загрузила нарезанный лапшой натрий. Алена ей помогала. Эти металлические каркасы, похожие на скелеты неведомых животных, назывались гребенками. Аппаратчицы опустили их в стаканы. Через двое суток, когда закончится процесс, скелеты обрастут каучуком. Должны обрасти каучуком.
Делать было нечего. Ждали дивинил, который должен родиться и пройти сложную систему очистки в других цехах.
– Сбегаю в печной, – сказала Даша. – Погляжу, как там...
– Ступай, – кивнула Алена.
Громадные круглые печи, похожие на цистерны, в которых хранится спирт, занимают большую часть цеха. Толстыми металлическими колбасами опоясывают их трубопроводы. От колбас тянутся отростки к ретортам, вмонтированным в печь. Пары спирта из трубопроводов идут в раскаленные реторты, и там под влиянием катализатора спирт разлагается на восемьдесят химических продуктов, в числе которых и родитель каучука – дивинил.
К печам примыкают высокие площадки с лесенками, вроде капитанских мостиков. Перегнувшись через перила, Дора Медведева окликнула Дашу:
– Поднимайся сюда, погляди на огонь.
На щеке у Доры – широкой полосой след от мазута, а руки и вовсе черны. Печи отапливаются мазутом, в новых механизмах частенько случаются нелады, где ж аппаратчице ходить в чистоте!
Поднявшись на площадку, Даша опасливо приблизилась к круглому окошечку – гляделке. Оранжевое пламя бушевало за стеклом, гудело, стремясь вырваться за толстые стены.
– Ну как, лихой огонь? – спросил мужской голос.
Даша отпрянула от окошечка. Угрюмов в чистой синей спецовке стоял рядом с Дорой – его назначили мастером.
– Огонь лихой, а дивинилу нет.
– Даем помаленьку, – сказал Угрюмов.
Даша заторопилась в свой цех.
Так и запомнился первый день на заводе – томительным ожиданием, тревогой, беготней. Заревом вечернего солнца в окнах. Тишиной холодных мертвых аппаратов.
Кончилась первая смена, не оживившая завод. Началась вторая. Даша вышла из цеха, без цели бродила по заводскому двору. Между корпусами тянулись над землей толстые трубопроводы, точно связывая эти кирпичные махины в единый организм. Цистерны для спирта походили на шапки спрятавшихся под землей великанов.
Надвигались сумерки. В цехах зажигались огни. Молодые неокрепшие кустики робко торчали кое-где между цехами. Даша остановилась возле одного деревца, пропустила зеленую ветку сквозь согнутую ладонь. И себя вдруг почувствовала малой и одинокой, как эта недавно пересаженная липка, среди огромных корпусов, цистерн, трубопроводов, громоздившихся в вечернем мраке.
Странный тонкий звук возник где-то позади Даши, словно загудел жук. Даша замерла, вслушиваясь, а жук набирал силу, уже не один, а тысячи жуков гудели вместе, гудели уверенно, мощно, неукротимо, как будто у них были стальные сердца. «Компрессорный пустили, – подумала Даша. Надо сказать девчатам».
Ей хотелось вслух, громко сказать всем, прокричать, что пустили компрессорный, что ожил, задышал новорожденный завод, но никого не было рядом, только маленькое деревце, тонкая липка, которую, наверное, совсем не радовали громады цехов с пугающе светлыми окнами, и черные змеи трубопроводов над землей, и эти железные великаньи шапки. Даша выпустила из руки живую веточку.
– Ничего, вырастешь, – сказала она липке.
И пошла в свой цех, торопясь и оступаясь на неровной дороге, словно боялась куда-то опоздать, пропустить что-то самое важное в своей жизни. А железные жуки все вели свою неукротимую песню, свой торжественный гимн, и окна цехов празднично сияли в ночи, и чьи-то руки, с которых еще не сошли мозоли от лопат, осторожно поворачивали тугие новые вентили.
Болтировщик Ахмет Садыков, звякая гаечным ключом, откручивал болты, а вокруг аппарата полукольцом сбились люди и глядели на него, как будто было что-то особенное, что-то очень важное в этой работе – откручивать гаечным ключом болты.
Директор стоял, сунув руки в карманы серых брюк. Мусатов рядом с ним в десятый раз протирал носовым платком очки.
Дора напряженно замерла, вскинув голову.
Настя весело следила за болтировщиками.
Даша прислонилась плечом к колонне, казалось, мигнуть боялась лишний раз, мысленно считала болты: двадцатый, двадцать третий, двадцать восьмой...
– Все, – сказал Ахмет.
Загудел мотор крана-укосины, тяжелая крышка поднялась над аппаратом, на тросе отъехала в сторону. Мусатов не выдержал, подошел к аппарату, перегнулся, что-то пощупал рукой. Народу вокруг открытого аппарата становилось все больше, откуда-то прознали в других цехах, что должен сегодня быть первый каучук, и всякий, кто мог хоть ненадолго покинуть свой рабочий пост, спешил в цех полимеризации.
– Что, получился?
– Какой он?
– Есть, что ли? Борис Андреевич?
– Есть, – сказал Мусатов.
– Скоро ли поднимут?
Садыков уже цеплял на крючок гребенку. Снова запел мотор, и крюк пополз вверх. И сразу оборвались разговоры, тихо стало, только лебедка гудела однотонно и деловито, вытаскивая из стакана неведомый груз. Комковатая масса золотисто-коричневатого цвета показалась над краем стакана, ровные круги ее лежали на тарелках гребенки и выплывали из чрева аппарата.
– Каучук, – выдохнул кто-то.
И сразу несколько человек кинулись к покачивающейся на крюке гребенке, тыкали пальцем в упругую массу, гладили ладонями, пытались отщипнуть.
– Так вот он какой, каучук...
Первую тонну каучука отправляли в Москву ясным, солнечным утром. Ночью прошел небольшой дождь, прибил пыль, освежил листву деревьев, и воздух был как-то особенно чист и чуть прохладен. Сама природа вместе с людьми готовилась к торжественному событию.
Каучук с вечера был погружен в товарный вагон. Но вечером вагон выглядел обыденным и неприметным, а теперь почти во всю длину его протянулось красное полотнище, на котором большими белыми буквами химики рапортовали о своей победе. Наум Нечаев с Дорой Угрюмовой раным-рано пришли на завод и прибили лозунг.
Наума опять избрали комсомольским секретарем. Он знал и любил молодежь, работал охотно, но упрямо мечтал стать инженером. Редко можно было застать его в кабинете – Наум почти весь день проводил в цехах. И уже лучше многих аппаратчиков понимал процесс, замечал ошибки, помогал их выправить. Всех парней и девушек он знал по имени, и к нему шли советоваться и по комсомольским делам, и по душам поговорить, и даже в сердечных бедах спросить совета. Работа на стройке спаяла молодежь в единую семью, и Наум по праву был в этой семье старшим.
Гудок на час раньше, чем обычно, разнесся над городом. И на час раньше шли люди на завод – оживленные, принаряженные, гордые, как и положено в праздничный счастливый день.
Вокруг вагона, украшенного лозунгом, все больше и больше собиралось народу. Даша с Василием, держась за руки, стояли в толпе химиков, с волнением ожидая начала митинга. В открытые двери вагона был виден серый брезент, под которым спрятался герой дня – каучук.
Трибуной служила площадка того же вагона. Человек десять поднялись по лесенке в вагон, и тотчас, не дождавшись первого слова, кто-то ударил в ладоши, другие подхватили, и долго в заводском дворе звучали аплодисменты, которыми люди отмечали большую и трудную свою победу.
Потом говорили речи. Секретарь парткома говорил. Директор. Наум Нечаев. Четвертое слово дали Доре Угрюмовой, и Даша невольно подалась вперед, отодвинув рослого парня, что стоял впереди. Хотелось ей лучше видеть бывшего своего бригадира и подругу и не пропустить ни слова из ее речи.
Дора была в черной юбке и белой кофточке с короткими рукавами, красная косынка покрывала ее волосы – такая же яркая, как и лозунг над головой. Высокая, крепкая, прямо стояла Дора в дверном проеме вагона, и счастливое ее лицо освещали косые лучи утреннего солнца.
– Товарищи!..
Обыкновенное, привычное слово произнесла Дора, а дрогнул голос, и пришлось помолчать немного, прежде чем смогла продолжать. Дору недавно – месяца не прошло с памятного дня – приняли в партию. Умела она без жалобы выполнять тяжкую мужскую работу, умела увлечь других на труд и подвиг, теперь и огромными сложными печами умела управлять. Но речи говорить не умела – смутилась и споткнулась на первом же слове.
– Товарищи! Помните ли вы голое поле, что расстилалось на этом месте?
– Помним, – откликнулись из толпы.
– Давно ли было...
– На пустыре завод закладывали...
– Пришли мы на это голое поле, – продолжала Дора, – стали рыть котлованы, начали строить, а в душе верили и не верили, что сумеем поставить завод. А вот же – построили, вот они – заводские цеха, и с первым каучуком повезем мы сегодня рапорт нашей дорогой Москве, что задание партии и правительства выполнено.
И опять аплодисменты нарастающим шквалом раздались в заводском дворе, не жалели люди задубелых ладоней, и, казалось, от бурного взрыва радости сам собою стронется вагон и покатит в Москву.
Но он не сам тронулся – небольшой паровозик, огласив завод и город пронзительным долгим свистком, потихоньку потянул за собой важный груз. Двери вагона по-прежнему были раздвинуты, и три человека, которым поручили сопровождать в столицу ценный груз, стояли в ряд и прощально махали толпе. Среди троих стояла Дора. Она стянула с головы косынку и махала ею.
Вагон медленно катился по рельсам к раскрытым заводским воротам, и вслед ему неслось многоголосое «ура». Мужчины срывали с головы кепки и кидали в воздух. И Василий сорвал и кинул вверх свою кепку, а Даша чувствовала на глазах слезы, и сквозь их пелену видела в руке Доры красную косынку, которая факелом горела на солнце.
4
Барачный городок все дальше врезался в поле, наподобие упрямо разрастающегося столетника, от которого идут все новые и новые побеги. Бараки теперь строили все больше семейные, разделенные на комнаты, с густым частоколом труб на крыше, с прилепившимися друг к другу поблизости от барака сараюшками.
В новых бараках селились молодожены. Первый год работы завода оказался урожайным на свадьбы. Бывшие строители приоделись, похорошели, жить стало полегче, тихо шелестели по вечерам тайные слова про любовь, и далеко разносились по городу пьяные свадебные песни.
Как-то, торопясь в магазин, встретила Даша Фросю. Девчонка заметно подросла, ходила уж в третий класс и теперь с матерчатой сумкой через плечо, укутанная старым Алениным платком, возвращалась из школы. Даша остановилась, спросила ее, как учится.
– Учусь я как следует, – солидно отозвалась Фрося. – С Аленой у нас беда.
– Какая беда? – удивилась Дата.
– Замуж собралась, – по-взрослому, осуждающе проговорила Фрося. – Нешто замужем-то сладко? У нас в Серповке замужние бабы беда как выли. Мужики-то – звери, напьются – куда от них денешься? Схватит за косу да и молотит кулаками.
Даша улыбнулась.
– Теперь женщин бить не дозволяется. Я вон замужем живу, а небитая.
– Тебе повезло, – сказала Фрося.
– Авось, и Алене повезет.
– Здоровый он, – с сомнением возразила Фрося. – Плечи – во какие и кулачищи как гири. Отговаривала я Алену – не слушается.
– Брось уж, не отговаривай, – посоветовала Даша. – Пускай женятся.
То ли послушалась Фрося и не отговаривала сестру от замужества, то ли не подействовали на Алену ее предостережения, но перед Октябрьским праздником сыграли Андрей Дятлов с Аленой свадьбу. Фросе сшили новое платье – длинное, на вырост, алую ленту, такую же, как у невесты, вплели в косу.
Гости сидели на толстых досках, положенных концами на табуретки, за тремя составленными вместе столами. Алена в новом кремовом платье, с красными бусами на шее выглядела счастливой и гордой. Далеко ушла она от той робкой девочки в юбке из мешковины и в домотканой кофте, какой встретила ее Даша на вокзале. Не одна одежда на ней переменилась. И по себе чувствовала Даша – переродила ее стройка, сделала уверенной, сильной, смелой. «Пришли мы сюда, боясь тележного скрипа, – думала Даша, – а теперь не узнать, какие стали...»
Жених в белой вышитой косоворотке сидел рядом с Аленой во главе стола. Одна тарелка на двоих по старому обычаю стояла перед ними. Андрей чувствовал себя стесненно, не знал, куда девать руки, краснел, когда под крик «Горько!» приходилось вставать и целовать Алену.
– Локтем невесту не зашиби, – крикнул Михаил Кочергин.
– С какой стати ему зашибать, – подхватила Настя. – Такая богатая свадьба задаром пропадет.
– Сыграй, Миша!
– Пускай Настя.
– Какой я баянист, – кокетничая, махнула рукой Настя. Однако взяла на колени баян. – Петь будете али плясать?
– Петь, пока, петь...
– Ермака давай!
Грянули за столом сибирскую песню, и до таких раскатов поднималась она временами, что, казалось, развалятся жиденькие стены нового, пахнущего свежим деревом барака, и окажется свадебный стол прямо под синим небом.
Одна Люба Астахова, сидя рядом с Дашей, молчала. Не хотела она идти на эту свадьбу, но Даша уговорила – пошла. И теперь все пели, а она молчала. На донышке оказалось тогда в бутылочке эссенции, не хватило отравиться насмерть, отходили врачи. А голос у Любы сделался сиплый, чужой.
И еще – радость жизни пропала. Стала Люба вроде заводной куклы. Все делала, как прежде, но словно не свою, а чужую жизнь жила. Первый вагон каучука провожали в Москву – не радовалась, глядя на красные знамена и на открытые рты, орущие «ура». На чужой свадьбе сидела – не завидовала. О своем счастье больше не мечтала. И к смерти не рвалась. Начисто опустела душа...
Трижды гудел перед сменой завод.
Первый гудок многих заставал еще в постели, настойчиво будил долгим протяжным ревом: вставайте, что же вы, я жду, я не могу без вас, люди. Вставайте! Пора.
Отгудев, успокаивался завод, ждал, когда они придут, его хозяева: аппаратчики, мастера, слесари, инженеры, лаборанты, бухгалтеры, уборщицы... Проходили минуты, солнце поднималось на свою дневную вахту, кирпичные стены корпусов ярче краснели в его лучах, золотистые пятна ложились на круглые бока аппаратов. Все чаще поглядывали на часы утомившиеся от бессонной ночи рабочие третьей смены. Скоро они уйдут домой спать. А завод? И тревожно, нетерпеливо взрезывал утренний покой города второй гудок, будоражил утреннюю синь неба, врывался в каждый дом, уносился в поля и там, на вольном просторе, понемногу стихал.
Гудок умолкал, а в городе все чаще скрипели и хлопали двери, и в маленьких домишках, притаившихся под старыми яблонями с корявыми ветвями, и в бараках – длинных, приземистых, одинаковых, словно разложенные рядами спичечные коробки, и в коттеджах для специалистов. Через зеленую проходную непрерывно текла живая цепь, она казались бесконечной, за проходной цеха невидимые магниты разрывали ее на части, и каждый тянул к себе вырванные звенья.
И в третий раз открывал свой горластый рот заводской гудок. Он ревел теперь недолго, но удовлетворенно, торжествующе, словно бы поздравляя всех с новым трудовым днем. Турбины электростанции отзывались в ответ на его приветствие мощным неутомимым гулом, компрессоры, дрожа от напряжения, вели однотонный напев, с подвываньем и лязганьем, включались в работу лебедки, где-то шипел газ, где-то звенел кран, кто-то орал в телефонную трубку, и все сливалось в непрерывный гул сложной заводской жизни.
Завод жил и дышал.
Завод выпивал цистерны спирта, сделанного из картофеля и зерна.
Поезда увозили с завода золотистый каучук, и каждый раз паровоз тонким пронзительным свистом сообщал эту важную новость всему городу.
Третий гудок застал Дашу в цехе. Четырнадцать полимеризаторов, отданных под ее власть, ненасытно требовали внимания и ухода.
Над каждым аппаратом торчали два больших термометра и манометр, а на крышке лежал график. Четыре раза в час надо записать в график температуру в верхней и нижней части аппарата и давление. С одними этими записями хватило бы возни на всю смену, а полимеризаторы то и дело выходят из тесных рамок технологического режима. В пятом и седьмом процесс пошел бурно. Даша пустила в рубашки аппаратов вместо водопроводной холодную артезианскую воду. Не помогло. Выкатив тачку, привезла из холодильника в мешках лед, уложила на крышки. Лед таял, лужами растекаясь по полу. Спохватилась, что надо графики заполнить. В спешке неловко задела термометр на десятом аппарате, тот со звоном раскололся.
Уж как пойдет смена неладом, так до конца и нижутся одна на другую напасти. В двенадцатом аппарате приспело время выгружать каучук. Едва болтировщик, открутив гайки, включил мотор крана, как из аппарата полыхнуло пламя. Блок загорелся! Даша подхватила на совок порошкового мелу, принялась сыпать на горящий блок. Настя Золотова, покинув свое отделение, набирала из крана в ведро воду, чтоб затушить огонь. Но огонь ни от мелу, ни от воды не хотел утихомириться. Так, горящим, и погрузили блок на тачку. В тачке уж удалось залить.
За всю смену не то что присесть – и постоять минутки не удалось Даше. А тут еще маленький тоже требовал своего. Сильно уже выпирал у Даши живот под спецовочным комбинезоном, торкался ребенок ножками, и порой такая наплывала слабость, что Дашу покачивало, как березку на ветру.
Куда, казалось, хватало с этими аппаратами всяких неприятностей, но Мусатов едва не каждый день предостерегал от крупной беды:
– Будьте внимательны. Процесс опасный. При недогляде может случиться взрыв.
Первое время работницы на шаг боялись отойти от траншеи с аппаратами, глаз не спускали с приборов. Но однажды Даша зазевалась, упустила давление – ничего, никакого взрыва не произошло. Только досталось от Мусатова за нарушение режима.
Впрочем, Мусатов и не узнал бы ничего, если бы Даша не записала в график скачок в давлении. Настя по пути домой ей растолковала, как надо поступать в таких случаях.
– Больно честная ты, Дашка, – сказала она. – Да на что ж самой себе неприятности творить?
– А как же, если я недоглядела?
– Как! Ты одна, что ли, промигала процесс? У всех бывает. И с давлением и с температурой... А в график пишут – какое надо по технологии. Бумага не выдаст, если сам себе не навредишь.
– Обман, значит?
– Подумаешь! – протянула Настя. – Ты же его выровняла. Ты же его все равно под технологию подвела. Мусатову еще лучше, если знать не будет, – нервы сохранит. А то ему все взрывы мерещатся.
С тех пор Даша иногда пользовалась Настиным советом. Так и так на заводе полно прорух. От маленького обмана, казалось ей, не случится большой беды.
Завод пустили, и двухлетнее напряжение, спешка, штурмы, авралы, ударные темпы отступили в сторону. Люди оглянулись вокруг, и почудилось им, что настала пора строить свое счастье. Слово «завод» звучало спокойнее и тверже, чем «стройка», завод ежедневно отсчитывал у каждого восемь часов, а с остальными человек мог делать, что хотел.
Дела на заводе не ладились. Часто случались аварии то в одном, то в другом цехе, и каучук не желал считаться с планом.
Цех был большой, Мусатов не успевал уследить за всеми аппаратами, а мастера, недавно окончившие курсы, знали немногим больше работниц. Когда вскрывали стаканы, чтобы снять готовый каучук, Мусатов стоял бледный и хмурый – заранее ожидал неприятности.
Болтировщики снимали крышку, поддевали на крючок стержень гребенки. И уже по звуку мотора, слишком ровному, не натужному, Мусатов угадывал худосочность блока. Случалось, двое суток работы уходили впустую – вместо каучука на гребенке тонким слоем налипала какая-то клеевидная масса.
Но за неудачи отвечали инженеры. Они ученые, им ломать голову, а у рабочего – задача простая и спрос с него невелик. Многие тогда так думали – что нет их вины в заводских неудачах, что заводом управляет какая-то большая, сложная сила, на которую не властен повлиять у аппарата один рядовой рабочий.
Предстоящее материнство целиком поглотило Дашу. Она каким-то новым сладостным чувством все время ощущала в себе новую жизнь, и это материнское доброе чувство переносила на других. Как будто она стала богаче, старше и умнее, у нее было то, чего у других не было, она знала то, чего другие не знали. И ей немножко жаль становилось и Настю, и Ольгу, и особенно Любу Астахову, и даже Василия, который не испытывал и не понимал ее счастливой отрешенности от мира.
Василий ходил озабоченный, захваченный своей работой и партийными делами. Шла чистка партии, продолжалось строительство второй очереди завода, по всей стране бурно росли новостройки. В Ленинграде убили Кирова. В Германии усилились аресты рабочих. Даша с волнением слушала новости, которые приносил с завода и вычитывал из газет Василий.
Только что поужинали. Даша мыла посуду, а Василий, расстелив на столе газету, читал со вслух. Электрическая лампочка спускалась на шнуре как раз над столом – в бараки еще весной провели электричество.
– Даша, – сказал Василий. – Америка признала Советский Союз. Литвинов в Вашингтоне, беседует с Рузвельтом.
– Вишь ты, признала все-таки.
Даше вспомнилась лекция Мусатова в женском бараке в тот вечер, когда она убежала от Маруськи. Американец Эдиссон не верил, что в Советском Союзе получен синтетический каучук. А каучук – вот он, получаем, мы получаем, хоть погляди, хоть пощупай...
Свернув газету, Василий взял с полочки учебник и тетрадку, поставил на стол чернильницу-непроливашку.
– Позанимаюсь немного, – сказал Даше. – Ты ложись спи.
Он работал слесарем на электростанции и занимался на курсах машинистов турбин. По вечерам засиживался долго, выписывал что-то из учебника, перерисовывал в тетрадку чертежи. Иногда Даша ревновала его к книжкам. Ей скоро родить, а у Васи – никакой заботушки нет.
– Ты качку-то думаешь делать или нет?
– В выходной займусь.
А сам глаз не оторвал от бумаги.
Даша смотрела на его крутой затылок, на молодую крепкую шею, на широкие плечи, обтянутые синей сатиновой рубашкой, и пыталась сердиться. Но сердце вдруг затопила нежность, напрочь смыв могучей волной недавнюю досаду. Даша подошла к Василию, приникла щекой к его колючей щеке. Он осторожно сжал ее руки в больших жестких ладонях.
***
Даша лежала в небольшой белой палате, усталая и счастливая. Ее сына не было с ней. Едва появился на свет, как их разлучили. Няня сказала, что он спит, где-то тут, недалеко, в детском отделении. Он тоже устал, благополучно выдержав первое в жизни испытание. Может, ему пришлось трудней, чем матери...
Три двести. Дашин парень весит три двести. Такой маленький, беспомощно повис на ладони медсестры. А орал, как взрослый. Даже докторша удивилась: «Ну и голосище». Значит, не все так могут. Горластый родился, настойчивый.
Ксения мыла пол. Выставив тощий зад, опускалась на четвереньки, чтобы достать под кроватью самые дальние половицы.
Даше хотелось есть. Черного хлеба бы. С солью. У нее даже слюна накопилась, до того захотелось черного хлеба с солью. Какой пахучий хлеб мама пекла... Не дождалась внука. Сейчас бы телеграмму... Надо бабке Аксинье отбить телеграмму. Бабка Аксинья не умеет читать. Егор прочтет. Напишу бабке Аксинье – пусть приезжает к нам жить. Она маленьких любит, будет возиться.
Ксения домывала пол уже у дверей. Перекрутила над ведром тряпку, руки мокрые, красные, с тряпки падают в ведро грязные капли. Встряхнула тряпку, ведро за дверь выставила. Сейчас уйдет.
– Ксения!
– Ась?
– Ксения, принеси мне черного хлеба. С солью.
– Да ведь завтрак скоро.
– Я не хочу завтрак. Попроси на кухне.
– Не повредит тебе?
– Хлеб-то? – удивилась Даша. – Попроси горбушку.
– Ладно, обожди. Пойду руки вымою.
Она протерла у порога пол, вынесла в коридор тряпку, звякнула ручкой ведра. Стало тихо. Больница еще не просыпалась. Где-то заплакал ребенок. Даша вздрогнула, напрягла слух, пытаясь угадать по голосу, не ее ли малыш плачет. Но ребенок как раз умолк.
Мягкие шаги послышались в коридоре. Вошла Ксения, держа руку в кармане старенького халата. Наклонилась над Дашей, вынула из кармана завернутый в газету ломоть хлеба и еще маленький пакетик – соль. Попросила.
– Сестре не сказывай.
Даша приподнялась повыше на подушку и стала есть. Хлеб был настоящий ржаной – черный, чуть липкий, с резким хорошим духом. Крупные кристаллики соли хрустели на зубах. Даша с наслаждением откусывала от горбушки, жевала, как лакомство.
В окно виделся ей небольшой клочок белого облачка в утренней сини неба, верхушка голой яблони и край деревянного больничного забора. Воробьи, слетевшись на яблоню, беспокойно обсуждали какое-то событие. Чирикали, перепрыгивали с ветки на ветку, даже попытались было установить истину по давно испытанному принципу: кто силен, тот и прав. Но драка быстро погасла. Стайка вдруг взвилась и улетела прочь.








