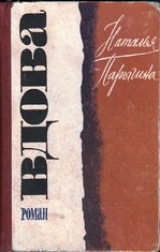
Текст книги "Вдова"
Автор книги: Наталья Парыгина
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 29 страниц)
– Некогда! И то засиделась с бабушкой... В другой раз!
И торопливо, будто кто мог ее тут обидеть, выскакивала за дверь.
Бабка Аксинья была общительна, у нее и кроме Любы завелись приятельницы. Самой желанной стала Ефросинья Никитична, мать Угрюмова. Днем она захаживала к бабке Аксинье с внуком Сережей, которому имя дано было в память Сергея Мироновича Кирова, злодейски убитого в Ленинграде врагами народа. А по вечерам бабка Аксинья направлялась в гости попить чайку. Дора с мужем учились в вечернем техникуме, уходили почти до полуночи, и старушки могли побеседовать без помех.
С Ефросиньей Никитичной бабке Аксинье было интересно, не из глухомани какой Никитична – в Москве побывала и любила порассказать про столицу.
– Люди там, Петровна, все как есть бегом бегают, – попивая чаек, пока Сережа с Нюркой мирно спали в одной кроватке, рассказывала Ефросинья Никитична. – Бегут и бегут, ровно белки от пожара... Только которые с собаками – те тихо ходят по садочку. Прямо посереди улицы садочек узенький тянется... Это я еще в первый раз, когда у сына гостила, приметила. У нас в поселке собаки бегом бегают, а люди шагом ходят. А в Москве – обратным порядком.
– Чудно! – говорила бабка Аксинья.
– Еще как чудно-то! А дома – громадные, всяк дом выше колокольни. Ровно птичьи клетки одна на одну взгромоздились. Только что не влетают в них, а по лестницам взбираются. Улицу – не перейдешь: извозчики, машины, трамваи так и снуют, так и снуют...
– Вишь какой муравейник...
– Чисто муравейник, Петровна! Получила я от Саши письмо: приезжай, мол, мама, внука нянчить. И рада приехать, одна живу, старик мой помер, худо одной... А как подумаю про Москву – и страх долит. Через Москву ехать-то. Пропаду, думаю, вовсе!
– Ан не пропала! – с лукавинкой заметила бабка Аксинья.
– Едва выбралась. В первый-то раз хоть метро не было. А теперь метро построили – вовсе беда. Спрашиваю людей, как, мол, мне на мой вокзал переехать? Ступай, говорят, бабка, вон туда, в метро. И показывают мне дом навроде маленькой церкви, только креста нету, а этакая здоровая буква «Мы...»
– Одна буква?
– Одна... Вошла я. Билет купила. Нарядно там. Блестит все, и лампы горят. А люди еще проворней бегут, чем на улице. Только я от стенки отделилась, и подхватили меня, и чую – сама бегу со всеми. И прямо на лестницу. Веришь ли, Петровна, ровно меня кто за ногу уцепил и гляжу – уж вниз еду, будто в преисподнюю. Лестница едет, а народ – который стоит, а который и тут бежит, по живой лестнице-то...
Бабка Аксинья с большим интересом слушала рассказы Ефросиньи Никитичны о столичной жизни. Кое-что рассказывала ей о Москве и Даша, но у Даши получалось не столь занимательно. А метро с живой лестницей Даша и в глаза не видала, построили его позже.
В общем, жизнь бабки Аксиньи в Серебровске текла куда разнообразнее, чем в Леоновке, и бабка по деревне не тосковала. Ей особо и некогда было тосковать. С ребятами нянчилась, хозяйство вела и еще одним делом занималась по тайности от Даши с Василием. Но тайна эта нечаянно открылась.
Как-то затеяла Даша сквозную уборку. Декретный отпуск подходил к концу, после трудней будет время выбрать, а пыли-грязи не любила. Бабку Аксинью отправила с закутанной в одеяло Нюркой гулять, Митя был в яслях. Напевая потихоньку, подбелила Даша печь, протерла отпотевшие стекла, сдернула с полочки пожелтевшую газету. И заметила под газетой голубую ученическую тетрадку. «Чья же тетрадка?» – с недоумением подумала Даша. Она на курсах писала в толстой тетради. Василия? Не примечала она ни разу, чтоб чего-то писал в такой тетради Василий.
Откинув слегка засаленную корочку, увидала Даша крупные, в две линейки буквы, а перевернув две-три странички, нашла и слово. «Аксинья», – неумело, коряво тянулось слово во всю ширину страницы. Целая страница была исписана этим именем. «Бабка Аксинья! – сообразила Даша. – Бабка Аксинья надумала учиться грамоте. Да кто ж ее учит-то?»
Будь у Даши время поразмыслить, положила бы она на старое место тетрадочку, не подала бы виду, что раскрыла секрет. Но бабка Аксинья как раз пришла с Нюркой.
– Ветерок подул, – сказала она. – Поопасилась, не застудить бы дите...
И тут засекла взглядом тетрадочку в Дашиных руках. Глаза у бабки Аксиньи сделались такие виноватые и растерянные, словно бог весть в каком скверном деле уличила ее Даша.
– Прятала ведь я тетрадку-то, – забормотала она. – И на что тебе вздумалось газету с полки стаскивать?
– Я не знала, что ты учишься, – сказала Даша. – Это кто ж тебя?
– Люба, – все еще не оправившись от смущения, призналась бабка Аксинья. Я ей как-то говорю: расписываться, мол, не умею. А она: «Я тебя выучу». Сама тетрадку принесла и стала учить. Уж я отказывалась...
– Да на что ж отказываться? – перебила Даша. – Теперь все учатся.
– Куда мне за всеми? Помирать пора. А вот поди ж ты – и помирать неграмотной неохота, – словно бы недоумевая, заметила бабка Аксинья. – Сперва-то только расписываться хотела выучиться. После разохотилась. Думаю: письмо в Леоновку напишу своей рукой.
– И напишешь, – сказала Даша. – Вон уж ты имя-то как выводишь.
– То-то подивятся! – Бабка Аксинья даже улыбнулась, показав не по возрасту крепкие зубы. Но тут же опять застеснялась. – Ты уж Василию-то не говори, Дашутка. Обсмеет меня Василий...
– Не скажу, – пообещала Даша.
6
После декретного отпуска Даша увидела цех обновленным. Полгода назад началась реконструкция, замена аппаратов новыми, более мощными. И теперь эти новые аппараты, емкостью в полтора раза более прежних, вступили в работу.
Вместе с реконструкцией закончили и ремонт. Бело стало, стены чистые, аппараты серебрятся свежей краской. И так радостно сделалось Даше, таким близким и милым показалось все кругом, словно в родной дом воротилась после долгой отлучки. «До чего ж я привыкла к заводу, – сама себе удивилась Даша. – Стосковалась по работе, как голодный по хлебу».
Молодой завод продолжал расти. В контактном цехе вступали в строй новые печи. Дора рассказывала, что едва привыкнет к одной печи, как переводят ее на новую, неосвоенную, а на ту ставят менее опытных аппаратчиков. А печи, как люди, – у каждой свой характер. Одна хорошо держит температуру, другая рывками, в третьей реторты прогорают... Гордилась Дора, что научилась по трем искоркам определять, хорошо ли пойдет печь. Три искорки, да два курса техникума, да от мужа-мастера опыт переняла – вот и вышла одной из первых на заводе Дора Угрюмова в стахановки.
Алексей Стаханов на донецкой шахте свершил чудо: в четырнадцать раз перевыполнил сменную норму. О нем писали газеты, о нем говорили по радио, именем Стаханова отмечали самые выдающиеся победы. Ударников теперь называли стахановцами, и цеха, смены, участки упрямо добивались в соревновании первого места.
Стремительно росла техника в стране, радио и газеты писали, как становилась деревенская Россия на индустриальные рельсы, сообщали о пуске заводов, об успехах, о рекордах. Даша и на своем заводе наблюдала беспрестанный рост. Что ни год, появлялись новые машины и аппараты, мощнее прежних и удобнее в работе, цех изменялся на глазах, и надо было поспевать за этими переменами, не отставать, набираться мастерства.
Рядом с цехом полимеризации, в котором работала Даша, построили еще один цех. Там заканчивался монтаж новых по конструкции аппаратов, похожих на бочки – такие огромные, что хоть на лошади в них въезжай. Дивинил в эти аппараты будет поступать не жидким, а в виде газа. Но пока всю полимеризацию вели в старом цехе.
Старый цех! Четыре года прошло с пуска завода, а цех уже зовется старым. И аппаратчиков, кто с самого пуска работает, называют опытными, кадровыми.
Жадно, весело работала Даша. По движению стрелки манометра и ртутных столбиков на термометрах угадывала капризы химического процесса и знала, как укротить невидимого зверя в глухой утробе мощных чугунных цилиндров. Власть над хитрыми аппаратами родилась, как от отца с матерью, от опыта и знаний.
Завод окреп, вошел в силу, устойчиво выполнял программу. Но страна требовала каучука все больше и больше. И каждый, кому удавалось одолеть новый рубеж, становился героем.
И Даша Костромина догнала в свой час беспокойную птицу – славу.
Произошло это в ясный осенний день. Смена кончилась, а солнце еще стояло высоко, било в окна резвыми лучами. Болтировщики, как обычно, сняли крышку и подцепили на крюк новорожденный блок. И хотя давно уже не было такого конфуза, чтоб гребенка оказалась пустой, но каждый раз при вскрытии стаканов волновались аппаратчицы: сколько же каучука родилось на этот раз?
Ахмет Садыков включил подъемник. И вдруг натужный воющий звук разнесся по цеху, мотор словно жаловался и бунтовал и не желал поднимать груз, который ему навязали.
Но он все-таки тянул блок, выл и тянул, и вот выполз из стакана край огромного блока. Золотистый цилиндр поднимался все выше, и Даша смотрела на него с недоумением, еще не решаясь радоваться, еще не веря, что это она и ее сменщицы сотворили такое диво. Каучуковый цилиндр висел уже весь на виду, белея снежными прожилками, упругий и чистый, и Даша подошла и тронула ладошкой свой каучук.
– Алена!
Голос ее слишком громко прозвенел в пролете цеха, но Даша не смутилась, ей хотелось кричать, ей просто необходимо было крикнуть, чтобы выплеснуть бурный наплыв радости.
– Алена! Ты посмотри...
Алена обернулась на зов, удивленно вскинула брови и пошла на Дашин участок, не спуская глаз с каучука. Хорошо, что пол был ровный, споткнуться негде.
– Как вы сумели.. Ведь тут... Тут больше тонны!
– Полторы.
Это Мусатов сказал: полторы. Он протянул Даше руку.
– Поздравляю, Дарья Тимофеевна. Великолепный блок! Стахановский результат...
Даше хотелось обнять свой блок, и если б никого не было поблизости, она, пожалуй, и обняла бы. А сейчас только улыбалась в ответ на удивленные возгласы.
Потом были еще крупные блоки. Больше этого не уродилось ни разу, но ненамного отставали иные от рекордсмена. Дарью Костромину сфотографировали для газеты. И на Доске почета вписали ее имя в число лучших стахановцев. А на Октябрьском вечере ради Дарьи Костроминой грянул заводской оркестр.
В канун двадцатой годовщины Октября открылся заводской Дворец культуры. Дворцом назвали его не напрасно: не было в Серебровске другого здания, столь же огромного и богатого, с белыми колоннами, с большими окнами, с двумя глиняными вазами при входе. Не видали серебровцы княжеских и царских дворцов, да на что им глядеть на княжеские, коли был у них теперь свой рабочий Дворец?
Шестого ноября, едва надвинулись на город сумерки, загремел во Дворце культуры самодеятельный духовой оркестр.
В залах еще держался запах краски, новые кресла и диваны у стен ярко алели бархатом. По углам в бочонках росли раскидистые пальмы с волосатыми стволами.
У стены одиноко, скрестив руки на груди, стоял Мусатов. Даша подошла к нему.
– Что ж вы, Борис Андреевич, без жены на вечер пришли?
– Маруся не совсем здорова. Ребенка ждем.
– Я знаю. Встретила ее недавно.
– А вы тоже без мужа?
– Нет, вместе. Вон, с Любой Астаховой танцует.
– С Любой...
Мусатов умолк, плотно сжав рот. Ходили слухи, что неладно живет Маруська с Мусатовым и, как до замужества, погуливает на стороне.
Василий с Любой отплясывали польку. Даша глядела на них без ревности – знала, что нет для Васи никого дороже ее, и верила, что не будет.
– Скажите, – вдруг склонившись к Даше, заговорил Мусатов. – Люба Астахова... Когда она пыталась лишить себя жизни... Маруся уверяет, что из-за меня.
– Правда это, – сказала Даша. – Она и теперь вас любит.
– Хорошая девушка, – задумчиво и печально следя за танцующими, проговорил Мусатов.
«Хорошая! Раньше-то где был?» – с укором подумала Даша.
Звонок позвал людей в зал. Василий подошел, взял жену под руку.
Когда зал заполнился и шум угомонился, стали выбирать президиум. Секретарь парткома, седой скуластый человек, записывал фамилии, которые называли в зале.
– Костромин Василий Павлович, – сказал кто-то в задних рядах.
И Василий ушел на сцену. За большим столом, накрытым красным сатином, он сидел рядом с директором, чуть наморщив лоб и сцепив в пальцах большие, окрепшие в работе и огрубевшие руки. Новый костюм ладно облегал его широкие плечи, коричневый галстук с серебряными крапинками спускался по белой рубашке. Не носил раньше Василий галстуков, первый раз купила ему Даша, а повязывать оба не умели – ходил Василий к Угрюмовым, чтоб сделали узел, как надо.
Даша глядела то на Василия, любуясь и гордясь им, то на секретаря парткома, который теперь стоял за трибуной и делал доклад. О революции, о ее жертвах во имя сегодняшнего счастья. О достижениях страны в промышленности и колхозном хозяйстве. О капиталистическом окружении и о происках скрытых внутренних врагов, пытающихся вредить, где только удается.
После доклада началось премирование. Третьим назвали имя Дарьи Костроминой.
Уважением людей богат человек. В работе и в заботе проходят дни и годы, мотаешься от семьи к заводу, от завода к семье, и оглядеться некогда, крутишься, как колесико в часах. Беда, коль никто тебе хоть раз в жизни не скажет, что нужный ты человек, важное дело делаешь и за то тебе спасибо. Без внимания, без доброго слова никнет человек, как колос без дождя.
Под музыку Даша шла на сцену, и так легки были ее шаги, словно не сама она шла, а музыка несла ее на невидимых крыльях. Пять ступенек наверх. В новом шелковом платье, прямая и стремительная, красивая от счастья, от внимания, от яркого света, поднимается Даша по ступенькам, и тысяча людей глядит на нее, и все радуются ее радости и оглушительно бьют в ладоши. Дубравин, улыбаясь, протягивает Даше коробочку с часами. Принимая подарок, Даша обещает работать еще лучше. Василий из президиума улыбчиво глядит на нее, и дороже всех аплодисментов, дороже музыки и часов для Даши этот взгляд. Всю бы жизнь прожить так, чтоб доволен был Василий. Всю бы радость свою подарить ему за любовь...
Каждый день Даша встречала радостно и провожала благодарно, счастливая спокойным, устойчивым счастьем. Бабка Аксинья обычно вставала раньше Даши, а сегодня заспалась. Нюрка тихонько посапывала в своей кроватке. Василий еще не вернулся с ночной смены.
В плите с вечера были уложены лучинки и дрова, просохли за ночь. Едва поднесла Даша спичку – весело вспыхнул огонь. Дверца плиты чуть звякнула. Бабка Аксинья села на постели, заправляя под платок растрепавшиеся волосы.
– Выпей молока с хлебом да ступай, – сказала Даше, – я сготовлю завтрак.
– Поспала бы еще.
– В земле высплюсь, – вздохнув, сказала бабка Аксинья. – Чую: скоро помирать.
– Да ну тебя, бабушка Аксинья, – с досадой проговорила Даша.
– Не серчай, Дашенька. Смерть не спросит, придет да скосит... Ступай пораньше, без спешки. Спешка хуже работы силы выматывает.
Утро выдалось хорошее, безветренное, с легким бодрящим морозцем. Ночная тьма еще не рассеялась, и звезды на небе не погасли. Снег слегка поскрипывал под подошвами подшитых валенок.
До начала смены оставался почти час, и Даша решила идти на завод не ближним путем среди бараков, а сделать крюк через соцгород.
На просторном пустыре, где прежде стояли разделенные огородами почернелые хибары, поднялся огромный четырехэтажный дом. Дом назывался стахановским и был совсем уже готов: и стекла в окнах промыты от известки, и мусор с площадки вывезен. Над окнами узоры выложены из красного и белого кирпича. Полукруглые балконы заделаны железными прутьями. Широкие двери покрашены светло-коричневой краской, никелированные ручки блестят. Такому дому и в Москве не совестно на людной улице стоять.
Даша завистливо разглядывала дом. Хотелось ей, господи, до чего ж хотелось получить квартиру. Нарочно на завод пораньше вышла, чтоб поглядеть, закончена ли стройка. Надежда у Даши на новую квартиру была: дом назывался стахановским, и они с Василием были стахановцами – приходились дому, стало быть, однофамильцами.
Народу на улице становилось все больше, время близилось к последнему гудку, и Даша, вздохнув, собралась двинуться на завод, как вдруг дверь ближнего подъезда отворилась и из нового дома вышел директор завода. Даша с недоумением глядела на высокую его фигуру в просторном сером пальто и пыжиковой шапке. Что делал он в этом незаселенном доме в ранний час?
Директор тоже заметил Дашу, и она поздоровалась. Дубравин улыбнулся, прищурился с хитринкой, поманил Дашу рукой.
– Поди-ка сюда, Даша...
У Даши сердце беспокойно прыгнуло. Что, если попросить сейчас квартиру? Василий не велел просить, да случай такой удачный... С поклона голова не отвалится.
– Идем, – сказал Дубравин, – идем, поглядим наш дом.
«Кабы – наш», – недоверчиво подумала Даша. Она решила повременить пока с просьбой и пошла следом за директором.
Он вернулся в тот подъезд, из которого вышел, и стал подниматься по просторной каменной лестнице. Даша шла за ним. В правой руке директор держал мел. На что мел-то?
Но едва оказались на первой площадке, как Даша сообразила – зачем. На каждой двери была четко написана фамилия. «Угрюмовы», – прочла Даша на одной двери. Угрюмовым дали. Так, может, и нам... Директор поднимался выше, и Даша поднималась за ним. И с каждой ступенькой веселее и тревожнее билось у нее сердце. На что б высоко лезть, если поглядеть только? Поглядеть и здесь можно...
Вот и третий этаж. Даша сначала увидала дверь, что прямо перед лестницей – незнакомая фамилия была на двери. А потом взглянула направо. Крупно, ясно на двери было написано: «Костромины». Даша разглядывала белые буквы, верила и не верила, что видит свою фамилию. Спохватившись, оглянулась на Дубравина. Он улыбался, и смуглое его лицо в полумраке лестничной площадки светилось чистой, доброй радостью.
– Ордера завтра будем торжественно вручать, на собрании.
– Верю и не верю, – растерянно проговорила Даша. – Иван Иванович, зачем вы сами-то надписывать взялись?
– Помечтать захотелось, Дашенька, как тут люди будут жить. Взял список и пришел... Как думаешь, хорошо будут жить новоселы?
– Да в этаком-то дворце совестно жить без радости, – горячо проговорила Даша.
– И я так думаю, – согласился директор.
Стахановский дом заселяли весело. На пустыре поставили скамейки, и духовой оркестр неутомимо играл польки и марши. Дирижер в теплой куртке и в валенках бойко махал палочкой, помогал этой маленькой палочке и головой и всем телом, приседал и распрямлялся, то вытягивался на цыпочки, то с лихостью дергал руками.
Под музыку подъезжали к дому грузовые машины, под музыку стахановцы втаскивали по лестницам перины и лоскутные одеяла, тазы и кастрюли, узлы и сундучки. Каждая квартира была обставлена мебелью, которую завод дарил своим передовикам. Две кровати с никелированными спинками и гардероб в спальне, столы и стулья и даже большое зеркало на ножках. Ольга потом на новоселье сказала Даше, что зеркало это называется трюмо – было такое у инженера, когда она жила в домработницах.
К вечеру из всех окон стахановского дома вкусно пахло пирогами. Первые звуки баянов робко пробились в сумерках с третьего этажа. Где-то грянула песня. А когда темнота окутала город и в небе, точно шляпки новых гвоздей, засверкали звезды, четырехэтажный дом уже весь гремел музыкой и песнями, топотом и выкриками, частушками и звоном балалаек, беспечным хмельным весельем.
Марфа принесла Костроминым столетник в глиняном горшке, расцеловала Дашу и Василия. Подмигнула Даше:
– Сладкий у тебя мужик.
– Парнишка-то у тебя с кем? – спросила Даша.
– Старики нянчатся.
Марфа давно ушла из барака – подыскала комнатку на окраине города у одиноких стариков. Перед тем, как поселиться, предупредила их: «Я баба одинокая, а горячая. Когда мужичка приведу погостить – не посетуйте». «Без скандалов чтоб», – попросил старик. «У меня не поскандалят», – заверила Марфа.
Мужичков Марфа приводила тихих, старики только по шепоту за стенкой догадывались, что Марфа ночует вдвоем. А когда родила Кузьму, одинокие хозяева взялись нянчиться с ним, как с родным внуком, даже отговорили Марфу отдавать сына в ясли. Если у Марфы спрашивали, кто приходится Кузе отцом, она отшучивалась: «Откуда я знаю? В темноте варганила. В темноте все мужики одинаковы».
Пришла Ольга, отложив ради праздника свой дипломный проект. Была она по-прежнему тоненькая, волосы носила короткие, по-мальчишечьи, а глаза казались усталыми и грустными. Подняла на руки Нюру, прижала к груди:
– А у нас с Наумом нету. Так и проживем бездетными.
– Будут еще, – сказала Даша.
Василий пригласил на новоселье двух машинистов с женами и Степана Годунова. Степан отслужил действительную и вновь поступил на завод, откуда изгнали его перед самым пуском. С Василием они вместе играли в драмкружке.
– Не к добру эти хоромины, – говорила, склонившись к Любе, бабка Аксинья. – Разбалуются люди. Какая ж это жизнь – ни по воду, ни до ветру из жилья выходить не надобно. В баню захотел – и баня тебе тут же, поверни кран да купайся. Лень нападет на баб от такой жизни, попомни мое слово.
– Да что ты, бабушка Аксинья, – улыбалась Люба. – Радоваться надо такой квартире.
– Я и то радуюсь. Ты ванну-то видала ли?
И увела Любу бабка Аксинья, и восторгалась, показывая, как крутятся те самые сверкающие никелем краны, от которых только что прочила вред.
Угрюмов веселил компанию шутками и анекдотами, стараясь больше для своего брата мужчин, для чего и удалялся с ними в кухню якобы с намерением покурить.
Настя на баяне грянула «яблочко». Трехлетний Митя первым выскочил на середину комнаты, начал довольно бойко и в такт музыке топать ножонками.
– А ну-ка, Дарья, спляши с сыном.
Даша не заставила себя просить дважды. Вышла в круг, нарядная в новом маркизетовом платье с оборочкой, чуть располневшая, но молодая и крепкая, с ясной счастливой улыбкой на губах. Сперва только вроде бы в шутку попробовала с Митей плясать, а после разошлась – не удержишь, каблуки с такой бойкостью долбили пол, словно норовила Дарья насквозь пробить новые плахи. Василий с Нюркой на руках стоял, прислонившись к дверной колоде, смотрел на жену и на Митю, старавшегося не отстать в пляске от матери. Вовсе замотался парнишка, лоб у него, как росой, покрылся потом, а не отступался. Настя заметила, что у Мити силенки на исходе, угомонила баян.
– Ух ты, герой! – сказала Люба и, подхватив Митю, подбросила к потолку.
Даша отступила к окну, подняла ладони к разгоряченным щекам. Степан подошел к ней, негромко, со вздохом сказал:
– Эх, Дарья...
– Что – Дарья?
– Знаешь – что...
И хоть ни к чему было Даше, хоть не было для нее человека милей Василия, а радостно пощекотал сердце горячий взгляд Степана и горькое его: «Эх, Дарья...» «То-то ненасытные мы, бабы», – подумала Даша.
Год выпал неспокойный. Все чаще звучали черные, словно несмываемая позорная печать, слова: враг народа.
В Дашином цехе вредители показали свои когти: в ночную смену приключился взрыв. Сколько пугал Мусатов, что может такое случиться при небрежности, все ничего, сходило. А тут и процесс уже стал безопасней, и управлять аппаратами лучше научились, но грянула беда. Даша в ту смену не работала, с чужих слов знала. Ахнуло в цехе, будто громом ударило, крышка с одного аппарата сорвалась, полетела по цеху, как шальная. Анна Садыкова как раз вентиль подкручивала, понять не успела, что за грохот, а крышка ударилась в руку и напрочь оторвала по локоть. Кровь хлынула струей, закричала Анна безумным голосом, рухнула без памяти на пол. В один миг сделалась калекой.
У Анны Садыковой четверо детей. Старшему пять годов. Без руки – что за хозяйка? Хватят горя и она и Ахмет.
Даша с Василием живут в новой квартире хорошо, все у них есть, и деньги, и почет, вещи покупают, какие приглянутся, дети растут здоровыми. Но чужие печали не проходят мимо сердца, общая тревога, как заразная болезнь, у порога стоит.
Однажды, месяца через два после взрыва, при котором пострадала Анна Садыкова, Даша, войдя в цех, ощутила какую-то особенную настороженную тишину.
Постороннему человеку вовсе не показалось бы, что в цехе тихо. Газ, как обычно, шипел в аппаратах, вентилятор тянул свой однообразный напев, где-то в глубине пролета позвякивало временами железо – там ремонтировали разобранный аппарат. Но голосов человеческих не было слышно. А до смены оставалось еще минут пятнадцать, всегда перед сменой аппаратчицы собирались кучками, подшучивали друг над другом, смеялись, сны рассказывали, обсуждали вчерашнее кино.
Сегодня до гудка разбрелись по своим местам. Молчат, будто онемели. Где Настя-заводила? А, вон она... Стоит возле аппарата, глядит в одну точку. Глядит и молчит. Да что ж там так долго разглядывать? И лицом невеселая, словно потеряла что. Не беда ли у нее случилась? Почему тогда одна? Знали бы люди. Все на заводе вместе избывают – и работу, и радость, и беду. Да и как иначе? Сроднились давно.
Стояла Настя неподвижно, глядела в одну точку. Даша медленно направилась к ней. Подошла вплотную, остановилась за спиной.
– Настя!
Настя вздрогнула.
– Не слыхала, когда ты подошла...
Глаза ее глядели мимо Даши, чужие были глаза, далекие. Видела Даша, что не ко времени подошла, не хотелось Насте с ней разговаривать.
– Ты почто такая хмурая?
Настя испуганно огляделась.
– Да чего ты, как шальная, озираешься?
– Тише, – прошипела Настя. – Тише ты... Мусатова арестовали, – шепнула она Даше в самое ухо так, что щекотно сделалось от ее дыхания.
– Как... арестовали? За что?
– Враг народа он, – едва слышно объяснила Настя.
– Не может быть...
– Ночью увезли, – все тем же свистящим опасливым шепотом добавила Настя.
И быстро пошла прочь. Даша глядела ей вслед. Торопилась Настя уйти, как от погони. Разом соскочил с нее гордый задор. Страхом повело душу.
Да что же это такое? – потерянно думала Даша. – Мусатов – враг народа... Не может быть того. Переживал он за производство. Людей учил. Успехам нашим радовался, как большому празднику. Завод ему роднее дома был. Кто-то сказал: враг... И забрали. Человека просто забрать. Он смирный – Мусатов. Ко всем по-хорошему относился. А теперь за него заступиться некому. А может, не знаю я чего-то? Может, правда, враги. Они хитрые – враги. Взрыв был. Руку Анне оторвало. Может, нарочно устроили? Мусатов и еще кто-то с ним...
Толклись на месте Дашины мысли, и не было им пути вперед, не могла, не умела Даша отыскать этот путь.
С завода вышла она растерянная и подавленная. Она представила себе, как с тихим зловещим гуденьем подъехал в ночи к коттеджу «черный ворон», как постучали в дверь... В доме, наверное, уже спали. В такое уж время «они» приезжают – когда люди спят. Маруська небось первая вскочила.
И вдруг Даша остановилась посреди дороги, будто наткнулась на невидимую веревку. Маруська! Она ведь беременная, последние дни ходит, а тут такая беда... Вот тебе и жена инженера! Была жена инженера – уважение и почет, а уж женой врага народа не дай бог никому оказаться. Шарахаются люди прочь, ровно от зачумленной. Друзья все – в сторону, а бывает – и родня отрекается.
Все обиды, все Дашины раздоры с Маруськой отошли прочь, позабылись. На миг увидела Даша Маруську молодой девкой, там еще, в Леоновке, на посиделках. Поет Маруська частушки, широкие белые зубы сверкают в озорной беззаботной улыбке, горят весельем цыганские глаза... И тут же заслонила ту, деревенскую Маруську, располневшая инженерша с большим животом, с темными пятнами на лице, с надменно вскинутой головой.
Что она теперь? Ревет, поди... Ее в доброе-то время бабы не любили, теперь же и вовсе никому не нужна. Иная еще позлорадствует на горе. Не больно дружили Даша с Маруськой в Леоновке, а на стройке по разным тропкам развела их судьба, да не время теперь в том разбираться. Даша свернула вправо, в широкий переулок между бараками и сараями, и направилась на окраину города, где стояли нарядные итеэровские коттеджи. В один из них прокралась теперь беда.
Ни разу не была Даша в Маруськином доме. Дом она, однако, знала. На краю поселка стоял дом Мусатовых. Вечернее солнце золотыми отблесками играло в стеклах.
Даша поднялась на невысокое крылечко, потянула дверь. Дверь оказалась на задвижке. Белая кнопочка виднелась на колоде.
Ни звука не было в доме, и Даша позвонила трижды, прежде чем там, за застекленной терраской, скрипнула дверь.
– Кто? – спросила Маруська слабым голосом и глухо, сквозь зубы, застонала. – О-о...
– Это я, Дарья...
– О-о...
Звякнула щеколда. Даша сама отворила дверь и, следом за Маруськой миновав терраску, вошла в дом. Широкая бархатная дорожка, зеленая с красными каемками, покрывала пол в передней.
– Про-ходи... сюда... – сквозь стоны позвала Маруська.
Ну и перевернуло же Маруську несчастье! Распухшее красное лицо выглядело страдальческим и жалким, волосы космами свисали на плечи, под небрежно запахнутым халатом бугром выпирал живот. Маруська, обхватив живот обеими руками, взад-вперед металась по комнате, словно в туфли ей насыпали горячих углей.
– Правда ли, что Бориса Андреевича... – заговорила Даша.
– Ой, правда, – крикнула Маруська, перебивая. – Загубил он мою жизнь, начисто загубил...
– Может, ошибка, – сказала Даша.
– Говорит: не виноват, – всхлипывая, проговорила Маруська. – При них прямо: «Не виноват я, Маруся...» А мне-то легче, виноват ли, не виноват ли – все одно жена врага народа теперь... А-а-а!.. – не своим голосом вдруг взревела Маруська, упала на кровать лицом вниз и принялась кататься по постели на животе.
Тут только сообразила Даша, что настало Маруське время родить. Даша подбежала к кровати, стала перевертывать Маруську на спину.
– Терпи, Маруся... Терпи, бабонька... Родишь, знать, сейчас... Не дави живот, не надо, не мучь ребеночка...
Маруська уже орала во всю мочь, но послушалась-таки Дашу, легла, как надо.
– Ты полежи, потерпи, я пойду, воды согрею... – бормотала Даша.
Маруська схватила ее за руку:
– Не уходи!
Даша рассердилась, вырвала руку.
– Да что ты, в самом деле, как маленькая? Лежи да слушайся, не то и вправду уйду.
Маруська угомонилась. То ли терпения набралась, то ли боль ее отпустила. Даша ушла в кухню, растопила печь – дрова и лучины оказались приготовлены, поставила в большой эмалированной кастрюле кипятить воду. Только было собралась проведать Маруську, как из спальни донесся дикий нечеловеческий вопль. Даша опрометью кинулась в спальню.
Когда добежала, Маруська уж смолкла. Лежала бледная, губы у нее тряслись, крупные капли пота блестели на лбу.
– Чего ты... – начала было Даша.
И тут новый, громкий и требовательный крик раздался в комнате. Даша метнулась к кровати и возле завешенной тюлем никелированной спинки увидела новорожденного. Бережно обхватила ладонями, подняла влажного красного человечка, торжественно сказала Маруське:








