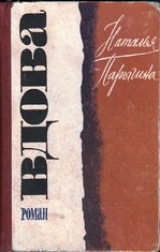
Текст книги "Вдова"
Автор книги: Наталья Парыгина
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 29 страниц)
Вечер темный, молчаливый, ни огонька, ни звездочки не видать. Тучи уж намертво затянули небо. Дождь начал накрапывать. И вдруг подумалось Даше, что, может, неправда это, никакой нету войны, так, ошиблись на границе, постреляют да перестанут.
– Вася, а может, не разгорится она, война-то?
Василий на это ничего не ответил.
– Митя уснул.
Только и сказал. Осторожно взял мальчика под коленки и за плечи, на телегу рядом с Нюркой положил, снял пиджак и укрыл их. А сам к Даше придвинулся.
– Трудно, – сказал, – придется тебе, Даша.
И опять молчали.
Даше казалось – дороге конца не будет.
– Да скоро ли станция?
– Вон уж огни, – ответил брат.
Тут и Даша увидела – верно, светятся вдалеке огонечки, мутно сквозь дождь светятся.
Доехали. Ребят разбудили, в вокзал увели. Вокзал был небольшой, две лавки всего стояли, бачок с водой. Лавки обе заняты. Дарья устроила ребят в уголке на полу. Егор не уходил, тут же топтался. Тронул Дашу за локоть:
– Поеду я, Даша... С ребятами надо побыть последние часочки.
Тут только сообразила Даша, что Егор тоже на войну собирается. Останется Клавдия с двумя ребятами. С тремя – третий вот-вот народится. Да что же это такое? Да неужто правда?
Будто впервые с тех пор, как в Леоновку приехала, увидала Даша брата. Сапоги его пыльные. Костюм серый, мятый, из дешевой простой материи. Картуз старенький. Лицо его печальное, тронутое мелкими морщинками.
– Егор!
Кинулась Даша брату на шею, припала к груди, заплакала. Егор погладил ее по плечам.
– Ничего, Даша. Ничего.
С Василием Егор расцеловался.
– Еще на фронте встретимся, – сказал Василий.
Егор серьезно ему ответил:
– Вполне возможное дело. Ну, поехал я...
Он тронул лошадь. Телега заскрипела. Недолго видела его Даша – скоро и лошадь, и телега, и Егор потонули в дожде и мраке. Только скрип колес слышался еще некоторое время. Потом и он пропал.
Собирала Даша солдата на фронт. По всей стране собирали мужчин на фронт жены, матери и сестры. Мыло, портянки, пару белья уложила Даша в заплечный мешок. Кружку эмалированную. Карточку семейную сняла со стены, обернула газетой, дала с собой.
В последнюю ночь оба не спали. Целовал Василий жену, гладил руками ласковыми, в волосы лицом зарывался. И все просил:
– Даша, воли над собой не теряй, что ни случится – не теряй воли, о детях наших помни. Маленькую береги.
Дарья свое твердила:
– Ждать я тебя буду, Вася. Ни на час единый о тебе не забуду. Любви нашей вовек не изменю.
Та последняя ночь чем-то на первую походила – когда в Леоновке, в недостроенном доме, под небом открытым сделались они мужем и женой. Не померкла любовь за девять лет, а окрепла, и словно бы одна душа была теперь на двоих. Война без пощады своим острым мечом ее рассекла.
Было – и поплакала Даша в ту ночь, смочила Василию рубашку слезами солеными. Он не унимал жену, не мешал ей плакать, только слезы утирал ладонями с ее щек. Даша. сама подумала: «Да что ж я ему последнюю ноченьку перед разлукой плачем своим омрачаю?» И упрятала вглубь печаль.
– Воротишься ты к нам, – шептала Василию в ухо, – знаю я, верю я, – воротишься, не всех же убивают на войне...
Увозили их рано утром. Дарья ребят до свету разбудила, все на станцию пошли. Василий Варю на руках нес, а сын рядом шагал – серьезный, насупленный. Хмурую непроспавшуюся Нюрку Дарья тянула за руку.
Весь Серебровск сбился на станции. Оркестр заводской на перроне выстроился. Речи говорили. Бабы выли. Музыка играла.
Заплаканная мать Наума Нечаева, обхватив его за шею руками, прижималась щекой к груди Наума.
– Сыночок, родной мой, единственный ты мой.
– Не плачь, мама, – уговаривал он. – Не плачь. Не надо.
С трудом разжал руки матери, осторожно отстранил ее, Ольгу обнял.
– Я тоже уйду на фронт, Наум, – сказала Ольга.
Суровая Дора казалась сегодня ниже ростом, мокрыми глазами глядела в лицо Угрюмову, ладонями гладила его щеки. Сережка держал отца за руку.
– Полно плакать, – уговаривал Угрюмов Дору, – не в слезах же нам фрица топить. Мы с ним и без слез управимся.
– Не бывает война без слез, – покачала головой Дора.
Алена пришла на вокзал в нарядном праздничном платье, с аккуратно заплетенной и уложенной на затылке косой. Хотела, чтоб запомнил ее Андрей красивой. Любили они с Андреем друг друга. Бывало, на завод идут в дождливую погоду, так он ее при народе через лужи на руках переносит.
Теперь Андрей держал на руках пятилетнего сына.
– Береги, Санька, мать, – говорил Андрей. – Слушайся. Мать у нас с тобой хорошая. – Он положил свободную руку на гладко причесанную голову Алены. – Маленькая, а хорошая...
Фрося стояла тут же, рядом с Аленой. Десять лет прошло с тех пор, как пришла она с сестрой в Серебровск. Школу окончила Фрося, собиралась ехать учиться в медицинский институт. А сейчас, провожая фронтовиков, стояла и думала, что не в институт ей надо, а на фронт, раненых перевязывать да выносить с поля боя.
Долго-долго гудел паровозный гудок. Поднимались солдаты в вагоны. Перевешивались в открытые окна, чтоб лишние минуты поглядеть на милые лица.
Михаил Кочергин из окна кричал жене:
– Баян сбереги, Настя!
Повернулись колеса вагонные. Повернулись, а женщины на вагонах висят, за окна цепляются и за поручни, того гляди, которая-нибудь под колеса угодит. Даша не лезла, в стороне стояла, Варя на руках – куда с ней полезешь. Василий в окно глядел. Даша не плакала, не хотела тревожить Василия слезами. Ему на фронте своих бед хватит.
Остановил машинист поезд. Милиция зашумела, стали отгонять женщин от вагонов. Отстранили кое-как. Опять паровоз загудел – коротко в этот раз. Колеса повернулись. Медленно-медленно. И снова кинулись люди к вагонам.
Только в третий раз окончательно тронулся поезд. Быстрей-быстрей завертелись колеса, ушел вперед тот вагон, в котором Василий был, чужие лица глядят из окон, бабы ревут, оркестр изо всех сил гремит. Вот и последний вагон мимо проскочил. Изогнулся поезд на повороте, за лес скользнул. И не видать больше.
Анна, жена Ахмета Садыкова, стояла на перроне, глядела на пустые рельсы, вроде ждала, что вот-вот вернется поезд, на котором уехал Ахмет. Пятеро ребятишек сбились возле нее. Старшая девочка тянула Анну за руку.
– Мамка, пойдем! Пойдем же!
Анна будто не слышала, не чувствовала, стояла каменно и отрешенным взглядом глядела на рельсы. Даша потрясла ее за плечо:
– Анна! Пойдем-ка... Пойдем, бабонька, по домам.
Анна вздрогнула, вскинула на Дашу сухие глаза.
– Куда я без мужика с ними, калека-то?
– Одна не будешь, – сказала Даша. – Среди людей остаешься...
– Люди моих ребятишек не станут кормить...
И пошла прочь от Даши.
«Какое же сегодня число? – подумала Даша, будто не было сейчас важней вопроса. И припомнила: двадцать шестое июня. Завтра – двадцать седьмое...»
Она шла с Варькой на руках, оглядывалась, чтоб Митя с Нюркой не шибко отстали, а в голове все само собой вертелось: двадцать седьмое, двадцать седьмое... И долго не могла понять, к чему ей задался этот завтрашний день. Лишь у самого дома сообразила: день рождения у нее завтра, вот что.
Назавтра исполнилось Дарье Костроминой двадцать восемь лет.
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ
ВОЙНА
1
В первый месяц войны жизнь в Серебровске мало изменилась. Только вроде женщин стало больше. Куда ни ткнись – на завод ли, в магазин ли пойдешь, пробежишь ли по какому делу улицей – везде платки да юбки, юбки да платки. Вымел мужиков крутой смерч мобилизации. Да и женщин захватил краем. Ольга Нечаева, как-то вдруг собравшись, уехала в армию... А в остальном – все по-прежнему. Жили. Работали. Брали обязательства – по две нормы выполнять для фронта. Писем ждали.
Но с каждой неделей ставила война на тыловом городе свои приметы. Затемнение ввели, и по ночам непривычный мрак заполнял тихие улицы. Опустели полки в магазинах, продукты стали давать по карточкам. Черные тарелки репродукторов появились на столбах, люди стояли перед ними молчаливыми кучками, слушая сводки Совинформбюро. Первые похоронки принесли почтальоны. Дарья, спустя годы, думала иногда, вспоминая войну: и сколько же почтальоны в своих кожаных сумках за четыре военных года горя перетаскали! В казенных конвертах – одной семьи беда. На страницах газетных – многих городов и деревень печаль.
Ростов сдали.
На Севастополь падают фашистские бомбы.
Под Одессой идут бои.
Отступали наши. Литву захватил Гитлер, в Латвии воевал, от Белоруссии отгрыз кусок, на Украине насильничал.
Отступали наши под натиском превосходящих сил противника. Читала Дарья газеты. Радио слушала. Сердце горело от боли за родную землю. И не понимала: как же так? Недавно совсем, полгода не прошло – пели: «Чужой земли мы не хотим ни пяди, но и своей вершка не отдадим». Вершка... Но были в одной песне, которую мало кто помнит нынче (песни – как люди: живут свой век и умирают)... были в той песне бессмертно-верные слова о народе: «Как один человек, весь советский народ за свободную Родину встанет...» Крепче стали люди. Будто хранил каждый в запасе силу тайную, берег для горькой годины, как заботливый человек хлеб хранит про черный день.
Чуть не ползавода ушло на фронт, а завод работает. Стоят женщины у аппаратов по двенадцать часов. Недавние домохозяйки с гаечными ключами в руках одолевают слесарные премудрости. Ребятишки, школьники недозрелые, по утрам, недоспав, сами глаза трут, а сами к проходной тянутся. Кому невмоготу сделается – поплачет втихомолку, а на люди опять без жалоб выходит. А заноет какая баба характером послабее – кто-нибудь ей напомнит:
– На фронте нашим тяжелее.
Дарья не ныла. Не из тех. Подымала раным-рано ребятишек, собирала Митю в школу. Нюрку по пути на завод в садик уводила, Варю – в ясли. И чуть не бегом – к проходной, не опоздать бы к смене.
Долог день заводской, господи, как долог! Сверхурочные ввели. По полторы смены приходится работать. Митя – один. Не обварился бы. Пожару бы не наделал... Будет ли, нет ли сегодня письмо?
Первое письмо от Василия пришло недели через две после разлуки. Все хорошо, писал, товарищи хорошие, и командиры хорошие, и немца скоро прогоним. С Михаилом Кочергиным, писал, попал в один взвод. На обертке от пачки махорочной было написано письмо, не случилось, видно, под рукой другого листочка.
Прогоним скоро немца, писал Василий. И товарищ Сталин в своей речи третьего июля сказал, что лучшие дивизии врага и лучшие части его авиации уже разбиты. Два человека, которым безоглядно верила Дарья. Но немец лез и лез вперед, не было ему удержу. Рушились города. Горели села. Осыпались неубранные хлеба. Вырастали бессчетные могилы.
По радио редко назывались города и села, которые занял враг. На всех фронтах наши войска вели упорные бои, писали газеты. Иногда фронт называли: Западный, Южный. А Дарья думала о Леоновке. Что, если захватили? Клавдия как же с ребятами? Иван Хомутов, председатель, коммунист? На фронт не возьмут – хромой он. Лидия Николаевна с девочкой? Всех, всех до единого перебрала Даша в памяти своих односельчан, от избы к избе прошла по родной деревне. И тут же в первый раз трезво, затомившись сердцем, подумала о Серебровске: а вдруг сюда дойдет немец? Недалеко уж...
Да когда же обрубят когти проклятому зверю? Через сколько лет, через сколько бед суждено пройти людям, прежде чем вернется мирная жизнь?
По ночам Серебровск лежал во тьме, не светился ни единым огонечком. И завод стоял темный, будто спал. Не спал он, работал. Но не пропускали и малого лучика картонные и фанерные щиты, которыми были закрыты окна.
Ночью вражеским самолетам не отыскать в черной степи черный город. Днем не укрыться городу от врага. Но все как-то не верилось, что может вдруг появиться в чистом небе гудящая смерть.
Бомбардировщики налетели утром. Дарья была дома, только пришла с ночной смены, села на кровать, оперлась о стенку усталой спиной, дала Варе грудь. Митя в школу ушел, Нюрка возилась на полу с резиновой куклой. И вдруг завыла сирена. Протяжно, тревожно, пронзительно, и долго тянулся над городом этот пугающий звук. Варя выпустила грудь изо рта и насторожилась, Нюрка бросила куклу, уткнулась головой Дарье в колени.
Сирена гудела раньше, объявляя учебную тревогу, чтоб привыкли люди уходить в бомбоубежище. Дарья подумала, что, может, и сейчас – учебная, но в репродукторе, который она теперь не выключала, торопливый голос предупреждал о возможном налете вражеских самолетов. «Митя-то! – испугалась Дарья. Как бы в школу не угодила бомба...» Она сперва подумала о Мите и о школе, а потом уже о себе.
Дарья отстранила Нюрку, встала с постели. Варе передалась тревога матери, малютка заревела. Дарья принялась ее, ревущую, завертывать в байковое одеяло, но руки у нее тряслись, Варя дрыгалась; и ничего не получалось.
– Да помоги же ты, поддержи ей руки-то! – крикнула Дарья Нюрке.
Сирена, уныло снижая звук, смолкла. И тут, в тишине, Дарья услышала отдаленный гул самолетов.
– Бомбить нас будут, мам? Бомбить? – спрашивала Нюрка со страхом и любопытством.
«На улицу надо, – подумала Дарья. – К Мите ли бежать, в подвал ли...»
Унизительное, никогда прежде не испытанное чувство слепого животного страха охватило Дарью, казалось, что вот-вот дом рухнет и придавит ее с ребятами, и она, прижимая к груди Варю, металась по комнате, почти потеряв способность управлять собой.
Разбойничий гул самолетов набирал силу, приближался, что-то волчье, хищное, ужасное было в этом гуденье. Варя орала во все горло, то ли испугавшись воя сирены и самолетов, то ли, почувствовав инстинктивно ужас матери перед надвигающейся напастью.
– Мамка, боюсь! – закричала Нюрка.
Самолеты рычали и выли совсем близко, кажется, над самой головой, и Дарья невольно съежилась, прижимая Варю к груди. Нюрка вцепилась в Дарьино платье.
– Мамка, бою-усь!
И тут ахнуло, как гром ударил, только не с неба гром, а из земли. Огромный дом вздрогнул, в кухне загремели, падая, кастрюли. Дарья, сама не зная зачем, опустилась на пол, села, вытянув ноги, обхватила руками детей.
– Ничего, – твердила больше не для Нюрки, а для себя самой, – ничего, сейчас все кончится.
Опять ударил гром и вздрогнула земля, но уже дальше.
– Только бы не в школу... Только бы в школу не попали...
А самолеты все гудели, и тяжелые ухающие звуки сотрясали воздух, словно стонала раненая земля. В окнах звенели стекла, известка сыпалась с потолка, и показалось Дарье, что стена валится на нее и на ребят. Дарья вскрикнула. Но стена качнулась и встала на место. И – тишина вокруг.
На улице тишина.
И в доме тишина. Варя перестала плакать.
– Побудьте тут, – поднимаясь с полу, сказала Дарья Нюрке, – посиди с Варей дома, я скоро.
– Бою-усь! – заплакала Нюрка.
– Перестань! – прикрикнула Дарья. – Не будет боле ничего. Покачай Варю.
Она положила Варю в качалку, на ходу погладила по голове притихшую, испуганную Нюрку и выбежала из дому, закрыв детей на замок. Ботинки с тревожной торопливостью стучали по ступеням лестницы. Почудилось Дарье, что последняя бомба ударила в том краю Серебровска, где школа. Дети там... Митя! Неужто на детей нацелилась смерть?
Двор был пуст, но по улице бежал народ. Дарья выскочила наперерез лысому старичонке, который был не так прыток, как другие.
– Дедушка, куда они... бомбы-то? Не в школу?
– Не, не в школу. В жавод. В жавод угодила. А другая – в хлебный магажин.
В завод! В тревоге за детей забыла Дарья о заводе.
– Народ был в магажине-то...
Дарья кинулась туда, куда бежали люди. Вот и хлебный. Но люди бежали дальше. Значит, не здесь. Через два квартала, в старой части Серебровска, еще не видя трагических следов бомбежки, услыхала Дарья многоголосый, горестный бабий вой.
На месте хлебного магазина, в который прежде, пока не построили магазин в соцгородке, ходила Дарья, торчала часть кирпичной стены с неровным краем, и мертвой грудой громоздились обломки здания. Дружинники с красными повязками на рукавах торопливо раскидывали и разгребали кирпичи лопатами, молоденький милиционер упрашивал людей:
– Товарищи, расходитесь! Расходитесь, товарищи...
– Дочушка моя-а!.. – охрипшим голосом кричала сквозь рыданья седая женщина с обезумевшими от горя глазами. – Дочушка моя! На фронт рвалась. Не пустила я ее на фронт. Убили мою Сонечку...
Дружинники торопливо разбирали кирпичный завал, и в одном месте показалась из груды обломков женская нога в коричневом ботинке. Толпа глухо охнула.
– Помогайте, бабы, что ж мы стоим.
– Не все, не все! – закричал милиционер. – Свалку устроите.
Дарью оттеснили в сторону, к пустырю. Она увидала на земле, в пыли круглые буханки хлеба. Люди смотрели на хлеб и не решались поднять. Высокая старуха в черном вышла из толпы, наклонилась над ближней буханкой.
– Хлебушек не виноват, – словно бы оправдываясь и ни к кому не обращаясь, проговорила она.
– Бабушка, на нем кровь! – зазвенел испуганный детский голос. – Кровь на хлебе-то...
Старуха схватила девочку за руку, поспешно выбралась из толпы, бросив буханку хлеба, на которую брызнула человеческая кровь.
Что-то непередаваемо жуткое, кощунственное было в этом сочетании: хлеб и кровь. Потрясенная, стояла Дарья среди людей, глядела на развороченную землю.
– Дочушку мою, люди, дочушку мою убили, – сквозь рыданья твердила седая женщина.
Новое, упрямое, гневное чувство вызревало в Дарье. И если б показался в эту минуту из-за угла вражеский танк и сказали Дарье: прегради ему путь своим телом – встала бы, раскинув руки, и погибла за людей.
Но не гибель ее, а жизнь нужна была стране, руки ее и воля.
В конце сентября остановился, замер завод. Вышел приказ разбирать оборудование, грузить на поезда, готовить в отъезд.
Снова досталась женщинам тяжелая мужская работа. Но строили завод с надеждой и радостью, от этого всякая тяжесть вдвое легче казалась. Разбирали же теперь аппараты в тревоге и в горе, и оттого железо становилось вдвое тяжелее.
Ухватившись за лямку вместе с другими работницами, тянула Дарья, напрягаясь изо всех сил, поставленный на катки компрессор. Скрипели катки жалобно и натужно, но компрессор подавался потихоньку вперед, к тупичковому отростку железной дороги, к пустым платформам.
Доволокли до платформы компрессор, оставили. На платформу станки краном грузили мужики, что остались на заводе по броне, по старости да малолетству. А женщины в обратный путь двинулись не спеша, пока идешь от дороги до цеха – только и роздыху.
– Что, Даша, приуныла?
Дора положила руку Дарье на плечи, чуть отвела ее в сторону от других женщин.
– Думы замучили, – призналась Дарья. – Сама работаю, а сама от заботы не избавлюсь. Как мне в Сибирь с тремя несмышленышами ехать? Зима надвигается. Грудному дитю не выдержать такой дороги.
– Не одна поедешь. Весь завод эвакуируется. Не бросим в беде – поможем.
– Боюсь я...
– Не бойся. Ехать надо. И не сокрушайся заранее. У меня тоже двое: сын да старушка.
Дошли до цеха. Оборвался разговор. Да не развеялись от него беспокойные думы.
А если не ехать в эвакуацию? Если здесь остаться, в своем городе, в обжитом углу? Немец придет да уйдет. Не на век он. И в газетах пишут: «Наши войска временно оставили город...» Временно, пишут. Да хоть бы и не писали – кто поверит, что навсегда?
Да как же это... Как же под немцем-то остаться? Не могу я. Не простит мне Вася. Коммунист он. А я – жена коммуниста. Пишут: хуже зверей фашисты. Не пощадят они детей моих. Ехать надо. В эвакуацию.
Страшно мне – в Сибирь. Далек путь. А у меня девочка крохотная. Обещала я Васе детей сберечь. В пути тяжком и бесконечном сумею ли сберечь?
Металась Дарья мыслями взад-вперед, точно мышь в мышеловке, и ничего решить не могла. Сама решить не могла, и Дора ее не убедила. Неизвестно, как бы она поступила, если б однажды не встретилась случайно на улице с Ксенией Опенкиной.
– Что, увозят завод-то? – спросила Ксения, разглядывая с пригорка через заводской забор груженые, укрытые брезентом платформы.
– Увозят, – кивнула Дарья.
– И ты едешь?
– Куда же мне от завода...
– Да что ты к нему, к заводу-то, цепью что ли, прикована? Оставайся, не тронет тебя немец, ему города нужны да заводы, а мы как жили, так и будем жить.
Острием невидимым царапнули Дарью слова Ксении.
– Как жили? – вскинув голову и жестко глядя в узкие глаза Ксении, повторила Дарья. – При фашистах будем жить, как при советской власти жили? Ах ты, шкура продажная...
– Да что ты, что ты, – замахала руками Ксения, точно черта отгоняла, – я сама думаю эвакуироваться. Мне что – я без детей, а тебе с троими-то...
– О моих детях не тебе заботиться, – отрезала Дарья и, круто повернувшись, пошла прочь.
В стычке с Ксенией пришел конец Дашиным сомнениям. И не цепью к заводу прикована, да бывает сила крепче цепей. Одинокой вороне тоскливо на заборе. А я с людьми поеду, помогут кручину развеять, беду избыть. Завод в Сибирь – и я в Сибирь.
Дарья выгребла из ящиков комода все вещи, кучей свалила на пол, сортировала – что с собой взять, что оставить. И небогатая справа, а всякую тряпочку жаль кинуть: и простыню с подзором – бабка Аксинья еще вязала подзор, и штанишки Митины с заплаткой на одной коленке – не от ветхости заплата, за гвоздь зацепил, порвал, и даже Варины распашонки, тесные уже и ненужные, жалко оставлять на разграбление.
Варя спала. Митя играл во дворе с ребятами, одна Нюрка сидела на корточках перед пестрым ворохом вещей и с любопытством наблюдала за действиями матери.
– На, – бросила ей Дарья Варину распашонку, – кукле чего-нибудь сшей.
– Мне? – схватив распашонку и не веря внезапно свалившемуся счастью, переспросила Нюрка. – И резать можно?
– Режь, режь. Вот еще...
Митина ситцевая рубашка с продранными локтями отлетела в сторону. Локти можно бы и зашить либо рукава напрочь отрезать, да на что теперь... С собой и целую одежду всю не заберешь.
Резко дзенькнул электрический звонок. – «Не почта ли?» – встрепенулась Дарья и кинулась открывать.
Нет. Не почта. Алена пришла. Волосы выбились из-под небрежно повязанной косынки, в синих глазах – растерянность.
– Фроська моя задумала на фронт идти, – заговорила она, едва переступив порог. – Вбила себе в голову блажь, ни лаской, ни таской не могу ее образумить. Помоги ты ее отговорить, меня не слушает, может, твое слово больше потянет.
Дарья провела Алену в комнату с разоренным комодом, с раскиданным по полу бельем. Алена, казалось, не заметила беспорядка, ничего не спросила, поглощенная своей тревогой.
– Девчонка ведь! – продолжала она. – Ни росту, ни ума нету... Кабы по мобилизации отправляли – ладно, от мобилизации никуда не денешься, Андрея забрали – не хваталась я за его рубаху. А то ведь сама в пекло лезет! Я, говорит, комсомолка. Я, говорит, обязана на переднем краю быть. Да не все же, я ей говорю, комсомольцы на фронт идут! В деревню поедем – в колхозе станешь работать, хлеб для фронтовиков растить. Я в деревню к Андрюшиной сестре решила ехать, не дойдет, поди-ка, туда немец... Не хочешь в деревню – в эвакуацию собирайся, не перечу я, на заводе работай. Либо в госпиталь ступай, за ранеными ходить. Не слушает! На фронт и на фронт...
– Если накрепко решила – не держи ты ее, Алена, – задумчиво разглаживая на коленях Нюркину рубашку, проговорила Дарья.
– Не держи! – возмущенно повторила Алена. – Как же не держать – сестра ведь она мне, я ее маленькую, на руках нянчила, за мать растила. А теперь на войну отпустить... Не пущу я ее, руки-ноги ей свяжу, в оккупации с ней останусь – не пущу на фронт!
– Зря ты, Алена... Руки-ноги, может, и свяжешь, а душу ведь веревками не обмотаешь. Душа у ней крылатая. Не держи ты ее, Алена.
– Да ведь семнадцать лет ей всего! Не понимает она жизни. Через десять годов, может, спасибо мне скажет, что удержала...
– Кто ее знает, когда человек лучше жизнь понимает – то ли в тридцать, то ли в семнадцать... Я семнадцати сама-одна решила на стройку идти, да и тебе, поди, не больше было. А пока мать слушала – вперекор судьба меня волочила.
– Боюсь я за нее, – с тоской сказала Алена, – пропадет девчонка.
Дарья взглянула ей в лицо и приметила, что как-то вдруг, за три военных месяца постарела Алена. Не столько у рта да у глаз бороздки старили ее, сколько разлитая по лицу озабоченность и печаль. «И я, поди-ка, переменилась», – подумала Дарья. Зеркало стояло на прежнем месте, на комоде, но редко гляделась в него Дарья и наспех, скользом – волосы поправить или платок повязать, а лица своего словно и не видала.
– Мы с тобой на стройку потянулись, – опять заговорила Дарья. – А теперь война. Теперь на фронте она нужнее, потому и рвется туда. Не держи ты ее, Алена, – все равно не удержишь. Проводи по-доброму. Всякий век свои законы ставит, и молодые всего лучше знают, куда время зовет. Пускай идет. Не перечь.
– Я думала – Фросю поможешь мне уговорить, – грустно заметила Алена. – А ты меня уговариваешь.
– Говорю, что думаю. Не серчай.
– Я не серчаю. В дорогу собираешься?
– В дорогу.
– Анна Садыкова тут остается. Куда, говорит, мне, однорукой, с этаким выводком по дорогам мотаться. А я – в деревню вот... В деревне пересидим с мальцом беду, а как отгонят немца – домой воротимся.
Алена встала, затянула потуже косынку на голове, волосы под нее заправила.
– Зайди, Даша, вечером, посиди с нами. Видно, и правда не удержать мне Фросю… Пирог испеку, чаю попьем. С ночным поездом увозят их... На курсы, говорит. Может, пока она на курсах будет, и война кончится?
– Начала ее не чуяли и конца не видать, – сказала Дарья.
Эшелон, с которым уезжала Дарья Костромина, уходил из Серебровска шестнадцатого октября. День выдался солнечный, в садах золотилась неопавшая листва. По платформе ходили женщины с корзинами, продавали яблоки – антоновку.
Настя пришла к поезду с самодельной котомкой за спиной, набитой под завязку, и с баяном. Наказал Михаил сберечь баян, и еще примету сама себе Настя выдумала, что если баян сохранит – и муж с войны вернется. Все бросила, что нажили, только необходимую одежонку да валенки сунула в котомку, а баян никому не доверила, забрала с собой.
– Марфа с мальчонкой бежит, – заметила Люба.
– Где? – спросила Дора, подходя к дверям своего нового жилища – товарного вагона с печкой-буржуйкой посередине. – Марфа! – закричала она. – Марфа! Сю-да...
Марфа споро шла вдоль поезда. Мимо платформ, на которых буграми выпирали под брезентом части аппаратов, моторы, компрессоры, чуть не бегом проносилась, так что пятилетний мальчонка едва поспевал за ней вприскочку, а против товарных вагонов, где люди разместились, замедляла шаги, глядела настойчиво, выискивая кого-то, пока не услышала голос Доры.
– Вон вы где! – обрадованно проговорила Марфа, и улыбка на миг осветила ее широкое рябое лицо. – И Даша тут, и Люба. А Настя-то с вами?
– С нами, с нами, вон сидит.
– Лезь в вагон, чего ж топтаться зря, в вагоне наговоритесь, – сказала Настя.
– Не еду я. Остаюсь.
Марфа, нахмурясь, подтолкнула свободной рукой (в другой у нее был узелок с какими-то вещичками) мальчишку вперед.
– Сына отправляю в Сибирь. Дора согласилась за ним приглядеть.
– Сберегу твоего сына, – серьезно, строго, как клятву, проговорила Дора. – Своего и твоего равно буду беречь.
– Как же это... Сама почто не едешь? – удивилась Настя.
– Остаюсь, – сказала Марфа. – Старик мой захворал. Третий месяц ноги парализованы. Пропадет без меня.
– Какой старик?
– Хозяин. У которого на квартире живу. Да он мне лучше отца. Кузю с бабкой нянчили. Бабка померла, старик один теперь, обезножил. Не могу я его бросить.
– Чужого старика жалеешь, сына родного не жалеешь, – сказала, подходя к двери, Анфиса Уткина. – Да и сама, гляди, при фашистах сгинешь.
– Авось не сгину, – усмехнулась Марфа. – А мальчика увезите. Не хочу, чтобы фашист над Кузей изгалялся. Мне уж как придется, коли больно лихо, так плюну перед смертью в фашистскую харю поганую. Мальчика – сберегите.
– Сбережем, – сказала Дора и протянула руки. – Давай его сюда.
Но мальчишка вдруг проворно отскочил.
– Не хочу! – крикнул упрямо. – Не поеду без мамки!
– Молчи, Кузя. Поезжай. Мамка у тебя незавидная. Колотушками тебя чаще угощает, чем пышками. Теперь подрос – и без меня проживешь.
Но маленький Кузьма перенял от матери твердый характер, который теперь и попытался проявить.
– Не боюсь я твоих колотушек! Не поеду без тебя.
– Дурной ты мой!
Марфа кинула узелок на перрон, подхватила на руки сына, прижала к груди.
– Не забывай мамку-то, слышь, Кузя? Дрянная я, нестоящая, а все – мамка. Может, скоро воротишься. А не свидимся больше, так не забывай.
Кузя стих, обхватив Марфу за шею. Казалось, не расцепит теперь Марфа его ручонки. Но Марфа негромко, с непривычной ласковостью, велела:
– Отпусти, сынок.
Кузя отпустил и заплакал, Марфа подала его в вагон, Дора подхватила, поставила на пол, ладонью вытерла щеки.
– Не плачь, Кузьма. Ты ведь будущий солдат, а солдаты не плачут.
Но будущий солдат громко всхлипывал, порываясь вывалиться из вагона.
Марфа кинула узелок в вагон.
– Одежа тут ему на первый случай. Ну, бабы, прощайте.
И потянулась целоваться. Дарья наклонилась к ней с высокой подножки. Настя спрыгнула, обняла, потом обратно влезла – поезд уж сколько раз гудел, вот-вот тронется. И с другими бабами – все ее тут знали, в Серебровске – расцеловалась Марфа. Дора, оттеснив Кузьму в глубь вагона, простилась с Марфой последней.
– Если что, – сказала Марфа, – в детдом сдайте парнишку. Живут другие, и мой проживет.
– Не сдам, – сказала Дора. – Привезу тебе твоего мальца. А в эвакуации буду ему временная мать, так и знай.
У Марфы заволокло влагой суровые, не приученные к слезам глаза, и что-то вроде хотела сказать она, да паровоз как раз пронзительно загудел и нехотя, медленно тронулся, трудно провернулись колеса, сдвигая с места застоявшийся эшелон.
– Мамка! – закричал Кузьма, кинувшись к двери вагона.
– Дору-то, Кузя, матерью зови, – приказала Марфа сквозь слезы. – Отца нету, так при двух матерях вырастешь...
Марфа сорвала с головы платок, вытерла глаза и махала им вслед эшелону.
– Ни пуха вам, ни пера! Скорей воротиться!..








