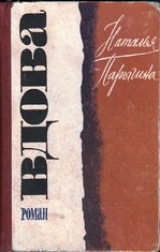
Текст книги "Вдова"
Автор книги: Наталья Парыгина
сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 29 страниц)
– Не слыхать, – поглаживая подбородок, отвечал Яков Петрович. – Перелома настоящего в войне пока нету. Привезем оборудование, а он его разбомбит. Не расчет! Ждать будем, пока подале немца отгонют.
Бойко, на рысях, проскочило жаркое лето. Похолодало. Иней пал. Снегом запахло. Поняла Дарья: и эту зиму в Сибири придется зимовать. В суровом краю, в чужом дому.
В сентябре Дарья перешла на военный завод. В отделе кадров уговорилась, что временно поступает, до возвращения своего завода в Серебровск. Поставили ее токарем. Неделю училась, а на вторую приказали норму выполнять.
Ноги затекали за полсуточную смену. Пальцы на руках не гнулись, настынув за день от холодного металла. В глазах к концу смены искры мельтешили, особенно, если в ночь выпадало работать. Казалось, вот-вот не выдержит, упадет Дарья на крутящийся валик, с которого нескончаемо струится синеватая стружка. Она отступала на шаг, чтобы не на станок повалиться, хваталась за колонну. А станки жужжали вокруг, как потревоженные пчелы на пасеке, звали, торопили.
Добравшись до дому, Дарья подрубленным деревом падала на кровать. Но вместо сна погружалась в беспокойную дрему. «Надо бы у Мити уроки проверить, – думала в полузабытьи. – С Нюркой поговорить маленько. При матери сиротами ребятишки растут...»
Из репродуктора звучала музыка или голоса. Дарья усилием воли настораживалась, услышав слова: «От Советского Информбюро». Иногда, засыпая, не понимала слов, но по голосу Левитана угадывала, какие вести с фронтов. Когда Советская Армия отступала, медленно, с печалью и с остановками говорил Левитан. О победах – бодро, отчетливо, радостно. Дарья встряхивала головой, приподнималась на локте.
– Мамка, немца погнали! – радостно кричал из кухни Митя.
– Слышу, сынок...
Еще жадно ловила Дарья передачи о солдатских подвигах. Втайне надеялась услышать про Василия. Коммунист он, позади других не останется. Но ни разу не назвали по радио его имя. Безмолвная оказалась у Василия Костромина военная судьба.
Дарья проснулась среди ночи. Темень стояла за обледеневшими окнами, темень и тишина. Нюрка чуть слышно посапывала рядом.
Спать больше не хотелось, Дарья чувствовала себя бодрой, отдохнувшей и спокойной. Давно не испытывала такого, будто вдруг помолодела на пять лет. Что-то случилось хорошее. Дарья улыбнулась во мраке, припоминая. А-а... Сталинградская победа.
Что бы ни думала Дарья, что бы ни слышала о войне, о битвах, всякий раз была у нее в голове к фронтовым мыслям одна завершающая мысль: «Только бы Вася живым воротился...» Вроде молитвы стала для нее эта фраза. И теперь подумала: «Подбили фашисту ноги под Сталинградом, может, полегче станет нашим воевать. Только бы Вася живым воротился...»
Странный робкий звук ворвался в ночную тишину комнаты. Дарья напряженно прислушалась. Нет, тихо. Спят все. Ульяна спит, намаявшись на работе. Вадим во сне себя, поди, здоровым видит, руками вовсю действует. Ребятишки спят, набегавшись на морозе. Люба...
Но как раз из того угла, где лежала Люба на старом диване, донесся короткий, печальный звук, будто кто тихо, приглушенно всхлипнул.
– Люба, плачешь, что ль?
Тихо. Нюрка рядом посапывает беспечно, телом своим греет Дарье бок.
– Люба...
– Разбудила я тебя, Даша.
– Да нет. Сама я. Плачешь?
– Плачу.
Дарья осторожно, чтоб не потревожить Нюрку, встала, подоткнула одеяло, по дерюжному половичку босиком прошла к Любиному дивану, села на край.
– Беда у меня, – тихо всхлипнув, проговорила Люба. – Той тропкой, какой к людям радость приходит, ко мне беда пришла.
Сибирский мороз пробрался в дом через малые щелочки и в единоборстве с нагретой печкой понемногу брал верх. Люба подвинулась, повернулась на бок, приподняла одеяло, и Дарья легла рядом.
– Что стряслось, Люба?
– О любви он мне говорит...
– Кто?
– Вадим, кто же...
– Господи!..
– Был бы, говорит, я здоровый, я бы, говорит, тебя на руках носил.
– Не виноват он в беде своей.
– Не виноват. Знаю. Мил он мне. А как подумаю, что надо связать жизнь с безруким...
– Не всякая решится. А одной тоже горько. Две головни в поле горят, одна – и в печке гаснет.
– Не могу я, Даша. Нету во мне такой силы. Не могу!
– Кто ж тебя неволит...
– Никто меня не неволит. Жалко мне его...
Тревожный шепот будоражит ночную тишь, гаснет во мраке и снова шелестит. Не пробиться ему в соседнюю комнату через штукатуренную переборку. Не спит в соседней комнате Вадим, лежит, глядя в потолок, и чудится ему, что пальцы на руках болят. Рук нет, а боль осталась. Кается мысленно Вадим, что сказал Любе о своей любви. И от любви вот так же – одна боль останется.
– Не знаю сейчас – о себе ли, об нем ли плачу. Оба мы несчастливые. За него пойду – на беду себе. И не пойду – на беду. За тридцать мне – не девочка, один годок на четвертый десяток отстукал...
– До старости далеко, – сказала Дарья.
– И от молодости не близко...
От мороза резко щелкнуло бревно. Дарья вздрогнула.
– Что ж ты ему сказала?
– Ничего я ему не сказала. Голову его обняла, глаза вниз опустила...
– Не пойдешь ты за него.
– А ты бы пошла?
– Не знаю...
– Не могу я, Даша. Уеду я. Доре напишу, пускай мне вызов на завод вышлет, не могу я тут оставаться...
Дарья молчала. Не отговаривала, не советовала. Советы давать – убытку не потерпишь, да что тут посоветуешь? Невезучая Люба на семейную жизнь. С Мусатовым счастье ее из-за Маруськи не сладилось. Теперь Вадим полюбил – сама сробела перед испытаниями, которыми пришлось бы за любовь расплатиться. Правду говорят: клад да жених – по удаче.
...Как сказала Люба в ту ночь, так и сделала. Написала Доре. Вызов получила и уехала.
5
Выйдя из проходной, Дарья по привычке взглянула направо – не ждет ли Митя. Благодарное, жалостное чувство тронуло сердце. Опять пришел. Ждет.
Митя стоял, съежившись от колючего ветра и втянув голову в торчмя поставленный воротник. Он так продрог, что не сразу заметил мать.
– Митя! – окликнула Дарья.
Митя слегка шевельнул головой и, держа руки в карманах, двинулся навстречу матери. Дарья глядела на его руки – не вынет ли письмо. Когда приходило письмо с номером полевой почты, Митя почти всегда бежал к проходной, а потом они с матерью заходили в хлебный магазин недалеко от завода и тут, в уголке, глотая слюну от острого запаха хлеба, наспех прочитывали письмо.
Но на этот раз Митя, вплотную подойдя к матери, так и не вынул рук из карманов.
– Сидел бы дома – холод-то какой, – разочарованно проговорила Дарья.
– Мамка, Леоновку освободили. Я сам по радио слыхал.
– Леоновку?
Дарья остановилась, кто-то задел ее плечом, люди шли мимо, торопились с завода домой.
– Может, другую Леоновку? – недоверчиво проговорила Дарья.
– Нашу! – обиженно и упрямо возразил Митя. – Говорю тебе: нашу. Я сам слыхал по радио... Там же район назвали...
– Митя! – Дарья одной рукой обняла сына за плечи. – Вот молодец-то, что прибежал! Леоновку освободили... А я не знаю ничего. Работаю себе. Норму-то сегодня перевыполнила, станок не капризничал, день такой удачный. Удача на удачу нижется...
Валенки жестким скрипом будоражат тишину. Есть хочется. Усталость томит. И парнишку жалко – замерз, сгорбился, носом швыркает. Но светлое чувство греет Дашину душу. Подумать только: Леоновку освободили! И еще – радостно ей идти домой вместе с Митей. И валенки вроде веселей скрипят в две пары. И холод не такой жгучий. Вишь, прибежал, не заленился малый. Растет споро... Воротится Василий – не узнает сына.
– Сегодня же, – сказала Дарья, – письмо в Леоновку напишу. И ты напиши. Удивится Клавдия-то, что ты пишешь здорово. Вот придем, поедим и возьмемся за письма...
Ответное письмо от Клавдии получили почти через месяц. Длинное было письмо, на пожелтевших листочках старой, еще довоенной тетрадки по арифметике. Фиолетовыми чернилами – задачки, даже две красные отметки сохранились, «удовлетворительно» и «хорошо», а химическим карандашом, который Клавдия время от времени, видно, слюнявила для большей яркости, – письмо.
«Ой, Дашенька! Получила письмо твое, горе твое узнала и про свое горе тебе отпишу. Миша-то... Нету моего Мишеньки! Читаю Митино письмо, а буквы-то – совсем такие, как Миша писал... У всех в Леоновке беда, но своя беда завсегда больнее и ближе чужой. Хочу отписать тебе все по порядку, да не знаю, с чего начать и чем кончить.
Егора взяли на фронт с первой же мобилизацией, и осталась я с ребятами одна. А немец подступает, и деваться мне некуда. Иван Хомутов велит эвакуироваться всему колхозу, а куда мне эвакуироваться с двумя ребятами да ни сегодня-завтра рожу.
И вот армия наша отступила, и два дня стояла тишина мертвая, только где-то вдалеке пушки били, а у нас – никого, обезлюдела деревня, все сидят по избам и в тоске ждут, что будет. Вдруг перед вечером донесся гул и грохот, выстрелы вовсе рядом, и въехали в село танки. Собаки кинулись на них лаять, и нашего Малыша танком задавило.
Мишка увидел в окошко, как Малыш сгинул, заревел и к двери кинулся. Я ему кричу: «Не ходи!», а сама на кровать повалилась, моченьки моей нету, то ли с испугу, то ли в пору пришло время родить. Надо бы за бабкой сбегать, а какая тут бабка, боюсь ребят на улицу выпустить – убьют, стоят оба надо мной да ахают:
– Мамка, молчи! Мамка, не кричи!
А я бы рада не кричать, да сил нету. Так и родила при них девочку, и оба видели, чего детям видеть не положено. На другой день Мишка спрашивает меня: «Мамка, неужто и я так народился?» – «Так, говорю, сынок, все люди одинаково на свет выходят». И думать не думала, что скоро доведется ему и другое узнать – как смерть людей забирает. И на себе муку смертную испытать.
Ввечеру к нам в избу ввалились трое немцев. Говорят чего-то по-своему, разглядывают все, один в зыбку пальцем ткнул и засмеялся. Я обмерла, взяла маленькую на руки. Но немец показывает обратно: положи, мол, и сам ничего, улыбается, вроде зла мне не сделает.
Поселились эти немцы в нашей избе, потом еще двое пришли. Я с ребятами жалась в кухне на полатях и все старалась, чтобы маленькая не плакала, но разве ей рот заткнешь. Надоело это немцам, и раз среди ночи выходит один из горницы, схватил ребенка, сует мне в руки и на дверь кажет: «Вон! Вон!» Взяла я Катю, старшим ребятам велела одеться, собрала какие успела тряпки и пошла к Матвеевне. У нее изба маленькая, и немцы там жить не стали, и я у ней жила, пока Леоновку не спалили.
А спалили фашисты Леоновку прошлой осенью, под октябрьский праздник, когда партизаны взорвали немецкий военный поезд. Сама я не видала, люди рассказывали, кто из лесу приходил. А через неделю нагрянул в Леоновку карательный отряд, согнали всех к школе, а перед школой виселица сколоченная. Хоть бы ребятам такого не видеть! Нет, и ребят согнали. И вывели из школы троих партизан: двое мужиков не из нашей деревни, из Буреломки, а с ними – учительница Лидия Николаевна Чернопятова. Ребята рвались к ней, а старшие их удерживали, и немцы отталкивали автоматами. Только девочка ее Валюшка от немца вырвалась, подскочила к матери, обхватила ее руками накрепко. Немец хотел ее оторвать, и Лидия Николаевна просила: «Уйди, Валечка, уйди отсюда, папку жди, папка с войны вернется...», но девочка будто приросла к ней. И тут подошел немецкий офицер и выстрелил девочке в затылок. Она упала, а Лидия Николаевна закричала дико и тоже повалилась наземь как серпом срезанная, и потеряла сознание. Так ее, бессознательную, два полицая к виселице подтащили и голову ее в петлю всунули.
Дашенька, что же это на свете делается, люди – как звери, и хуже зверей, фашисты эти и полицаи... Наши же леоновские, вешали партизан, по русской земле босиком бегали, русский хлеб ели, русские матери их родили, а они дошли до такого... Один даже, который Лидию Николаевну к виселице волок, у нее в школе учился, молодой вовсе, лет двадцати, Гришка Лопухов, ты его, поди-ка, помнишь, Афанасия Лопухова сын.
Стоим мы перед виселицей, бабы, старики да ребята, сердце горем исходится, а сделать – ничего не сделаешь, и тут кто-то как крикнет: «Горим! Леоновка горит...» И кинулись все к избам, а перед избами немцы с автоматами... Я хоть Катюшку с собой забрала, а в крайней избе у Марии Сидоренковой мать парализованная сгорела и ребеночек, а Мария умом тронулась, ходит по деревне поет и пляшет.
Тяжко мне письмо это писать, Даша. И жить тяжко. Как вспомню Мишу – руки ни на какое дело не подымаются... Погиб он на третий день после освобождения. Играл с ребятами на Заячьей поляне в войну – ребята нынче только в войну и играют, и набежал на мину. Слышу – взрыв, и сердце у меня упало, будто почуяла я. Выскочила из землянки. А навстречу Игнатиха бежит. Мишку твоего, говорит, миной убило... Мишку, говорит... Не могу я про это писать, Даша, глаза застилает и рука трясется. Нету моего Мишеньки...
А еще хочу я тебе рассказать про Антона Карпова. Вышел он к немцам с караваем на полотенце, и немцы его старостой назначили. Зла от него в Леоновке не видали, но ненавидели его все за тот каравай и за то, что немцам служит. И когда вступили наши части и спросили, кто староста, он сам таиться не стал и сказал: «Я». Командир был молодой и горячий выхватил пистолет и закричал: «Немцам служил, гад?» И, не дав ему рта раскрыть, выстрелил, и повалился наш староста мертвый. Но не успел он остыть, и вдова, обряжая его, голосила, как прискакал из лесу верхом Иван Хомутов. И сразу: «Где Антон Карпов?» Когда ему все рассказали, он схватился за голову. «Что же вы наделали, люди, почто не защитили Антона, он при немцах старостой числился, а партизанам служил...» Не знали мы про то, а кто знал, того рядом не случилось. Так и сгинул Антон по ошибке, а Иван Хомутов сильно об нем горевал.
Живем мы пока в землянке, а Иван Хомутов хлеб собирает по зернышку, чтоб весной посеять. Прощай, Даша. Не скоро, знать, свидимся, и коли приедешь в родную Леоновку – не найдешь, что было. Земля голая да трубы печные из землянок торчат... На том кончаю горькое мое письмо.
Клавдия.»
Читала и перечитывала Дарья письмо Клавдии и ночь не спала потом – все ей родная деревня мерещилась. Вспомнила Дарья Мишку – как первый раз, девкой еще приехав в Леоновку, увидала его в зыбке и на руки взяла. Учительница Лидия Николаевна, соперница ее давняя, перед глазами стояла. То через окно народного дома видела ее Дарья, где при лампе-молнии репетировал Чернопятов новую пьесу, то на дороге с девочкой, как встретила в последний приезд. Алая лента была у Валюшки в косе.
И о Карпове думала Дарья. Иван Хомутов с Василием спорили об Антоне Карпове перед самой войной. С кулаками ли сердцем остался Антон, советской ли власти с чистой совестью служит? Открыла война правду, да неправедный вынесла приговор. Ничего на свете нет мудреней души человеческой. Легко ее сгубить, а понять трудно.
Митя едва слышно сопел – с тех пор, как Люба уехала, спал он в комнате на ее диване. Вадим за стенкой что-то пробормотал во сне. Не спалось Дарье. Потянуло вдруг в Леоновку. Вспомнила Дарья путь в Сибирь, представила себе просторы бесконечные... Долго ехать до Леоновки. Да и не придется сразу в Леоновку – в Серебровск прежде надо попасть, к своему дому, к своему делу. Второй год пошел, как освободился Серебровск. Неужто в Сибири придется ждать конца войны?
Под утро заснула Дарья, и привиделось ей, что волосы расчесывает. Длинные волосы, до колен, каких наяву сроду не бывало. Ни к чему иному не мог быть такой сон, как к дальней дороге.
***
Вечером в тишине тревожно скрипнула калитка. И – шаги по двору. Ульяна насторожилась.
– Кто бы в такую пору? Не бандит ли какой...
Не успела она договорить, как в дверь постучали. Дарья кинулась было открыть, но Ульяна ее отстранила.
– Погоди, я сама. – И громко спросила: – Кто там?
– Откройте. По делу я, – сказал мужчина за дверью.
– По какому такому делу?
Вадим вышел из своей комнаты, остановился позади матери.
– Да открой, не бойся.
– «Не бойся!» – передразнила она. – А на кого мне надеяться? Ты, что ль, защитишь?
У Вадима передернулось лицо, но он не сказал ни слова, повернулся и ушел прочь.
– Зачем ты так? – укорила Дарья.
– Пусть не суется но в свое дело! – раздраженно крикнула Ульяна. – Хуже маленького.
– К Дарье Костроминой я...
– Это Яков Петрович, – узнала Дарья. – Мастер с нашего завода. Открой...
– Только и не хватало, чтобы мужики сюда повадились, – проворчала Ульяна, откидывая крючок.
После отъезда Любы переменилась Ульяна, стала раздражительна.
– По делу он, – точно оправдываясь, повторила Дарья слова Якова Петровича.
Но сама не поверила этим словам. Какое может быть у Чеснокова к ней дело? Так, небось по мужицкой своей прихоти явился, попытать, не стала ли податливей. Дарья сурово поджала губы, строгим взглядом встретила гостя.
– Опасливо живете, – заметил Яков Петрович, когда Ульяна, впустив его, опять закинула крючок.
– Время лихое, – сказала Ульяна, пристально разглядывая Чеснокова. – С добром навряд ли кто придет.
– А я вот с добром пришел, – с хитрым прищуром уставившись на Дарью, проговорил Яков Петрович. – Выкуп, Дарья, с тебя причитается за хорошее известие.
– Господи! Неужто... Неужто в Серебровск поедем?
– Есть приказ возвертаться, – сказал Яков Петрович.
Раздеваться он не стал, только шапку снял и, зажав ее в руке, сел на ближний к двери табурет.
– Дождались... – выдохнула Дарья, и глаза у нее заволокло слезами.
– Ох, бабья душа, – усмехнулся Яков Петрович. – Всякую перемену слезами окропите.
– Да как же... – смахивая пальцами слезы и улыбаясь, сказала Дарья. – Ведь город-то свой, сердцем накрепко к нему прикипела. И завод сами ставили. И сколько пережито всего...
Смешанные чувства радости, благодарности, нетерпения обуревали Дарью. Впору было кинуться на шею Якову Петровичу да расцеловать его за то, что принес такую новость. Могли бы ведь и без нее уехать, она теперь на другом заводе, а он гляди-ка – пришел...
– Снимайте, Яков Петрович, пальто, чайку выпьем, сейчас вскипячу, – засуетилась Дарья.
Она разгребла угли в плите, подкинула лучинок. Яков Петрович не стал куражиться, стянул пальто.
– Ребятишки-то что – спят?
– Спят, – сказала Дарья. – Пораньше укладываю. Ужин не больно плотный, покормлю да скорей спать велю, пока опять есть не захотели. Во сне голода не учуют.
Расщедрившись от счастливого настроения, Дарья не ограничилась чаем: быстренько сварила картошек в мундире, груздей принесла целую тарелку (на что беречь-то? Скоро – домой!), хлеб, отложенный на завтрак, раскромсала на малые ломтики.
– Кабы водочки, так и вовсе пир бы состоялся. Да нету водочки-то...
– Почто – нету? – подмигнул Яков Петрович. – Поискать надо...
И, с таинственным видом сунув руку в карман висевшего у дверей пальто, вынул бутылку.
– Гляди-ка: прямо скатерть-самобранка, – рассмеялась Дарья. И, чуть подумав, решительно сказала: – Пойду ребятишек разбужу – пускай поедят с нами. А ты, Ульяна, Вадима позови.
– Да он уж, поди, спать лег.
– Лег, так встанет. Праздники-то редки теперь...
И затеялся пир. Яков Петрович от хмельного размяк, глядел на Дарью ласковыми глазками, говорил ей слова, какие при ребятах да при чужих людях вроде бы и не к месту.
– Хорошая ты баба, Дарья. Думаю я об тебе. Знаю: нельзя думать. У тебя мужик воюет. И сам женатый. А мысли по указке не повернешь.
– Вы ешьте, Яков Петрович...
– Я ем.
А сам жевал нехотя и все глядел на Дарью липкими глазами, и ее, захмелевшую с отвычки, натосковавшуюся без мужской ласки и добрых слов, грел этот взгляд и веселил.
Ребятишки, промигавшись спросонья, бойко навалились на картошку с груздями, ели без хлеба, а тонкие пластики хлеба приберегали на десерт, к чаю. Ульяна с одной вилки ела сама и кормила Вадима, уже привычно, почти не глядя, протягивала ему кусочек картошки, и он ловко снимал его с вилки полными яркими губами.
– Человека убить трудно, – медленно говорил Вадим. Лицо его покраснело, волосы сбились на лоб. Ульяна заметила, рукой поправила ему волосы, но Вадим досадливо отстранился и тряхнул головой, чтоб опять пала на лоб спутавшаяся прядка. – Враг, а все равно трудно. Из автомата – проще, далеко он, не видишь, как умирает. А один раз так пришлось мне... Часового приказали снять. Тихо подползти и снять. Так это называется по-военному: снять. А мне его убить надо.
– Война – вся из убийства, – вставил Яков Петрович.
– Подполз я сзади... Ночь, темень, тихо подполз. Обхватил рукой, рот зажал ему и – ножом в шею. Выпустил, а он хрипит. Еще хрипит! Не помер сразу...
– Надо было в сердце, – сказал Митя.
– Молчи ты! – прикрикнула Дарья на сына. – Не лезь во взрослые разговоры.
– Фашизм – зверь кровавый, дикий, а дикого зверя только смерть угомонит, – сказал Яков Петрович.
– Но понимаю я, – заговорила Дарья... – Не понимаю, как немцы бешеного этого Гитлера к власти допустили, зачем умирать пошли по его указке...
– Они не умирать пошли, – перебил Вадим. – Они богатеть пошли. Земля им наша занадобилась. Хлеб наш. Рабов здесь найти хотели. Сволочи! – распаляясь, кричал Вадим. – Рано я отвоевался, а то бы еще убивал их. Ножом. Из автомата. Зубами бы перегрызал им горло... Россию покорить захотели, мать вашу...
– При ребятах-то! – одернула Вадима Ульяна.
– Пусть слушают. Пусть знают. Не бывать России под чужой властью! Если придется воевать, Митя, помни: не давай пощады врагу. Не жалей. Пусть хрипит – не жалей. Убей свою жалость! Руки отдай за Россию. Голову отдай. А землю и свободу не отдавай. Слышь, Митька?
– Слышу, – серьезно кивнул Митя стриженой головой.
– Мне солдатом не бывать, – стихая, проговорил Вадим. – А ты будешь. Страна не может жить без солдат... Железным солдатом будь, Митька.
Вадим поник головой, скулы резко проступили под небритой кожей. Яков Петрович достал папиросы.
– Куришь? – спросил Вадима.
– Бросил, – сказал Вадим. – Долей мне что там осталось в бутылке...
Яков Петрович звякнул горлышком бутылки о край стакана, поспешно вылил мутноватую жидкость и сам поднес стакан к губам Вадима.
В обратный путь Дарье не удалось попасть с заводским эшелоном – не отпустили ее с завода, пока не обучила сменщицу. Пришлось одной с ребятами добираться до Серебровска.
Ехали пассажирским поездом. Вагон был полнехонек, но удалось отвоевать одну нижнюю полку. Ночью она укладывала Митю с Нюркой валетом к стенке, сама на бок ложилась с краю.
Дарья и днем спала. Ребятишки к окну жались, не надоело им целый день в окно глядеть, а она чуть приникнет щекой к свернутому валиком Митиному пальто – сразу сон накроет. Ни разговоры вагонные, ни детский плач, ни суета на станциях сну ее помешать не могли. За все ночи, работой и тревогами окороченные, отсыпалась теперь Дарья и на будущее силы копила.
На больших станциях Митя бегал за кипятком. Принесет полнехонький чайник, хлеба – по норме, а кипятку вдосталь. Бабы на станциях выносили к поезду драники – лепешки из тертой картошки, но Дарья за весь путь только раз купила эту роскошь, денег было в обрез.
Дарья расспросила проводника, когда будут проезжать станцию Лужки. Ночью, сказал проводник, и поезд там не остановится. Дарья не спала ту ночь, сидела у окна, под торопливый стук вагонных колес вспоминала свою маленькую. Живой вспоминала – как лежала Варя на одеялке у речки Плавы в Леоновке, играла деревянными ложками, а невдалеке костер горел, и Василий варил на костре уху. И мертвую видела Варю – махонькую, холодную, с желтым остреньким личиком, когда пристроилась Дарья на больничном крыльце, в последний раз держа на коленях свою дочку. Не плакала Дарья, сухими глазами глядела в черное стекло вагонного окна, но тягостно было у нее на сердце, острее болела старая боль.
Редко и малыми россыпями мелькали за окном огоньки. То ли деревня, то ли городок – не разглядеть во тьме, и не знала Дарья, когда промелькнула Варина станция. Утром спросила проводника, сказал – проехали Лужки.
Торопился поезд, стучал колесами, паровоз кидал гудки в просторные поля, и мелькали за посветлевшим окном телеграфные столбы, провисшие провода тянулись рядом. Приглохла в Дарьином сердце печаль, словно весенними ручейками из-под льда пробивались надежды. Скорей хотелось ей добраться домой, и верилось, все будет хорошо в Серебровске, как прежде было. Завод восстановим. Немца победим. Василий приедет. Долга война, тяжела, да не вечна. Всякая ночь на рассвете кончается.








