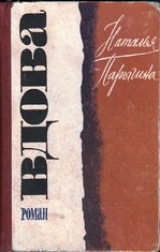
Текст книги "Вдова"
Автор книги: Наталья Парыгина
сообщить о нарушении
Текущая страница: 19 (всего у книги 29 страниц)
2
Навалилось на Дарью одиночество, как большая неизбывная напасть. Люди были кругом – даже больше стало людей в городе и на заводе, чем до войны, много понаехало народу из деревень. Давних подруг, Любу Астахову и Алену, почти каждый день видела Дарья. Дети у нее росли. Какое же одиночество? Но замкнула на замок свое сердце, и от чужих людей, и от подруг, и от детей. Жила, как в пустыне.
После войны Дарья работала в реконструированном цехе.
Длинный цех полимеризации кажется обиталищем огромных таинственных животных. Аппараты кто-то метко назвал слонами, и накрепко пристало к ним это имя. Слоны стоят в ряд, выгнув крутые белые спины, увитые бесконечными хоботами трубопроводов, с привьюченными к ним холодильниками. В их просторной утробе незримо переваривается дивинил, из газа и пасты рождая каучук.
По обе стороны от слонов вдоль всего цеха тянутся почти пустые платформы. На одной платформе проложены рельсы – по ним увозят на тележках готовый каучук. На другой – несколько возвышающейся над остальной площадкой цеха, стоят в отдалении друг от друга столики аппаратчиц.
Дарьин столик – крайний от входа, и, когда она идет к своему аппарату, ей виден весь узкий и длинный пролет цеха: ровная белая площадка цементного пола, тупые морды слонов, трубы с колесиками вентилей, столики других аппаратчиц. Гулкий, непрерывный, утомительный шум газодувок заполняет цех. Слабый запах спирта и как будто припорченных яблок постоянно чувствуется в воздухе.
Работать теперь легче, чем до войны. Хоть большой аппарат, да один, не надо метаться по всему цеху. Когда процесс идет нормально – хлопот мало. Но в начале процесса температура вдруг замерла на одной точке. Дарья сделала продувку, сменила газ, чтоб реакция вновь вошла в силу. Спустившись на три ступеньки в проход между слонами, Дарья наклонилась над воронкой, понюхала воду. От воды резко несло дивинилом. Холодильник потек. Без дежурного слесаря не обойтись. Кстати, увидала Дарья у второго столика начальника смены. Пошла к нему доложить о неприятности.
Кончалась смена, и заводские заботы сменялись домашними. По пути домой увидела Дарья очередь в продовольственный магазин. Узнала: пшено дают. Встала за пшеном.
Дарья стояла среди людей, никого не замечая, замкнувшись в себе, и какая-то дума томила ее, стояла в глазах невысказанным вопросом. А может, не дума, просто печаль жила в ней и ела ее изнутри, как червяк выедает сердцевину яблока.
– Даша! Здравствуй, милка! – окликнули ее от дверей.
Дарья по голосу узнала Ефросинью Никитичну, свекровь Доры, медленно, без улыбки обернулась. Старушка стояла человек на десять позади Дарьи и через головы приветливо кивала ей.
– Как живешь-то, Дашенька?
– Живу... – холодно проговорила Дарья.
– Дети как?
– И дети живут...
– Давно не была у нас. Я уж Доре сколько долдонила: позови, мол, Дашу.
– Она звала. Некогда все.
Очередь как раз подвинулась шага на полтора, и Дарья, переступив ногами, отвернулась от Ефросиньи Никитичны.
Дора и в самом деле не раз приглашала Дарью прийти. Но не потому обходила Дарья ее дом, что не было времени. Нашла бы время. Другое мешало. У Доры муж письма слал из Германии, что скоро демобилизуется и приедет. И Дарья, понимая, что несправедлива к подруге, все-таки не могла побороть зависти.
Пока шла война, Дарья, хотя и горевала о Василии, не чувствовала себя обездоленной. Не она одна получила похоронку, кто-то спит под фанерной звездочкой, как Василий, кто-то в госпитале мается, кто-то воюет... Но когда отпраздновали победу и стали возвращаться мужики, у Дарьи все острее и острее становилось чувство личного, собственного горя, ни с кем не разделенного.
– На всех не хватит пшенки, – крикнула продавщица. – Человек на двадцать осталось.
Раздосадованная Дарья поспешила домой. Она всегда теперь спешила – не столько по необходимости, сколько по привычке, а тут еще такую уйму времени убила даром. Стояла оттепель, густые сумерки окутали город, недавно выпавший снежок побелил землю. Дарья не замечала тихой красоты зимнего вечера, неудача с пшенкой испортила и без того мрачное настроение.
Едва Дарья отворила дверь, как Нюрка, не заметившая угрюмости матери, кинулась ей навстречу.
– Мама, у меня за контрольную по арифметике – пятерка!
Веселый голосок девочки беспричинно разозлил Дарью. Мать усталая, голодная, намоталась за день, а ей дела нету, прыгает, как коза.
– Ну чего стоишь у двери? Примерзла, что ли? – отвратительно грубым, самой себе незнакомым голосом закричала Дарья на дочь. – Пятерки получаешь, а косы не заплетешь как следует, ходишь косматая.
Девочка поникла, оживление у нее в глазах пропало. Дарье стало жаль дочь, но какое-то другое нехорошее чувство заглушило эту жалость, и она не сказала дочери доброго слова. Злость доставляла ей странное облегчение, почти удовлетворение, словно, делая больно другому, Дарья отдавала ему часть своей боли.
У плиты на табуретке увидала Дарья завернутую в старое Нюркино пальтишко кастрюлю. Нюрка наварила картошки и укрыла ее, чтоб не остыла. Дарье сделалось совестно за свою несправедливость, но она не окликнула, не приласкала Нюрку, только с нарочитым стуком поставила на стол тарелку с хлебом и другую, пустую – под картошку. Девочка подошла сама:
– Я ждала-ждала тебя, – сказала она, стараясь показать матери, что не сердится за ее горячность.
– За пшенкой простояла, – объяснила Дарья. – Да не досталось мне.
Посуду после ужина мыла Нюрка, а Дарья собралась было постирать, да подумала, что поздно уж, отложила на завтра и за пустяками протолклась часа два. А тут пришел Митя из школы. Правая штанина у него лопнула на коленке. Дарья приказала ему снять штаны, но прежде чем зашить их, принялась воспитывать сына, не жалея на это слов.
– Паразит ты этакий, непутевая твоя башка, и за что мне такое наказание... До каких пор ты меня терзать будешь, хулиган несчастный? Учиться так тебя нету, а штаны драть так первый. И где ты их рвешь? По гвоздям, что ли, коленями елозишь? На той неделе починяла опять – дыра...
– Лучше бы новые купила, чем починять без конца, – угрюмо и словно бы про себя, но все-таки достаточно громко высказал свои соображения Митя.
– Новые! – подхватила Дарья. – Новые! А где я денег возьму? И так на вас, на паразитов, чертомелю, себе малости никакой не куплю. Новые ему! Ты и новые в тот же день раздерешь, тебе что, ты деньги не зарабатываешь, не знаешь, как они достаются. Без отца живете, хоть бы подумали, что одна вас кормлю-одеваю, не хуже других ходите... Нет, где вам! Вам только: дай, дай, дай! Давай, рта не закрывай...
Дарья с искаженным лицом подступила к парнишке, все более и более оттесняя его в угол. Он пятился, затравленным зверьком глядел на мать, тощий и жалкий в линялой майке и коротких черных трусишках. Он знал, что мать сейчас ударит его. И она, прокричав еще несколько злых, отрывочных слов, о смысле которых почти не заботилась, ударила мальчишку. Она хотела ударить его по лицу, но Митя успел нагнуть голову, удар пришелся по голове, и Дарья добавила еще несколько затрещин – по плечам и куда придется.
– Мамка, перестань, мамка, не бей! – с ревом кинулась к ней Нюрка.
– Замолчи!
Дарья обернулась к ней и замахнулась. Но не ударила. Закрыв лицо ладонями, она вдруг сама принялась плакать – громко, с причитаниями, вслепую побрела к кровати, упала на нее ничком и завыла в подушку.
– И за что мне такое наказание, нет мне ни покою, ни радости, зачем я только вас народила, окаянные вы... хоть бы слушались, ироды...
Нюрка побежала к крану, принесла стакан воды.
– Мам. выпей... Мамк, ну, хватит...
Митя молча глядел из своего угла на распластавшуюся по кровати беспомощную фигуру матери, и ему не было жаль ее.
Между ними, между матерью и сыном, все больше нарастала скрытая, темная враждебность. Митя не прощал матери ни пощечин, ни этих причитаний из-за каждой дырки на штанах, он холодел сердцем, и дом был ему чужой, и мать была ему чужая. «Воешь? – думал он. – Ну и вой. Тебе бы только повыть... У-у, злыда... Вот нарочно не буду учить уроки...».
Он давно отстал в учебе, двойки у него не переводились, и сидеть за уроками Митя считал делом обременительным и бессмысленным. Однако же слабые укоры совести искали какой-то лазейки для оправдания лени. Несправедливость матери была достаточно веским основанием для того, чтобы школьные заботы послать ко всем чертям.
Дарью теперь часто вызывали в школу. Эта обязанность – ходить в школу и выслушивать укоры о поведении сына – была неприятна Дарье, и она относилась к ней почти так же нерадиво, как Митя – к учебе. Надо было напомнить ей раз, и другой, и третий, учительница присылала записки с Нюркой, звонила в цех табельщице, а то и начальнику цеха, прежде чем Дарья собиралась пойти в школу.
Она шла быстрыми сердитыми шагами. Дома она ругала и наказывала Митю, но эти вызовы в школу считала обидными и несправедливыми и меньше всего в такие минуты винила сына. Мальчишка как мальчишка, не хуже других, а если и хуже, так есть причина – без отца растет. Учителя же не хотят понимать, как Дарье тяжело одной с ребятами, и без конца вызывают в школу вместо того, чтобы самим как следует заняться с парнем.
Дарья попала в перемену, и школа встретила ее многоголосым гомоном. В сумрачном пыльном коридоре ребята орали, отдыхая от неподвижного сидения за партами и от тишины. Дарья хмуро пробивалась среди школьников, которые в ее дурном настроении казались ей похожими на дикарей. «Моего только видят, – думала она раздраженно, – больше никого не видят, а они все хулиганы».
Рыжий веснушчатый парнишка катился по перилам с лестницы. Дарья не успела отступить, и парнишка врезался ей в живот.
– Черти бы тебя взяли! – выругалась Дарья, схватив озорника за плечо.
Он испуганно моргнул, но, сообразив, что попал не на учительницу, тут же убежал.
Наконец Дарья добралась до учительской. У этой двери она почему-то робела – быть может, потому, что именно здесь всегда ждали ее неприятности, и она даже некоторое время медлила, прежде чем войти. Раньше Дарья не замечала за собой робости, и досадно ей было это чувство, но преодолеть его не могла. Надо было, однако, входить. И она медленно приоткрыла дверь и вошла в знакомую комнату с длинным столом, накрытым старым, закапанным чернилами зеленым сатином, с несколькими шкафами и с географическими картами, навешенными на стене и наваленными на шкафу.
В учительской было тесно и шумно, учителя сидели за столом, две преподавательницы громко спорили, седой математик нетерпеливо разыскивал в шкафу какое-то пособие. Анна Степановна, склонившаяся над раскрытым классным журналом, заметила и окликнула Дарью.
– Костромина, подойдите сюда!
У Анны Степановны был сипловатый голос, и разговаривала она таким тоном, точно ротой командовала. Дарья бочком протиснулась между спинками стульев и шкафом.
– Ну, что же это опять натворил ваш сын?
Вопрос был задан сурово и чуть презрительно, вроде бы не сын, а сама Дарья творила в школе невесть какие пакости. Анна Степановна, полная, неуклюжая, с крупной бородавкой на щеке, сидела, положив локти на стол и глядя на Дарью светло-серыми колючими глазками, а Дарья стояла перед ней, как школьница, и ей неловко было оттого, что она стоит и что Анна Степановна при всех сейчас станет ее отчитывать. И Дарья внутренне ощетинилась на резкий тон и ответила неприязненно и грубо:
– Я не знаю, чего он натворил. Вы его учите, вот и следите. Вам за это деньги платят...
– Деньги платят? – дернувшись, точно бы подпрыгнув на стуле, повторила Анна Степановна. – Деньги нам платят за то, чтобы мы учили ребят. А терпеть от них издевательства мы не обязаны, запомните это, товарищ Костромина. Вы сами виноваты, что у вас такой сын. Я по вашему разговору чувствую. Вы даже не поинтересовались, почему вас вызвали в школу, а сразу начали с упреков. «Деньги платят!..» Деньги не вы нам платите, а государство...
– Вы садитесь, – сказала преподавательница географии, встав со стула и пододвигая его Дарье. – Садитесь, пожалуйста.
Дарья села. Прозвенел звонок. Учительская опустела. Анна Степановна и Дарья остались вдвоем. Дарья хотела объяснить, что она вовсе не одобряет Митиных безобразий, и про деньги так у нее вырвалось, нечаянно, не хотела она... Но Анна Степановна все говорила и говорила, и, казалось, никогда не иссякнет этот словесный поток.
– Вы, родители, все обязанности переложили на школу. Семья, по-вашему, нечто вроде инкубатора: высидели цыпленка, а дальше вас не касается. Нет, дорогая мамаша, касается. Вы обязаны сына воспитывать, вы не имеете права упускать его из глаз...
– Да разве я... – попыталась было перебить Дарья.
Анна Степановна повысила голос, и Дарья умолкла.
– А вы его упустили, да-да, упустили. Вы совершенно не следите за своим сыном. Недисциплинированный. Неряшливый. То придет на уроки без тетрадей, то ручку забудет. Надоест сидеть – сбежит. Вчера и вовсе в школе не был.
– Уходил, – вставила Дарья. – С книжками уходил в школу.
– Ну вот... Где он был?
– Не знаю, – угрюмо проговорила Дарья. – Не таскаться же мне за ним по пятам, я на заводе работаю. И на веревку не привяжешь, не козел – мальчишка.
– Я серьезно с вами разговариваю, мамаша.
– И я серьезно. Кормлю. Одеваю. Бью за провинки. А что я еще могу? Ничего я не могу.
– Если он так будет себя вести дальше, исключим из школы.
– Так, – побледнев, сказала Дарья. – Так... Из школы исключите. Отец его на фронте погиб, а вы парня из школы прогоните, чтоб бандитом вырос? Хорошее дело. Правильно. Так и надо. Исключайте. Да чего ждать-то? Сейчас бы и выгоняли. Али мало за ним провинок?
– Вы не волнуйтесь, Костромина. Давайте поговорим спокойно.
– Конечно, – с горькой усмешкой согласилась Дарья, – чего мне волноваться? Вы небось волнуетесь за своего ученика, оттого и выгнать из школы хотите, чтоб не волноваться. А мне кто он? Сын, только и всего. Пускай без ученья живет, пускай со шпаной свяжется.
– Никто этого не хочет, – резко проговорила Анна Степановна. – Но он скверно влияет на других, у него появились уличные приятели, он буквально разлагает класс.
– Так что же мне делать-то? – с глухим отчаянием спросила Дарья. – Что? Ремнем его отстегать? Остался от отца ремень. Сам погиб, а ремень цел... Да не справиться мне с Митькой – большой стал. Может, придете, подержите за ноги, а я отстегаю?
– С вами невозможно разговаривать, Костромина, – устало проговорила Анна Степановна.
– Не знаю я, – вдруг сникнув, сказала Дарья, – не знаю я, что с ним делать. Не слушает он меня. Не уважает. Сами справляйтесь. И не зовите вы меня больше. Не приду.
Дарья быстро встала со стула и, не простившись, не оглянувшись, вышла из учительской. Анна Степановна, чувствуя, что неладный вышел разговор, кинулась за ней, растворила двери учительской и попыталась остановить:
– Подождите, Костромина.
Но Дарья лишь ссутулилась от ее окрика и проворней зашагала по гулкому пустому коридору.
Наступила весна. Снег почти весь сошел, редко где в тени затаились почерневшие остатки сугробов, а крыши уже спустили всю капель и просохли под солнцем. На голых ветках деревьев заметно вздулись почки. Улица полого спускалась к речке, и за нею, на увалах, среди желтой прошлогодней стерни весело зеленел чистый клин озимых.
Дарья работала в третью смену и могла не спешить, но она шла быстро, то ли по привычке, то ли от все нараставшего внутреннего возбуждения. Теперь она не защищала и не оправдывала Митю, а в самом воинственном настроении готовилась приняться за его воспитание. «Ну, погоди, – мысленно грозила сыну, – погоди, мерзавец, возьмусь я за тебя. Ты у меня будешь сидеть за уроками как привязанный!» Она твердо решила вернуть свою власть над сыном, но очень ясно представляя, как ей это удастся.
Вечером, когда Митя явился из школы, Дарья долго ругала его и оттаскала за волосы.
– Не смей уходить из дому! – кричала она, для убедительности постукивая согнутым пальцем по Митиному лбу. – Учи уроки как следует, паршивец.
Паршивец на этот раз вел себя покорно, признавая законность наказания ввиду множества скопившихся за ним проступков. После ужина он уселся делать уроки, а Дарья легла немного поспать перед сменой.
Дня три Митя держался на уровне примерного школьника. Сидел за уроками, помог Нюрке вымыть пол, слушался мать. Дарья уже торжествовала победу, досадуя, что раньше не проявила такой строгости.
Но Митино послушание оказалось недолгим. В воскресенье после завтрака Митя удрал из дому и вернулся почти в полночь. На этот раз Дарья не била его, только корила и плакала. Сын угрюмо молчал.
3
Порой казалось Дарье, что живет она не по своей воле, вращается, как зубчатое колесо в лебедке, сцепившись с другими колесами, и долго ей еще предстоит так вращаться – пока не вырастит ребят и не уйдет на пенсию.
Она вставала, готовила завтрак, будила Нюрку и шла на завод. Она старалась пораньше выйти, чтобы не спешить. У нее даже возникало такое странное ощущение, что она идет не работать, а отдыхать, освобожденная от бремени домашних забот, которые на это время, пока она будет на заводе, поневоле отступают.
...В тот день выпало Дарье работать во вторую смену.
– Здравствуй, тетя Даша, – весело приветствовала ее Шурка Лихачева. – Как спалось? Мужики небось снились?
– Тебе-то не снятся?
– Снятся, проклятые! – без смущения призналась Шурка.
Шурка была по-прежнему бойкой и озорной, но крепкие словечки вырывались у нее реже. Пообтесалась, вдохнула городской культуры. Перманент сделала, туфли носила на каблуках, любила поговорить о книгах и кинофильмах. Работала аппаратчицей и училась в вечернем техникуме. Гляди, окончит техникум да начальницей станет над Дарьей.
– Тетя Даша, я сегодня на свадьбу иду, – оживленно сообщила Шурка.
– Что ж чужой свадьбе радоваться? – усмехнулась Дарья.
– Пока на чужой попляшу, а там и своя приспеет, – беззаботно сказала Шурка. И, придвинувшись ближе к Дарье, таинственно сообщила: – На свадьбе холостые парни будут, Люська сказала жениху, чтоб пригласил. Мы с Люськой подружки. А жених у нее на двенадцать лет старше, фронтовик. Ему уже тридцать четыре года, а не женился ни разу.
– Кто ж такой?
– Да у него чудная фамилия, царская. Степан Годунов.
– Вон кто! Степан...
На миг показалось Дарье, что в цехе сделалось темно, она машинально ухватилась за ближний трубопровод. Но все было по-прежнему в цехе, яркое солнце било в стекла, косыми дорожками стелилось по цементному полу, газодувки гудели, рабочие переговаривались, мирно начав вторую смену.
– Знаешь его? – спросила Шурка, заметив Дашину бледность.
– Ну как же... Он тоже... Со стройки начинал.
– Я бы за такого не пошла, он ростом небольшой, и вон на сколько старше, а Люська по уши влюбилась...
Дарья работала, как всегда, разумно и споро, но было ей грустно, острое сожаление томило душу, хотелось кинуться прочь из цеха, разыскать Степана, покаяться в своей глупости. Полгода назад говорила Дарья, что не забудет Василия, ни с кем другим счастлива не будет. Не забыла она, да истомилась в одиночестве, и если б теперь Степан подошел к ней – минуты бы не думала, согласилась. Оттолкнула, безумная...
Выйдя с завода в полночь, не спешила Дарья домой и словно не чувствовала усталости. Пошла кружным путем, через барачный городок, мимо бывшего клуба, в котором теперь устроили магазин.
Где-то невдалеке, за бараками, странно всхлипывал баян: разойдутся мехи с протяжным тоскующим звуком, и вдруг смолкнет все. Потом обрывистый, короткий стон прорвет ночную тишь. И опять – долгий, печальный и словно бы растерянный голос баяна тревожит спящий город.
– Да перестань ты баян-то мучить! – послышался раздраженный и грубый женский голос.
Дарья узнала Настю Кочергину. Видно, возвращаются со свадьбы. Не хотелось с ними встречаться. Дарья притаилась, ожидая, когда пройдут Кочергины.
Они шли посередине улицы. Впрочем, шла по-человечески одна Настя, а Михаил почти висел на ней, перекинув через Настино плечо руку и едва волоча заплетающиеся ноги. В этом не совсем надежном для баяниста положении он, однако, еще пытался растягивать баян. «Сопьется Михаил», – подумала Дарья. После войны у многих людей были праздники: то фронтовик вернулся, то свадьба, баяниста приглашали нарасхват и угощали без меры.
На каком-то пустыре Дарья остановилась под деревом, обняла толстый ствол, долго глядела на темные домишки с закрытыми ставнями. «И что ж я наделала, – терзалась думами, – на что ж я хорошего человека оттолкнула. Люба вон всю жизнь ждет не дождется, а я сама от счастья отреклась...»
Дерево, под которым стояла Дарья, было странное, почти без ветвей, только крепкий шероховатый ствол, высоко поднимался над землей. Дарья вскинула голову, поглядела на макушку дерева. Тополь. А ветви все срезаны почти до ствола. Только на самом верху оставлены малые отросточки. И вдруг Дарья представила себя на месте этого тополя, так ясно представила, что услыхала стук стальных холодных ножниц и почувствовала боль на месте отсеченных ветвей. А на отростках тополя уже появились малые веточки, они тянулись во все стороны и обрастали листьями, и остро, по-молодому, пахла в ночи тополиная листва.
«Может, и Степан сегодня, в свадебную ночь, вспоминает меня, – подумала Дарья. – Да не все ли равно теперь...»
Она пошла домой. С одной стороны расстилался черный в ночи пустырь, а слева тянулись дома, тополя с обрезанными ветками стояли вдоль домов, и листва пробившаяся на искалеченных деревьях, наполняла ночь упрямым, пьянящим запахом вновь пробудившейся жизни.
Ребят Дарья отправила в пионерский лагерь. Нюрка поехала охотно, Митя – со скандалом. Да не поступаться же даровыми путевками! Ребята в лагере подкормятся и под надзором будут, да и сама Дарья без них малость отдохнет.
Но отдыхалось плохо. Скучно было днем, а ночью нападала бессонница, душно делалось, жарко и тоскливо. Дарья то Василия вспоминала, то казнила себя за то, что оттолкнула Степана Годунова. «Господи, хоть бы постареть скорей, что ли», – думала она, томясь на широкой кровати.
Чем дальше уходил в прошлое дождливый осенний день, надломивший Дарью похоронкой, тем бодрее и словно бы моложе становилась Дарья. Иногда ей приходило в голову, что Василий сам виноват в своей гибели. Рассказывал ведь солдат – добровольцев вызывали в разведку. «Добровольцы – шаг вперед». Один шаг вперед. Шаг в смерть. Не мог же он в эту минуту обо мне вспомнить. О ребятах. Простоять на месте. Не сделать этого шага. Один миг постоять на месте. И, может, жив бы остался...
«Что ты, Даша...» Казалось Дарье, что слышит она укоряющий голос Василия. «Не надо, Даша...» Он ей так говорил: «Что ты, Даша», либо: «Не надо, Даша», когда она по-бабьи пыталась укрыться в темном углу от тревог житейских и его охранить.
И теперь, мертвый, из могилы стыдился мыслей ее. Коммунист он был. Не мог он не сделать этого шага. Может, с мыслью о жене и детях шагнул навстречу риску, навстречу смерти. Иначе не мог. Знала Дарья – не мог.
В конце смены Дарья села за столик записать в график показания приборов. За гулом моторов она не слыхала, как кто-то подошел сзади. Вздрогнула, когда легли ей на плечи осторожные руки, быстро обернулась.
– Дора!
– Здравствуй, Дашенька.
Дора приветливо глядела своими разными глазами, знакомая ямочка обозначилась у нее на щеке.
– Опять к нам в гости?
– Да вроде как не в гости, а домой.
Дора часто бывала на заводе, и не только в парткоме или на общем партийном собрании видели ее коммунисты. Все цеха знала Дора, с прежними своими соратницами по стройке и довоенной работе встречалась дружески, о производственных делах говорила и о жизни.
И сейчас приметила она в лице Дарьи усталость и печаль. Кончилась война, а душевные раны затягивались медленно.
– Как ребята – здоровы?
– Здоровы... В лагере они.
– Может, зайдешь к нам вечером? Поговорим, чайку попьем. Давно не сидели за одним столом.
Увидав инструктора райкома, подошли другие работницы. Кто-то сказал парторгу, и он заспешил по лестнице со второго этажа. Дора стала расспрашивать о работе. Шурка Лихачева бойко выступила вперед.
– Дора Максимовна, я хочу два аппарата обслуживать, а мне не доверяют. Не справишься, говорят. Я же знаю, что справлюсь!
Мастер яростно обернулся к Шурке.
– Аварию сделаешь – кто будет отвечать?
– Не сделаю! – упрямилась Шурка. – Можно два аппарата обслуживать!
– Надо обдумать это предложение, – сказала Дора. – Первый шаг страшит, да смелость победу вершит. С опытными работницами посоветуйтесь. Ты, Даша, как думаешь – посильная ли задача?
– Трудно – два аппарата, – сказала Дарья.
– Трудно... Стало быть, считаешь, возможно?
– Думаю – сумеем по два обслужить.
– Видите, – сказала Дора парторгу, – не одна Лихачева так считает. И другие работницы поддержат ее почин. Обсудите предложение по-серьезному.
Дарья глядела на свою бывшую бригадиршу и гордилась втайне, что вместе с ней прошла большой путь в жизни. Да и теперь они были вместе. По-разному, а одному делу служили, одной жили целью: помочь стране одолеть послевоенную разруху, крепко встать на ноги.
Вечером Дарья принарядилась, как на праздник, пошла в гости. Мысленно корила себя за то, что давно не была у Доры. Не раз ведь приглашали – и Дора, и свекровь ее. Дружба – дар бесценный, и сам себя человек наказывает, когда ею не дорожит.
Встретил Дарью Угрюмов.
– Входи, Даша, ждем тебя.
В небольшой передней было чисто, свежий дерюжный половичок лежал у порога, на гвоздиках висели пальто. Для мальчишек два гвоздика были вбиты пониже. Из кухни доносился вкусный запах печеного теста.
– Дора-то в кухне небось?
– Дора моя в кухню дорогу забыла, – сказал Угрюмов. – На заводе мне сказала, что ты придешь, а самой вот нету до сих пор. Видно, срочные дела.
Дарья прошла в кухню поздороваться с Ефросиньей Никитичной. Мать Угрюмова постарела, вся кожа на лице в морщинках, синие жилы резко проступили на руках. А глаза по-прежнему живые, веселые. Сережка с Кузей тут же в кухне на двух составленных вместе табуретках сосредоточенно мастерили змея.
– Тяжелый хвост, – говорил Кузя. – Не полетит он с таким хвостом.
– Еще как полетит! – уверенно возражал Сережка.
– Сейчас кулебяка поспеет, чай пить будем, – сказала Ефросинья Никитична.
– Дору подождем, – возразила Дарья.
– Не дадим ей кулебяки, – подмигнул Угрюмов. – Пускай не опаздывает.
– Часто она так?
– Да чуть не каждый вечер...
Час прошел – Доры не было. Ефросинья Никитична вскипятила чай. Ребятишек в кухне усадила ужинать, Дарью в комнате пригласила к столу. Втроем пили чай со свежей кулебякой.
– Что, домашние-то пироги вкусней немецких? – спросила Дарья.
Угрюмов засмеялся.
– Дома и черствая корочка мила. По дому я стосковался. А что пожил в Германии – не жалею. Хотелось мне немцев поближе поглядеть и понять, что за люди. Не в фашистском мундире, не с винтовкой, а обыкновенных немцев, трудовых.
– Понял?
– Не совсем, наверно. А кое-что понял. Хозяева они расчетливые, умные. У них на песке такая пшеница растет, какой у нас на лучших землях нету. Я первое время своим глазам не верил. Разомну колос в ладони – зерна крупные, налитые, одно к одному. Наклонюсь, захвачу в руку горсть земли – песок!
– Удобрениями берут?
– Землю холят. И обработка, и удобрения... Навоз берегут. Навозную жижу собирают. У них что годится, то не пропадет.
Вкусная удалась кулебяка. И чай казался душистей, чем дома. И комната уютней. Табачным дымом пахло в комнате – Угрюмов курил. В чистоте и уюте, в запахах пирога и табачного дыма, в приветливых лицах, в спокойных голосах хозяев и в маленьком самодельном кораблике на полочке чудилось Дарье счастье, которого у нее нет.
– Расчетливы немцы... Мы-то расточители. Не то что копейку – и миллион иной раз между пальцев проскользнет, если в государственном масштабе взять. Ну и в семейном тоже. Гуляй, душа! Немец – нет. Немец, прежде чем копейку истратить, десять раз обдумает да обсудит, какой из этого будет прок.
– Тоже неинтересно так жить – каждый грош рассчитывать, – сказала Дарья.
– Меры нету – вот беда. Нашу бы неуемную щедрость да немецкую расчетливость вместе сложить да разделить поровну – вышло бы дело.
– Ничего я не хочу от немцев брать, – с горечью проговорила Дарья. – Что они у меня отняли, того ничем не заменишь.
– За войну весь народ не в ответе. Да и сама Германия, видишь как, надвое теперь разделилась. От фашизма немцам горя много досталось. Меня один немец в гости пригласил... Так у него два сына в России погибли.
– Не звали мы их в Россию.
– Мы не звали, а Гитлер гнал. Я тебе расскажу, Даша, как я у этого немца гостил – своим-то я рассказывал.
Угрюмов улыбался лукаво, и Дарья поняла, что рассказ будет веселый. Не убили военные тяготы светлой живинки в характере этого человека, которому вовсе не по справедливости досталась мрачная фамилия. Морщины прочертили на лице. Сединой виски припорошили. А веселости не извели.
– Пригласил, значит, он меня в гости. Хозяйство сперва показал. Образцовый порядок. Земли немного – пять гектаров всего. Кукурузу на одном гектаре сеет – тысячу четыреста центнеров зеленой массы снимает. Вот как! Четырнадцать коров у него... Ну, осмотрели, в общем, хозяйство, приходим в дом. Стол накрыт. Бутылка шнапса на столе. И рюмочки... Вот такие махонькие – половину пальца только можно засунуть в такую посудинку.
– Вот бы наши мужики такими пили, – сказала Дарья. – У Насти Мишка-то три прогула совершил. Того гляди с работы выгонят.
– Наливают всем в эти самые наперстки, – продолжал Угрюмов, переждав комментарии. – Выпили. Я тоже выпил, даже губами пошевелил, чтобы лучше распробовать.
Он показал, как пошевелил губами, разбирая вкус шнапса, и женщины засмеялись.
– Все закусывают, – с комической серьезностью продолжал Угрюмов. – Я сижу, не закусываю. А чего закусывать, если выпито не было? Хозяин встревожился: «Вас ист дас?» В чем, дескать, дело? Да вот, мол, не почувствовал. Показываю ему на рюмку. Он засмеялся: «Ай, я забыл». И приказывает своей хозяйке принести стакан.
– Не мог дождаться, пока домой воротишься, – ворчливо проговорила Ефросинья Никитична.
– Я мог. А к чему ждать-то, если в гости позвали? В общем, приносят стакан. Хозяин наливает мне до краев, гости жевать перестали. «Нельзя, – говорят мне, – нельзя, умрете!» Откуда-то девочка вышла, остановилась в дверях поглядеть, как я умру. Ну, я взял стакан и выпил. И за еду принялся – пьяным перед немцами не хочу показаться. Потом еще один выпил. И третий. Танцевать стали. Танцевать я не пошел. Три стакана все-таки, думаю, покачнусь – нехорошо.
– Не весь ум-то пропил, – заметила Ефросинья Никитична.








