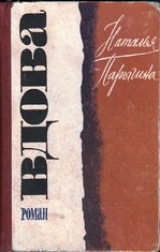
Текст книги "Вдова"
Автор книги: Наталья Парыгина
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 29 страниц)
– Сын!..
– Владимиром... назову, – улыбаясь, со слезами на глазах сказала Маруська.
Выросший на пустыре завод изменил не только облик небольшого, утопавшего в садах старого городка, но ритм жизни сделал его более четким и стремительным. И люди, воздвигнувшие завод и работавшие на нем, сами неузнаваемо переменились. Когда-то околдованный железной силой первого на деревне трактора, Василий Костромин управлял теперь на электростанции могучей турбиной. Он идет с Дашей на смену – раздавшийся в плечах, крепкий, уверенный в себе, тяжеловато, чуть неуклюже ступая в сапогах по асфальтовой тверди дороги, и не то что думает о работе, не думает, пожалуй, а как-то внутренне предчувствует ее – свою трудовую смену в цехе электростанции. Не зря засиживался Василий до полночи над техническими книгами. Не зря оставался после смены изучать у опытных машинистов тайные повадки турбины.
Здание электростанции – одно из самых крупных на заводе. Днем и ночью, не смолкая ни на миг, гудят в нем машины. Чем ближе к турбинному цеху, тем гуще, сильнее становится этот гул.
В турбинном цехе едва ли не чище, чем во дворце культуры. И как во дворце, стоят по углам пальмы. На приборных щитах замерли на страже стрелки и мирно вещают о благополучной работе турбин зеленые сигнальные глазки.
Главная задача машиниста – смотреть на приборы. Зорко надо следить, чтобы не прыгнула какая-либо стрелка за недозволенную границу. От малого отклонения в режиме десятки киловатт может недодать машина.
Турбина – как огромный укрощенный зверь. Неутомимо течет на лопатки острый поток пара и беспрерывно вращается вал. Василий любит эту мощную машину, которая одарила его гордым сознанием ума и власти человека над сложной техникой века.
Костромин привык к своему положению рабочего и доволен судьбой! Но временами, по весне, когда задувает с холмов пропитанный запахами тающей земли ветер, вдруг тревожно становится у него на сердце, и неудержимая сила – быть может, та самая сила, которая поднимает в голубую высь стаи перелетных птиц, влечет его к родным полям. В свободные вечера Василию не сидится дома и он зовет Дашу за город.
Они идут рядом по непросохшей дороге между полем и остатками потемневшего снега в ложбинках, и обоим мерещится Леоновка, и сладко тоскует сердце по родной деревеньке, и руки тоскуют по привычной с детства весенней деревенской работе.
– А хорошо бы, Даша, – сказал однажды Василий, – так устроить жизнь, чтоб зиму на заводе работать, а летом в поле хлеб растить.
– Оно бы, может, и хорошо, да немыслимо, – рассудительно проговорила Даша. – Всех дел в одни руки не заберешь.
Широкий степной простор расстилается окрест, и торопливо плывут в темнеющем небе весенние дождевые тучки.
7
Бабка Аксинья занедужила внезапно. С вечера еще ходила как ни в чем не бывало, а ночью круто забрала ее хворь – ни охнуть, ни вздохнуть от боли в правом боку. Она губу прикусила, чтоб не стонать, не разбудить ребятишек. Думала: к утру полегчает.
Не полегчало к утру. Даша проснулась на рассвете, удивилась тишине в квартире. Бабка Аксинья всегда в эту пору уж возилась в кухне, картошку жарила либо лепешки пекла к завтраку. А тут – тихо. Даша встала, босиком прошла в соседнюю комнату. Митя с Нюркой спали, а бабка Аксинья лежала на спине, сложив на груди руки, как покойница. И прежде худое лицо ее еще более осунулось, нос торчал острый, и неподвижно глядели на Дашу воспаленные глаза.
– Бабушка Аксинья, что ты? Никак захворала?
– Пом-ру, – негромко, раздельно выговорила бабка Аксинья. – Жалко: не в Леоновке помру. Жить у тебя хорошо, а помирать – домой бы... Чтоб с Варей рядом могилки. Не доеду уж теперь... Здесь придется.
Даша разбудила Василия, послала за доктором. Сама ребятишек подняла, принялась собирать в детсад. Одевала Нюрку и ломала голову, как больную одну оставить: обоим, ей и Василию, в первую смену. Бабка Аксинья угадала ее мысли.
– Ты не заботься, я одна полежу...
– Как же одна-то? Забегу по дороге к Любе, она во вторую работает, посидит с тобой.
– Я и одна... Воды бы горячей... в бутылку... бок погреть.
Даша согрела воды, сделала бабке Аксинье самодельную грелку. В этот день они с Василием ушли на работу без завтрака. Пока протолклись туда да сюда, уж и некогда завтракать. Схватили за руки ребятишек, чтоб в детсад по пути забросить, и – на работу.
Вернувшись с завода, Даша не застала дома бабку Аксинью: Люба вызвала скорую помощь, отвезла ее в больницу. Нюрка пустилась в рев:
– Где баба? Не хочу без бабы...
– Баба помрет, – сказал Митя.
– Вот дурень! – Даша щелкнула сына ладошкой по лбу.
– И не дурень! Она сама сказала.
– Не хочу – помрет! – залилась слезами Нюрка.
– Да не реви ты! Воротится бабушка из больницы. Она крепкая, поправится.
Но крепость бабки Аксиньи исподволь, тихой осадой подточила болезнь. Сколько ходила, хлопотала по дому, оберегала Дашу от домашних забот, Митю с Нюркой растила и вдруг пала, как подгнившее дерево.
Даша сидела в белой палате на краешке кровати, глядела в худое лицо бабки Аксиньи, гладила руку ее – костлявую, темную руку с синими вздувшимися жилами.
– Лекарство-то все ли пьешь?
Бабка Аксинья осознанно, печально поглядела на Дашу. Не верила она в лекарства.
– Пью. Доктора стараются, как ни уважить... Да от смерти лекарства нету.
– Ребятишки стосковались по тебе. Ждут не дождутся, когда воротишься.
– Ты приведи их, Митю-то с Нюркой...
– Приведу завтра.
– И Василий пускай придет.
– Все придем. Чего принести тебе? Яблок? Варенья? Шоколаду, может, хочешь?
– Не... На что мне твой шоколад. Молочка купи... парного. Теплого, прямо из-под коровушки. Коров-то много в Серебровске.
– Найду. Принесу, бабушка Аксинья.
– А еще... Чего я хотела попросить тебя, Даша. Может, дочку когда родишь. Вы с Василием хорошо живете, в ладу и в достатке... Не бойтесь ребят...
– Мы не боимся.
– Если девочку-то родишь... назови ее Варей... в память твоей матери. Пускай хоть в имени... след ее... кровный останется. Слышь, Даша?
– Слышу, бабушка Аксинья.
– И ладно... Помни мать... Бессчастная она у меня, Варя-то. Жила без радости. Померла безо времени. А ты Варей дочку назови. Твоя счастливая будет. Теперь другая, устойчивая жизнь. Варя-то в перелом попала...
Врачи предупредили Дашу, что больная безнадежна, и Даша хотела взять ее домой. Но бабка Аксинья – она до последней минуты оставалась в памяти – домой ехать отказалась.
– Помирать стану – дети напугаются... Не надо. А в Леоновку... отпиши. Пускай помянут. Егор... И старухи знакомые... с какими в девках... хороводы водила. Не забудь, отпиши...
...Василий пришел на рассвете, тихо тронул кнопку звонка. Даша тотчас открыла – не спала. По лицу Василия поняла, что случилось, сорвала с головы платок, уткнулась в него лицом, заплакала горестно и беззвучно.
Хоронили бабку Аксинью в солнечный весенний день. Без музыки хоронили, тихо, только капель звенела, срываясь с крыш. Но много народу шло за гробом, успели узнать и полюбить бабку Аксинью в рабочем Серебровске.
Когда расходились с кладбища, Люба Астахова незаметно отстала и долго стояла одна у свежей могилы, глядя на могильные кресты и на редкие деревца с голыми ветвями. Давно ли писала старушка письмо внуку, то и дело спрашивала Любу, верно ли сделала у буквы загогулину и не чересчур ли длинен вывела у другой хвост. И вот нет ее. И память о ней недолго, поди, проживет. Но смысл жизни – в самой жизни. В том постепенном открытии мира, которое год за годом совершает человек, и в том служении миру, которое начинает он, набравшись сил и разума, и продолжает до тех пор, пока силы не покидают его.
И еще подумала Люба о себе, о том, что несколько лет назад хотела вот так же спрятаться навек под землей от житейских печалей. Страшен ей теперь казался могильный мрак, пугало неотвратимое кладбищенское одиночество. Тогда, в горе, не страшила смерть. А теперь, хоть не больно задалась жизнь, жить хотелось. «У смерти одна дверь, да и та в обратную сторону не отворяется», – вспомнились ей слова бабушки Аксиньи.
Чистый звон вдруг раздался у Любы над головой, словно ветер тронул невидимый серебряный колокольчик. Повеселевшая под весенним солнцем овсянка, умостившись на тонкой березке, в царстве смерти славила жизнь.
Без бабки Аксиньи остро почувствовала Даша бремя домашних забот. Работа, которую прежде делили на двоих, теперь навалилась на одни плечи. На час раньше надо вставать. С завода, прежде чем завернешь в детсад за ребятами, приходится забежать в несколько магазинов, купить продукты. Вечером, хоть и выкроишь два-три свободных часа, в кино не сходишь: не с кем оставить Митю и Нюрку.
Полонили Дашу бабьи хлопоты. Василий старался ей помочь, и в магазин сходить не откажется и картошку почистить, но Даша редко допускала его к хозяйственным делам. И не столько по необходимости соглашалась на его помощь, сколько из женского самолюбия: приятно было, что жалеет и оберегает ее Василий и любую работу готов разделить.
Василий заочно учился в техникуме. Вечера проводил за учебниками, настольную лампу купила ему Даша с зеленым абажуром, чертежную доску он сам смастерил. Даше особенно нравилось, когда он чертил чертежи, такой сосредоточенный, серьезный, строгий. Василий любил и понимал сложные машины.
Уставала Даша к вечеру так, что ноги и руки немели, но порядок в квартире держала отменный. Ни пылиночки не сыщешь в любом углу, крахмальные простыни подсинены и проглажены – хоть на выставку, ребятишки умыты и причесаны, в садик каждый день Нюрка в свежем платье, а Митя в чистой рубашке идут. Даже ботинки с вечера до блеска чистила ваксой и суконкой – Василию, и себе, и ребятишкам.
– И на что ж ты себя, Даша, этак работой маешь? – дивилась Настя. – Мы с Михаилом живем без забот. Помою пол – хорошо, не помою – и так сойдет. Обеды берем в столовке.
– Мне не в тягость, – говорила Даша. – Я с охотой всякое дело исполню, лишь бы Василию да ребятам было хорошо.
– Поторопились вы с Василием ребятами обзавестись. Мы с Мишей не заводим. Для себя живем.
– Ведь и семья – для себя. Мне без ребят тоскливо было.
Но когда почувствовала себя Даша опять беременной, поколебалась она перед новой нагрузкой. С маленьким-то сколько хлопот! То бабка Аксинья помогала ребятишек растить, а теперь – одной предстоит.
Проходил день за днем, а Даша все не говорила Василию о своем положении. То Настины слова вспоминала: «Мы для себя живем». То думала: не было б у них Мити да Нюрки – сколько бы радости в жизни потеряли. Хороши они, малыши-то. И хлопотно, и весело, и наплачешься когда, и насмеешься.
Ребят Даша вперед кормила, и в этот раз так, наелись они и ушли в комнату играть. Даша убрала со стола грязные тарелки, порядок навела, положила Василию котлету с кашей, себе одного чаю налила.
– Ты что же, есть не будешь? – удивился Василий.
– Мутит меня, Вася, – сказала Даша.
Он не понял.
– С чего это? Опять желудок разболелся?
– И дурной же ты, Васька, – снисходительно улыбнувшись, проговорила Даша. – И когда ж ты поумнеешь? Дюжину, что ль, надо тебе ребят народить, чтоб понимал, от какой причины я хвораю?
У Василия замерла на полпути рука с вилкой.
– Даш-ка! – громко и весело проговорил он, и таким озорным, радостным светом полыхнули его глаза, что без слов поняла Даша свою судьбу. Но Василий и слов не пожалел. – А чего? Давай до дюжины! Молодые – успеем. Пускай растут Костромины!
– Не тебе носить-то! – одернула его Даша. – И кормить, и пеленки стирать, и ночами не спать – не тебе.
– Ну... – Василий растерялся от ее упреков. – Пеленки постираю. А остальное... Природа так устроила. Чего не могу – того не спрашивай.
– Над природой-то люди властны, – не глядя на Василия, сказала Даша.– Настя с Михаилом вон вдвоем живут. Что у них, природа не такая? Тоже на одной кровати спят. А не хотят детей – и не имеют.
– Вон ты о чем... – Василий отодвинул тарелку, оперся щекой на кулак, потускнел лицом. – Милы мне ребята... Хлопот тебе, конечно, больше достается. А только нехорошо, Даша, живое губить.
Даша вздохнула.
– Ладно, чего уж... Рожу. Так я... Без бабки Аксиньи тяжелее стало с домом управляться, вот и подумала... А маленьких я сама люблю. Я и Насте говорила: тоскливо, мол, без ребят-то.
– Ты мне больше работы давай, – самоотверженно сказал Василий. – Я ведь и пол могу помыть и в магазины сбегать...
– Молчи уж! – с грубоватой ласковостью перебила Даша. – Помощник... Над книжками-то когда будешь сидеть?
– Справимся и с книжками и ребят вырастим, – склонившись к Даше и положив тяжелую руку ей на плечи, сказал Василий. – Рад я, Дашка. Хоть сыну, хоть дочке буду рад...
Вот так и решилось все. Василий решил. И бабка Аксинья. Помнила Даша ее просьбу: если девочку родишь, назови Варей. Василию имя это понравилось, он не спорил.
– О чем человек перед смертью просил – нельзя не исполнить.
Даша хотела уважить бабку Аксинью, но ее же слова о матери занозой остались в памяти. «Бессчастная она у меня, Варя-то...» Суеверно опасалась Даша, что вместе с именем пристанет к ребенку и та бессчастная судьба. Ни о Мите, ни о Нюрке никогда не думала, что достанется им горькая доля, а об этом, не рожденном еще ребенке непонятно почему тревожилась. Забила себе голову беспричинной уверенностью, что имя матери сделает малышку несчастной, и не хотела уж рожать девочку, верила бы в бога – помолилась бы, чтоб сын был. Тогда и перед бабкой Аксиньей вины не будет, и омраченное горькой судьбой матери имя минует ребенка.
Но ранней весной 1941 года родила Дарья дочь. И назвала ее Варварой.
Письма от брата Даша получала редко, но в каждом письме звал брат: приезжайте с ребятами в Леоновку погостить. Митя с Нюркой подросли, понимали, о чем речь, и наперебой просились в деревню. Даша с Василием и сами хотели побывать в Леоновке. Только вот Варька больно мала. Но отпуск как раз обоим дали в июне, время хорошее, подумали-поговорили и решили ехать.
Поезд уходил ночью. Три полки заняли Костромины. Митя с Нюркой валетом на нижней, Даша с Варькой – на другой, Василий наверху устроился. Тихо было в вагоне, ребята уснули, только колеса стучали, будто маятник огромных часов.
Даша не спала. Ехала в родную Леоновку, и вспоминались ей свои ребяческие годы.
Зима вспоминалась невесело. Валенок, пока в школу не пошла, не было, и всю зимоньку приходилось томиться в избе. На замерзшем стекле вытаивала кружочки, глядела через эти кружочки на белую улицу, завидовала ребятишкам, что носились по дороге, погоняя запряженного в санки лохматого Полкана. Только и радости – сказки бабки Аксиньи.
Зима проходила невесело, зато уж летом, бывало, дотемна немыслимо загнать Дашутку домой. Носится с однолетками по улице, черным облаком вьется пыль, так что друг дружку не видать. На речку пойдут купаться – плеск, смех, визг, и уж до той поры сидят в воде, пока посиневшее тело не покроется пупырышками. Чем ближе поезд к Леоновке, тем больше пробивается в сердце радость, и уж кажется – лениво поезд идет, вот бы вскочить да побежать босиком по сырой прохладной тропочке, и быстрей бы поезда на родину примчалась.
На станции уже ждал Егор – из Серебровска Василий отбил ему телеграмму. Лошадь в колхозе взял, сена в телегу наложил – что твоя перина. Митя с Нюркой уселись в передок телеги, к лошади поближе, за руки держатся, присмирели. На телеге им страшнее ехать, чем на поезде. А лошадь хвостом машет да трусит себе по мягкой дорожке через поле.
День ясный выдался, хлеба хорошие поднимались, и любо было Даше с Василием глядеть на знакомые поля. Вдалеке на холме церковь виднелась, белая с голубым куполом, село Воскресенское по горке разметалось. Двухэтажный кирпичный дом в центре села.
– Что за дом? – спросил Василий. – Не школа?
– Школа, – подтвердил Егор. – Там и больницу выстроили, не видать отсюда.
Василий вдруг спрыгнул с телеги, отступил с дороги, горсть земли поднял, размял в руках. Стоит и глядит на поля, стоит и глядит... Егор попридержал лошадь, но Василий сказал:
– Поезжайте потихоньку, я догоню.
Варя спокойно лежала у матери на руках, с рождения была некрикливая, без причины голосу не подаст. Челочка низко спускалась на лоб. Варя родилась с густыми волосиками, а за четыре месяца они отросли так, что едва глаза не закрывали – надо уж подстригать.
Старшие ребятишки осмелели, стали с Егором разговаривать.
– Дядя Егор, – спросила Нюрка, – а у вас в деревне радио говорит?
– Нет, покуда не говорит. И радио не говорит, и электричества нету.
– А как же вы песни слушаете?
– А мы песни сами поем.
– Егор, останови, – попросила Даша, заметив, что Василий бегом догоняет телегу.
Догнал, попросил у шурина вожжи, стегнул легонько коня.
Пыль стелилась следом за телегой, солнце припекало, хлеба зеленели, ребятишки верещали, как воробышки. Даша сидела, свесив ноги с телеги, обняв Варьку, гордая, будто всей жизни была хозяйка – и заводу своему, и полям этим неоглядным, и судьбе. Такую силу в себе чувствовала, что, кажется, захотела бы – и солнце по ее воле за холмы бы спустилось, и тучи бы, коли надо, голосом могла на небо приманить.
У околицы Леоновки приезжих стайкой встречали ребятишки. Маша пробилась к телеге, Варьку подхватила.
– А Мишка-то где же? – спросила Даша.
– Вон стоит, заробел, – усмехнулся Егор. – Миша, поди сюда.
Миша, босой, в спустившихся штанишонках на одной лямке и в голубой ситцевой рубашке, стоял у плетня, одной рукой обнимая за шею огромную лохматую собаку. На зов отца он не тронулся с места, Митя подошел к нему сам.
– Не бойся, – сказал Миша, – Малыш не кусается.
– Я не боюсь. А ты кто мне – брат?
– Двоюродный брат, – сказал Егор. – Поехали! – скомандовал он Василию. – Пускай ребята знакомятся.
Клавдия в этот раз щедро и заботливо принимала гостей. То ли Егор дал ей строгий наказ, то ли сама нравом переменилась. Колхоз окреп, и свое хозяйство было немалое, куски считать не к чему... С одеждой приходилось похуже, не хватало товаров, будничную одежду шили из домотканых холстов. Зато и подарки, что Костромины привезли всем из Серебровска, оказались кстати.
Клавдия была беременна, живот круто выпирал из-под широкой юбки, по лицу разошлись темные пятна. Из сарая принесла она для Вари старую зыбку, выбила пыль, починила мешковину.
– Скоро моему дитю потребуется, а пока Варя поспит, – сказала Дарье.
В субботний вечер Егор позвал гостей: Ивана Хомутова с женой, фельдшера Чернопятова с Лидией Николаевной, Антона Карпова. Игнатиха, Маруськина мать, забежала поговорить.
Из редких писем знала Даша про леоновские дела. Ивана Хомутова бессменно выбирали председателем. Карпов, бывший середняк, ходивший на поводу у кулаков Митрохиных, стал передовым бригадиром, самый высокий урожай собирала его бригада, раз даже по району вышла на первое место. Чернопятовы дочку растили, Валюшку. Даша на другой день после приезда встретила Лидию Николаевну с девочкой на улице. Лет шести девочка, светлая коса с алым бантом до пояса спадала по спине. Глаза у Валюшки были темные, серьезные, умненькие. «Большая у вас дочка», – сказала Даша, остановившись с учительницей. «Читает уже», – гордо проговорила Лидия Николаевна.
За столом Чернопятов с Василием сидели рядом, вспоминали, как играли прежде в Народном доме.
– Бросил я играть, – не без сожаления проговорил Василий. – В техникум поступил.
– И мы с Лидой отошли от этого дела, – сказал Чернопятов. – Первый ребеночек у нас умер. Сын был... Месяц всего прожил. Воспаление легких. Горевали сильно. И отошли... А после дочка родилась. Опять заботы. И работа моя... Редкую ночь не разбудят. Года тоже... Ушла молодость. А молодые не интересуются. Вот все клуб у Ивана Потапыча требуют.
– Будет клуб! – сказал захмелевший с бражки Хомутов. – Все будет. Клуб. Радио. Электричество. Дайте срок. Зря убегла ты, Дарья, из деревни... И Василия сманила.
– Меня партия на укрепление стройки послала, – возразил Василий.
– Да. Партия. Верно, – согласился Хомутов. – У нас с городом смычка. Мы без города пропадем. А город без нас еще скорей пропадет.
Игнатиха с Дашей о Маруське говорили.
– И в какую же она беду попала. Ладно – умом не бедна, отреклась от него, от поганца, да за хорошего человека вышла.
– Замуж вышла? – спросила Даша. – Где ж она сейчас?
Игнатиха хитро прищурилась.
– Где – про то не велела сказывать. А живет хорошо. Муж – директором магазина, сама в ресторане кассиром работает. Мальчик растет. На свою фамилию его Марусин муж принял.
Хомутов опять потянулся к бражке. Жена отвела его руку.
– Хватит, Ваня.
– Не мешай! – оборвал ее председатель. – Не пьяный я, не бойся. Землякам рад. Я свой колхоз самым лучшим в районе сделаю! В области! В миллионеры выведу. Вот увидите...
Антон Карпов в один голос с председателем колхоза хвалился.
– Видал, Василий, какие в Леоновке дома выросли? В три комнаты каждый, а то и в четыре. Кирпич сами обжигаем. Одна бригада на кирпиче стоит, одна дома выкладывает. Кому дом – тот трудоднями расплачивается с колхозом. А колхоз строителям трудодни платит. Не должно быть в колхозе бедности. Дома – хорошие. И в домах– хорошо. Картины повесим на стены. Догоним город, догоним...
–Что ж, не вспоминаешь единоличное житье? – с недоверчивой усмешкой спросил Василий. – Ты ведь с Митрохиным вместе советской власти погибель прочил.
– Только мертвый не ошибается, – нахмурясь, проговорил Антон Карпов.
– Пойдем, Василий, покурим, – позвал Иван Хомутов, опасаясь, чтоб не пошел дальше обидный для Антона разговор.
С Антоном разговор прервался, а с Хомутовым завязался. Василий потом рассказал Даше.
– Подкулачника ты на груди пригрел, – говорил он Хомутову. – Лису хоть мелом выбели, а зайца из нее не сделаешь.
– Антон в работе себя показал, и я ему верю, – сидя рядом с Василием на крылечке и затягиваясь махорочным дымом, вперекор Василию доказывал Хомутов. – Я лодырям, которые про советскую власть только любят кричать, а руки от мозолей берегут,– тем не верю. Не знал Карпов, какая будет колхозная жизнь, и противился, за кулацкий хвост держался. Узнал, понял – сердцем с колхозом сросся. Верил я ему и верить буду.
– Много у нас на заводе врагов народа разоблачили.
– Немудрено голову срубить – мудрено приставить. Я врагам народа не защитник. А честного обидеть боюсь. Обида душу калечит. Председатель я. Коммунист. Люди мне доверяют. Они – мне, я – им. Без этого колхоз не поднять. Да и страна на том держится, на взаимном доверии партии и народа. Сила наша в этом несокрушимая, Василий.
– Оно так, – согласился Василий. – Слова твои верные. А бдительности не теряй.
– Бдительность – штука нужная... А думается мне, что, целясь в волка, попадаем мы иной раз в коня.
– О чем ты? – не понял Василий.
– Так... Думы иногда мучают. Зряшные ли, нет ли – не пойму. Пойдем в дом. Слышь, песню заводят.
В воскресенье Василий до свету отправился рыбачить. С вечера сказал, что уйдет, место Даше назвал – за Заячьей поляной, и велел, как встанет, приходить с ребятами есть уху. Спали Даша с Василием на сеновале, крепок сон от милого запаха сухих трав, и не слыхала Даша, как ушел Василий. Проснулась – одна. И беспричинно дрогнуло у нее сердце, занесло в голову нелепую мысль, что навсегда ушел от нее Василий. Позже, когда рассказывала бабам об этом предчувствии близкой разлуки, удивленно качали бабы головами.
А день был ясный, золотистый, солнце гляделось в щелки сеновала, пылинки играли в светлых полосках. Ребятишки шумели во дворе. Даша встала, огородами вышла к речке, умылась.
Маша с Варькой на руках сидела на чисто вымытом крылечке. Дарья взяла Варьку, покормила грудью. Клавдия еще не вернулась с фермы – она работала на ферме дояркой. Егор в огороде картошку окучивал.
– Ну, кто со мной пойдет уху хлебать? – спросила Дарья.
– Я, я! – закричали Митя с Нюркой и Мишу за руки с собой приволокли.
– Пойдем и ты, Маша, – позвала Дарья.
Девочка сдержанно улыбнулась.
– Бате надо помогнуть картошку окучивать.
«Надо бы и нам с Василием тяпками помахать, – подумала Даша. – Рыбалка его поманила...»
Даша пошла к брату на огород.
– Отдохни, Егор... Мы с Василием вечером пособим.
– Вы – гости, – сказал Егор, вытирая рукавом вспотев шее лицо. – Гуляйте себе на здоровьечко...
С Варькой на руках Даша шла по тропочке вдоль реки. Митя, Нюрка и Миша гуськом бежали впереди, а она – следом, как пастух за говорливым табунком.
Голубое небо купалось в Плаве, облака, будто огромные гуси, плавали в воде. Солнце каждую травинку грело. Стрекозы гудели. Ребятишки за бабочками гонялись по белому от ромашек лугу. Дивно, мирно, солнечно было вокруг. И на сердце у Даши – так же мирно и солнечно. Последний раз в жизни было в тот день так легко ей и безмятежно, никогда уже после не выпало столь бездумно– счастливого дня.
– Дым! Дым! —закричал Митя звонко и весело.
Нюрка с Мишкой подхватили:
– Дым! Дым!
– Костер там наш, – сказала Даша. – Бегите наперегонки.
Мальчишки кинулись вперед с жеребячьим визгом. Нюрка от них отстала, заревела. Даша взяла ее за руку.
– Не гонись за парнями-то, мы с тобой степенно пойдем.
И пошли степенно. Обе босые. На Нюрке сарафан цветастый, на Даше юбка широкая, кофта белая с горошком грудь обтягивает. Платок Варька сдернула с Дашиной головы, махала им и гугукала, довольная.
Василий, улыбаясь, вышел из кустов, заспешил навстречу. После часто вспоминала Даша, каким его увидела тогда, в последний мирный день: волосы, упавшие на лоб, и улыбку, и светлый взгляд, и босые, незагорелые ноги, и косоворотку синюю с перламутровыми пуговками, не застегнутую у ворота... Нюрка кинулась отцу навстречу, он ее подхватил, над головой поднял. Потом на костер ей показал, она побежала к мальчикам.
– Рыба сегодня хорошо клевала, – сказал Василий.
Он рыбу успел уже почистить и на три лопуха кучками сложил. Окуни отдельно, пескари да ерши – особо, а на третьем лопухе щучка лежала с килограмм весом. Над костром перекладинка пристроена на двух рогульках, вода в котелке кипит. Василий и картошку и лук из дому прихватил, чтобы Даше не тащить, и ложки деревянные, и соль – все с вечера собрал.
– Кто не искупается, тому и ухи не достанется, – сказал Василий ребятишкам.
Они – бегом к речке, только плеск пошел.
– Ступай и ты искупайся, Даша. Я за Варькой пригляжу.
Варька лежала на пеленке, кинутой на траву, сучила полными ножонками, играла деревянными ложками, стукая одну об другую.
Даша зашла за мысок поодаль от ребятишек, разделась, дала солнцу понежить крепкое свое тело. Охолонувшись, забрела по пояс в реку, раздвинула руками тугие, прозрачные струи, умыла лицо и поплыла...
Потом все сидели вокруг котелка, хлебали уху. Вместо тарелки каждый сорвал себе лопушок, в речке вымыл. Целые рыбки на лопушке раскладывали, ели с черным домашним хлебом. Ухой пахло, хлебом, травами, медом. Река плескалась о берег. А в небе звенели жаворонки.
Если бы в эту минуту кто сказал про войну – кажется, не поверили бы Даша с Василием. А уже шла война. В первый же час сгубила она больше людей, чем в Серебровске и Леоновке вместе было жителей. Села глотала целиком, в самое сердце городов кидала бомбы.
После полудня на небо откуда-то набежали тучки, и Даша, боясь за Варьку, заторопилась в деревню. Ребятишки теперь уже не гонялись за бабочками, плелись позади старших, набегавшись и уморясь. Варька спала у Даши на руках.
– Надо бы каждый год в деревню приезжать, – сказал Василий. – Хоть летом, хоть зимой, – когда отпуск выпадет. Ребятишки зимой на санках покатаются.
До деревни оставалось уже недалеко. И вдруг долетел оттуда горестный бабий вой. Василий умолк на полуслове. Баба что-то причитала, но слов не удавалось разобрать.
– Помер кто-то, – сказал Василий.
Ребятишки примолкли, насторожились.
Все плакала баба, все горевала, с подвыванием выкрикивала свои причитания. Даша старалась понять по голосу, кто воет, да не угадывалось – позабыла все голоса. Уж когда в деревню вошли, увидала – против Анисьиной избы народ стоит, и сама Анисья, к плетню припав, воет.
Она была вдова. Отца у нее в империалистическую войну убили. Муж в гражданскую погиб. Сын с финской не вернулся. Еще два парня оставались, близнецы, лет по двадцати, с ними и жила. Даша сначала подумала – не с сыном ли ее каким беда, утонул, что ли... Но нет, оба сына были тут же, один от плетня отрывает Анисью, уговаривает:
– Мама, да будет вам... Перестаньте, мама. От людей стыд.
Другой парень стоял поодаль, возле поленницы, в распущенной рубахе, чесал затылок, не зная, что делать.
– Ой, сыночки мои родные, на кого ж вы мать свою старую покинете, ой, пришло к нам горе лютое, не удержать мне сыночков моих, не спрята-ать...
Стояли на дороге кучкой мужики и бабы с непривычно суровыми лицами, не пытались уговаривать Анисью, не мешали ей голосить. Даша с Василием все еще не понимали, отчего воет Анисья. Подошли к людям, хотели спросить. Пастух Архип, не дожидаясь вопроса, сказал:
– Война. С немцами.
– С фашистской Германией, – пояснил Чернопятов.
– Ой, люди добрые, нагрянула война неизданная, разгуляется смерть ненасытная, слов не хватит горе наше высказать, слез не хватит беду нашу выплакать...
– Мама...
Из проулка показался Иван Хомутов, торопливо вошел во двор к Анисье, рванул ее от плетня.
– Хватит выть! Враг напал на нашу Родину, значит, будем защищаться.
Кто-то из баб вздохнул:
– Ох, война, война...
Даша слушала и все не понимала. Не понимала или не верила. Ведь в газетах писали – дружба у нас с Германией. Молотов в Германию ездил, с Гитлером говорил. И все так мирно вокруг... Коровы идут с поля, мычат у своих дворов. Молоком парным пахнет.
Но взглянула Даша на ребят – а они уж не те. Лица словно повзрослели, в глазах вопрос. Воем своим растревожила их Анисья. И до Дарьи вдруг дошло, что сынов своих живых Анисья, как мертвых, оплакивает. Овдовила ее война, осиротила, теперь парни уйдут на войну. И Василий...
– Вася!
Дарья ухватила мужа за локоть, прижалась к нему.
– Домой нам ехать надо, Даша, – сказал Василий. – Идем собираться.
Вечером Егор повез Костроминых на станцию. Тучи бродили над полями, темнили небо, но дождя не было.
Варя спала у Даши на руках, Нюрка в середине телеги свернулась калачиком на сене. Митя сидел, привалясь к отцу. И молчали все. Даша потом не раз думала: зачем же мы тогда молчали? Говорить бы, говорить, говорить. Но – молчали. То ли весть о войне в первый миг так пришибла, то ли уж знали они с Василием друг друга до последней кровиночки, и без слов каждый другого понимал.
О брате Даша не думала. Отвыкла от него. Одна мысль точила: «Заберут Васю на войну... Заберут Васю на войну. Заберут...» Неотвязно бьется в голове одно и то же, и страшно Дарье, боится она дальше думать, чтоб беду не накликать, а самой уж мерещится, что не воротится он. Тогда как же? Как же дети-то? И кажется, что кому-то надо объяснить, что дети у них, вон они, трое, мал мала меньше, нельзя Васе умирать, нельзя его убивать...








