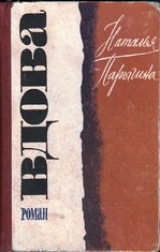
Текст книги "Вдова"
Автор книги: Наталья Парыгина
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 29 страниц)
Парыгина Наталья Деомидовна
ВДОВА
Матери моей посвящаю.
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
МОЛОДОСТЬ
1
Будто примяв огромный белый пуховик, раскинулась Леоновка в заснеженной ложбине. Заиндевевшие ивы нависли кружевным пологом над крайними избами. Речка примолкла подо льдом, за ночь мороз заштопал прорубь топким прозрачным ледком и присыпал свежим снегом. Даша ударила коромыслом, и лед раскололся со звоном и всплеском. Плава весело закрутила в проруби льдинки и, наскучившись в темени подо льдом, озоруя, едва не утянула ведро.
Ночной мрак еще не рассеялся, снега на деревенской улице и в полях окрест Леоновки лежали синие. Заря вдалеке, за изогнувшимся дугой лесом, алыми языками зажгла край неба.
Под окошком своей избы Даша увидала чьи-то следы. Да нет, не только следы... На пушистом снегу аккуратными желобками были выписаны четыре крупные буквы: Даша. «Кто это, – подумала Даша, – баловаться-то вздумал?». Она сердилась или только хотела сердиться, а самой чудилась в этих буквах загадка, чудилось, что неспроста написала их неведомая рука. Уж не Василий ли?
Но Даша тотчас одумалась. Чего бы тут делать Василию?.. Некуда ему ходить мимо Дашиной избы, третьей с краю деревни. Летом спешил в поле, и Даша потихоньку глядела иногда ему вслед, из окошка или из-за плетня. Он уверенно шагал по дороге прямо держа голову и несильно махая руками, старенькие брюки заправлены в пыльные сапоги, сатиновая рубашка обтянула круглые плечи. Но когда отдыхает земля под белой шубой, не ходят люди в поле мимо Дашиной избы. Не Василий это. Парнишка, поди-ка, чей-то проказит. Вот подкараулю да оттаскаю за вихры...
Даша грешила на неведомого парнишку, а сама видела: следы на снегу большие, взрослые. Она поставила ведра и провела краем коромысла по своему имени. Глянула на окна, не видал ли кто, мать или бабушка. Но стекла были густо разрисованы диковинными цветами. «Может, и с именем моим Мороз пошутковал? – весело подумала Даша. – Вон какой художник ладный. И грамоту, поди, знает. Не знал, так в ликбезе выучился».
Два дня она нарочно выбегала по утрам за ворота поглядеть, нет ли опять чего на снегу. Но ничего не было до нового снегопада. А тут как-то целый день валил снег и к ночи не перестал. На утро зашла к Родионовым соседка и прямо к Даше: «Кто это тебе телеграммы-то под окошком пишет?» Даша закраснелась, накинула платок, выскочила на улицу. Так и есть. Даша. Она забралась в снег и потоптала валенками буквы.
С тех пор и повелось: как свежий снег выпадет, так утром под окнами ее имя. Даша пыталась подкараулить неизвестного грамотея, по нескольку раз выбегала на улицу. С вечера никто не писал. А утром проснется, – уж готово.
Разгадку дала бабка Аксинья. Хитренько прижмурившись, поманила Дашу пальцем к окну. И не глядя в протаянный на стекле кружочек, Даша смекнула, в чем дело.
– Я не знаю, кто это пишет.
Бабка Аксинья с тем же лукавым видом затрясла головой.
– То-то, что не знаешь. А ты меня спроси.
– Бабушка Аксинья! Неужто подглядела?
– И подглядела, – сказала бабка, – и подглядела. Мой сон ненадежный, чуть снег скрыпнет, я уж слышу. Слезла с печи, подышала на окошко, гляжу – батюшки мои, писарь объявился. Стоит под окошком и палочкой по снегу водит. Мало ему места, вон все поле белое лежит, до весны пиши, не испишешь, так нет, сюда его поманило.
– Да кто писал-то? – нетерпеливо спросила Даша.
– Василий Костромин, кто же, – сказала бабка Аксинья, будто давным-давно знала, что больше некому.
– Ой, за дровами надо бежать, печку растапливать, – быстро проговорила Даша взыгравшим голосом и кинулась из избы, будто ее вихрем подхватило.
В тот день она много ходила по деревне, всех подружек навестила, думала, не встретит ли где Василия. В Народный дом заглянула, журнал полистала. Но так и не встретила.
Дня через два случайно сошлись на дороге напротив школы.
– Здравствуй, Даша, – радостно проговорил Василий. – Что сердито глядишь?
– Ты зачем грамотой своей хвалишься?
Василий улыбчиво, открыто глянул Даше в глаза.
– Сама должна понять.
– Ты не пиши, – попросила Даша.
– А выйдешь сегодня за околицу? Что ж молчишь?
– Выйду...
– Как стемнеет, ждать буду. Не обмани.
Василия Даша не обманула, а мать пришлось обмануть. Сказала матери, что к Маруське Игнатовой пойдет, вязать да песни петь. Она и носок недовязанный со спицами аккуратно положила в карман шубейки, но во дворе сунула его в поленницу. С опаской подумала: «Достанется же мне коли мать узнает...»
Даше было девять лет, когда отца ее убили бандиты. Среди ночи вдруг разбудоражил Леоновку конский топот, щелчки выстрелов, как удары пастушьего бича, пробили деревенскую тишь, заполошный бабий вой всплеснулся над избами. Отец спрыгнул с полатей, прилип к окну, выходившему во двор и зачерненному осенним мраком.
– Что там, Тимоша? – испуганно прошуршал во тьме голос матери.
– Опять, знать, Гулькин-атаман разбойничает.
Отец, не зажигая света, нащупал на лавке портки, примялся натягивать.
– Не ходи, Тимофей, – остерегла его бабка Аксинья. – Убьют под дикую руку.
– Коня уведут. Что без коня будем делать?
– Я с тобой, – сказал Егорка и тоже принялся торопливо одеваться.
– Оставайся! – приказал отец. – Бабам одним боязно. А я коня задами к лесу выведу, спрячу в сосняке.
– Ой, горюшко, – взвывала мать, – и когда ж эту проклятую банду переловят...
– Закинь крючок, Егорка, – сказал Тимофей и стукнул дверью.
Мать смолкла так же внезапно, как начала выть. Подошла к окну, у которого только что стоял отец, застыла недвижимо – тощая, в длинной белой рубахе, прорезанной черными полосками распущенных кос.
– Выводит... Хоть бы успел! Мати пресвятая богородица, спаси нас от беды, защити рабов твоих от зла и напасти...
Выстрелов больше не было, только одинокий отчаянный бабий плач доносился с улицы.
– Уехал, – проговорила мать с облегчением и отпрянула от окна. – Слава тебе господи, обошлось.
И вдруг где-то совсем близко пальнули из ружья, и короткий вскрик раздался в ночи.
– Тимоша! – взвизгнула мать.
Звякнув крючком, как была, в исподней рубахе, мать выбежала из избы. Егорка кинулся за ней. Даша тоже попыталась перелезть через бабку Аксинью и соскочить с печи, но бабка отпихнула ее к стенке.
– Не ходи!
Она села, свесив ноги, напряженно прислушиваясь. В Леоновке стояла тишина, ни выстрелов, ни топота, ни плача, будто померещилась вся эта ночная будорага. Даша запомнила короткий миг зловещей тишины. И то, как располосовал ее страшный вопль матери, долетевший с улицы.
– Уби-ли-и... Тимофея моего убили...
Направляясь на коне в лес, Тимофей за огородами напоролся на засаду бандитов. Пуля попала ему в голову. Коня бандиты увели.
Варвара, Дашина мать, сникла от горя, поседела, постарела. Но не опустила рук. Договорилась с середняком Антоном Карповым, что он будет пахать ей поле на своей лошади. Отдавали за то четвертую часть урожая, но жили с хлебом, не голодали. А когда Егор вошел в жениховские года, Варвара задумала сосватать ему выгодную невесту, чтоб на ее приданое купить коня, окрепнуть хозяйством.
Надежда не сбылась, сын подсек ее под корень. Приглянулась ему бобылка Клавдия. Жила она в убогой избушке, хлеб зарабатывала батрачеством, не то что приданого – лишнего сарафана не имела, курица не кудахтала во дворе с повалившимся тыном. Не поглядел Егор на ее бедность. Знать, околдовала его Клавдия хитрыми раскосыми глазами. С гулянья в обнимку провожал Клавдию в покосившуюся избенку, домой возвращался под утро. А однажды, когда мать взялась попрекать его за беспутство, заявил, что женится на Клавдии.
Мать рассвирепела так, словно ее кипятком ошпарили. Клавдию обзывала последними словами, Егора колотила скалкой по спине и по голове. Он не отстранялся, только лицо загораживал ладонями. Но когда мать, уморившись, отшвырнула скалку и в слезах пала на лавку, Егор упрямо и твердо повторил свое:
– С венцом ли, без венца ли, а жить буду с Клавдией до смерти.
Мать возненавидела Клавдию, как лютого врага. Но Егор от своего не отступился. Венчаться без согласия матери не стал, а ночевал дома редко. Клавдия родила девчонку и Даша тайком от матери бегала нянчиться с золотушной белоголовой Машенькой.
Теперь, когда Даша заневестилась, у матери опять воспрянули мечты о нехитром деревенском богатстве. Тяжелый недуг одолел Варвару, силы ее таяли, как свеча перед иконой, неодолимый кашель сотрясал тощее тело. Казалось, только и держала в жизни сладостная задумка выдать дочь за парня с крепким хозяйством и расчетливым умом. Единственный сын Антона Карпова, коренастый краснощекий Федька во сне и наяву мерещился ей зятем. На последние гроши справила Варвара дочери новое пальто, купила полушалок с кистями и с розами. И все жужжала в уши про Карповых, про их достаток и добрый нрав.
Даша жалела мать, но Федька Карпов был ей немил. Молча слушала она намеки на Федькину симпатию к ней, боялась сокрушить нестойкое здоровье матери прямыми словами. Собираясь на свиданье к Василию, маялась укорами совести. Но не было у Даши над собою власти, какая-то непостижимая сила влекла ее к Василию, будто в нем одном крылась для нее вся радость жизни. И уходила Даша тайком на свиданья к милому, стояла с ним на морозе, прикрытая полами его полушубка, слушала, приткнувшись ухом к жесткому пиджаку, удары его сердца.
– Любушка моя желанная, – шептал Василий.
И поцелуями согревал захолодевшие на ветру Дашины губы.
***
Мать узнала о Дашиных встречах с Василием на масленице.
День выдался солнечный и морозный, золотые искры сверкали на снегу, визг, хохот разносился по всей деревне с крутого откоса над Плавой. На розвальни, с которых ради праздника сняли оглобли, тесно усаживались парни и девки, и сани лихо катились под гору. Сколько раз скатились, столько раз оказался Василий позади Даши, и так крепко обхватывал ее при этом сильными руками, будто хотел удержать на всю жизнь. Когда, свернув с укатанной дорожки, ударились сани о притаившийся в снегу пенек, Василий вместе с Дашей, не расцепив рук, отлетел в сугроб. Даша первая вскочила, стала отряхивать шубейку, поправлять на голове сбившийся полушалок, а он все сидел на снегу, без шапки, с упавшими на лоб русыми волосами, жаркими глазами глядел на нее и смеялся, показывая широкие белые зубы.
Воротившись в сумерки домой, озябшая, голодная и счастливая, Даша звякнула заслонкой печи, и вдруг, будто разбуженный этим звуком, послышался хрипловатый, гневный голос матери.
– Ты с кем это сегодня в обнимку на санях каталась? А? Говори!
– Там все катались, – сказала Даша.
– А по вечерам за околицу тоже все бегают? «К Маруське пойду!» Знаю я теперь твою «Маруську»! Не перестанешь с ним хороводиться – косы вырву!
– Не зудила бы ты девку, Варя, – вмешалась, свесив голову с печи, бабка Аксинья. – Парень-то и пригожий и работящий...
Но мать только пуще взвилась от ее уговоров.
– Работящий! Пригожий! Ни кола, ни двора у этого пригожего, у чужой старухи на лавке приткнулся. Да еще в колхоз записался.
– Не он один в колхоз вступил, – сказала Даша. – Уж полдеревни, поди-ка... И Егор...
Напомнив про Егора, Даша тут же поняла, что допустила промашку. Да сказанного слова за деньги не воротишь.
– Не смей мне про Егора поминать! – в бешенстве закричала мать. – В могилу он меня загонит с беспутной этой бабой да с колхозом... Ты умных людей слушай. Чего Антон Карпов про колхоз говорит?
«Иван Хомутов не дурее твоего Антона», – подумала Даша, но вслух возражать матери не решилась.
Всю зиму в Леоновке бурлили собрания. Иван Хомутов, воротившийся хромым с гражданской войны, на собраниях кричал про светлую жизнь. Антон Карпов, дымя самосадом, бубнил мужикам: «Раз светлая – так, надо полагать, что совсем без ночей. Спать по ночам Советская власть отменит, а придется горбатиться на этот самый колхоз цельные сутки».
Мать тяжело раскашлялась, схватилась руками за грудь. Худая, согнутая, вздрагивающая от кашля, в полумраке избы она выглядела жалкой и страшной. Бабка Аксинья проворно слезла с печи, принялась раздувать задремавшие угольки, греть молоко.
– Комсомолец он, – угомонив кашель, горестно проговорила мать. – Говори: комсомолец?
– Комсомолец, – тихо сказала Даша.
– Комсомольцы невенчанные живут. Егорка без венца со своей нищенкой спутался, и ты туда же? За что мне наказанье это? Господи, за что?
Варвара рыдала, уткнув лицо в подушку.
– Не плачь, мама, – сказала Даша. – Не оплакивай ты мое счастье. Люблю я Васю.
– Не смей! – вскричала мать, вскинув голову. – Не смей об нем думать. Я тебя родила, я твою судьбу по-хорошему слажу. Не перечь ты мне только... Забудь об этом беспортошном!
Даша вся сжалась от охватившего ее отчаянья, от жалости к матери и к себе. С трудом ворочая занемевшим языком, она все-таки сказала свое:
– Милей Васи мне никто не будет.
– А-а, – застонала мать.
Опираясь на руки, медленно встала с постели, пошатываясь, двинулась к Даше.
– Нету тебе моего благословения, – говорила она угрожающе. – Поперек моей воли сделаешь – не будет тебе радости.
– Варя! – сурово окликнула ее бабка Аксинья и схватила за руку. – Не накликай ты на нее зла. Беды, как репьи, сами прицепятся. А светлый час поберечь надо. Полюбила Василия – пускай любит. Ну и какая беда, что беспортошный? Портки нажить можно, было бы на кого натягивать. И ты не царевной замуж выходила...
– Не допущу, чтоб без венца... – хрипела Варвара.
– Други порядки, други и повадки, – продолжала бабка Аксинья примиряюще.
– Не допущу! – собрав силы, крикнула Варвара. – Не...
Что-то забулькало у Варвары в горле, она пошатнулась и стала оседать. Бабка Аксинья и Даша подхватили ее под руки, но не могли удержать. Варвара опустилась на пол, запрокинула голову. Изо рта струей била кровь.
С этого дня Варвара уж не подымалась с постели. Умерла она на третий день пасхи. На улице играла гармонь, девки визгливыми голосами орали частушки. Бабка Аксинья тихо всхлипывала над покойницей.
– Бессчастная ты моя...
В гробу мать выглядела неприступно-суровой. Даше казалось, что вот-вот разомкнутся ее тонкие посинелые губы, и снова прозвучат жестокие слова: «Поперек моей воли сделаешь – не будет тебе радости». Мать умерла, а власть ее над Дашей осталась.
Вскоре после похорон Егор зарегистрировался с Клавдией в сельсовете и привел ее с Машей в свой дом. Клавдия сразу поставила себя главной хозяйкой. Была она непомерно скупа и жадна, над каждой ложкой молока тряслась, хлеб норовила резать тонкими ломтиками. Бабка Аксинья как-то в сердцах сказала Даше: «Клашка пролитую каплю с полу языком слизнет, из навоза зернышко выковырнет».
Егор, перед матерью проявивший непокорство, Клавдию во всем слушался. Ее мыслями думал, ее словами говорил: «Крошки не пожалеешь – и ломтя не сбережешь!» Клавдия была годами старше Егора, ростом выше, волей крепче. Статная, чернобровая, собой видная. Спали они в горнице, на кровати, по ночам Даша иной раз слышала жаркий шепот и приглушенный смех Клавдии. Знать, на ласки была она не так сквалыжна, как на хлеб.
Василий подсылал к Даше замужнюю соседку, просил через нее, чтоб вышла к большой раките над Плавой. Старая ракита изогнулась кочергой, устроив у корневища нечто вроде скамейки для влюбленных, а ветвями нависла над водой.
– Каждый вечер до полночи ждет тебя под ракитой, – говорила соседка, лукаво прикрывая рот концом платка. – Иссох по тебе парень-то...
– Скажи, что не выйду я, – отвечала Даша. – Не до забав мне. Маманина постель не остыла, а я на свиданку побегу.
Правда ли, нет ли, что ждал ее Василий под ракитой, – не знала Даша. Вдруг померкла, подернулась печалью ее любовь. Мать тенью вставала между нею и Василием, и страшилась Даша через ту тень перешагнуть.
Однажды в дождливый день Василий пришел сам. Сапоги в грязи, кепка насквозь мокрая, волосы прилипли ко лбу. Стянул кепку, скомкал в кулаке:
– Даша...
Егора с Клавдией не было дома, ушли в поле поглядеть землю, готовились сеять. Бабка Аксинья пряла в углу, Маша сидела на полу, раскинув кривые ножки, тискала котенка.
– Зачем пришел, Вася? Не хочу я с тобой видеться. Не будет у нас ничего... Мать того не хотела...
– Мать из гроба не укажет нам, как жить. Самим решать...
– Беду с весельем в одни оглобли не впряжешь, – сказала бабка Аксинья, продолжая мерным покачиванием ступни крутить прялку. – Пополам мы с Дашей горе делим, да и половинки велики.
– Понимаю я, – примостившись у порога на лавке, кивнул Василий. – Жалею тетку Варвару. Не любила она меня, но не от зла. Туман у ней был в голове от пережитков. Достаток уважала, старыми обычаями жила.
– Молчи! – крикнула Даша. – Не суди ее. Может, она больше нас понимала. А мы все перечили, и Егор, и я... В могилу ее свели. Не хочу я... Не стану я вперекор ей с тобой встречаться. Не ходи ты ко мне, Вася. И не зови никуда – не пойду. Не будет нам утехи в жизни, коли она того не хотела.
– Одумайся, Даша! – с укором проговорил Василий. – Давно ли говорила, что люб я тебе.
– Что говорила, все забудь. В другом поле ищи свою долю...
– Не забижай ты парня, Даша, – вмешалась бабка Аксинья. – Огонь перегорит, боль переболит. Кого гонишь, об том тосковать станешь.
– Не стану, – отрешенно глядя прямо перед собою на огромную, обшарпанную и в черных пятнах от копоти печь, сказала Даша.
– Что ж, коли так... Простите на глупости, не судите на простоте, – вставая, проговорил Василий. —Не стану боле докучать тебе, Даша. Добра желаю. Прощайте.
Слегка пригнувшись перед низкой притолокой двери, Василий вышел из избы.
– Ой, тошно мне, – с надрывом выкрикнула Даша, пав головой на стол.
Маша вдруг отчаянно заревела, испугавшись крика, котенок прыгнул прочь. Бабка Аксинья оставила прялку, взяла девочку на руки.
– Ты слезы-то побереги, – сказала она то ли Даше, то ли малышке. – Жизнь долгая, еще сгодятся. Не на то глаза, чтобы текла слеза...
Даша почти не выходила со двора, только что по воду к речке да в лавку за керосином или за солью. Хозяйство невелико, а хлопот хватало. Корову доила, помогала Клавдии месить и выпекать хлеб, картошку с братом перебрала... Клавдия с Егором рано укладывались спать, чтоб не жечь попусту керосин, и Даша поневоле забиралась на полати.
Днем, за работой, она не думала ни о матери, ни о Василии. А по вечерам при скудном свете зажженной перед иконой лампадки нападала на нее тоска и обида. На мать обида: почто упрямством своим поперек ее счастья борозду вырыла? И на Василия. Целовал-миловал, а от первого слова прочь отступился. Видно, ненадежна, как весенний лед на Плаве, была его любовь.
Иногда казалось Даше, что мается в одиночестве Василий так же, как она. И, может, до сих пор ходит к старой раките, дожидается ее и не дождется. До того засела в голове у Даши эта мысль, что неотступно мерещился Василий под ракитой и будто молча звал ее.
Тихо, чтоб никого не разбудить, Даша соскользнула с полатей. На печи, где спала бабка Аксинья с Машей, послышался шорох. Но голоса бабка Аксинья не подала. Натянув юбку и кофту, Даша схватила большой суконный платок и выскользнула за дверь.
Улица была светла от лунного сияния. Ракиты, выпустив листву, раскудрявились, нависли над крышами тонкими ветвями. На просохшей улице стелились от изб и от деревьев серые тени.
Даша наискосок перебежала дорогу, по крутой тропинке метнулась вниз, торопясь поскорее добраться до прибрежных камышей. Вдоль камышовых зарослей пошла медленнее, вглядываясь в лунный сумрак. Издали почудилось ей, что стоит кто-то под ракитой. Но, приблизившись, увидала, что ошиблась. Лунные отблески падали в сонную Плаву, лапчатые тени качались на воде, за рекой, темны и бесконечны лежали поля. «Не дождался. Ушел», – подумала Даша. И, не встретив у ракиты Василия, верила Даша, что ждал он ее.
Возвращаясь домой, она кинула взгляд вдоль улицы. Как светляки у гнилого пня, мерцают редкие огоньки в окошках деревенских изб. Только два окна бывшего Митрохинского дома кидают на дорогу яркие оранжевые пятна. Лампа-молния свисает с потолка Народного дома. Раньше тут была лавка. А в той, темной половине, где теперь библиотека, жил прежде сам Митрохин с женой и парнишкой. Раскулачили его, в Сибирь сослали.
В Народном доме стояла тишина. Широкие окна были не занавешены, будто нарочно, чтобы Даша всех видела: коренастого, с маленькими усиками и в очках фельдшера Чернопятова, молодую белокурую учительницу Лидию Николаевну и Василия. И Василия...
У фельдшера в руках книжка, он смотрит в книжку и шевелит губами, а потом поднимает глаза на Василия, молвит, а Василий что-то говорит учительнице. Говорит, а сам близко глядит ей в глаза, как, бывало, Даше глядел, когда тайком от матери бегала к нему в назначенное место. Фельдшер подошел к учительнице и обнял ее, а сам что-то сказал Василию, тот кивнул большой лохматой головой, встал на место фельдшера, неловко поднял руки и сам обнял учительницу. И оглянулся на фельдшера: так ли?
Даша прислонилась спиной к чужому плетню, плотнее стянула шаль. Вот он как! Всю любовь забыл, будто камнем в речку кинул. Учительницу обнимает... Даша наклонилась и стала шарить по земле руками, отыскивая камень. Ни одного камня не нащупала, как на грех, а днем то и дело об них спотыкаешься. Зазвенели бы Митрохинские стекла! Даша бегло глянула на оранжевые квадраты окон и почти бегом кинулась прочь.
На этот раз бабка не притворялась спящей. Заворочалась на печи, закряхтела.
– Не спишь, баба? – тихо спросила Даша.
– Не сплю. Повидалась, что ль, с Василием?
– Нет. Забыл он меня.
– В тоске своей ты сама виновата. А что забыл – выкинь из головы. Такую девку забудет, так надо его голым в крапиве гонять.
Даша разделась, легла. Из горницы доносился храп Егора. В углу под потолком, оклеенном бумагой, шуршали тараканы.
– Даве Игнатиху встретила, запамятовала я тебе сказать, – спохватилась бабка. – Маруська письмо прислала.
– Чего ж пишет?
– Чево... Поклоны всем шлет. И тебе поклон. А живу, пишет, хорошо. Да она такая, Маруська-то, с заднего колеса влезет на небеса.
Ранней весной Маруська забежала за Дашей, позвала в школу на собрание: «Вербовщик приехал, на стройки будет звать». Даша покосилась на спящую мать, собралась потихоньку и пошла.
Приезжий говорил про пятилетку и про новые заводы, обещал хорошие заработки и по карточкам положенный паек. Ростом он не задался, и Даша из-за чужих спин не видала даже макушки вербовщика и не все слышала, что он рассказывал. Да еще девки щелкали семечки, мешали слушать. Когда стал вербовщик записывать желающих ехать, Маруська пробилась к столу. «Пиши, – сказала, навалившись ему на плечо, – пиши: Мария Игнатова. Я к Леоновке непривязанная, счастье мое невесть где по свету мотается, авось догоню». И уехала...
– Где она? В Туле? – спросила Даша.
– Не, не в Туле. Денежный город какой-то, по-денежному прозывается. Рублевск? Нет, не Рублевск... Серебровск! – радостно воскликнула бабка. – Во как. Серебровск. Игнатиха говорила – тебя зовет али кто захочет из девок. На хорошую, говорит, работу устрою, в столовке тарелки мыть.
«И то, – подумала Даша, – взять да уехать. Горько за Василием в окошки подглядывать. Клавдия куски считает, за столом давишься. Нету мне тут радости...»
В деревне, неизвестно отчего, растревожились собаки. Отрывисто, басовито лаял чей-то большой пес, во дворе долгими приступами заходилась Мурашка, и по всей Леоновке гавканье, повизгиванье, рычанье сливались в отчаянной собачьей перебранке.
– Не волк ли забрел? – забеспокоилась Даша.
– Какой там волк... Одна собака задарма брехнула, а другие всерьез подхватили. Вовсе как у людей. – Бабка шумно вздохнула. – Спи, Даша. Всех дум в одну ночь не передумаешь.
– Уеду я, баба, – привстав, сказала Даша. – В тот же Серебровск либо еще куда.
– Гляди, – потускневшим голосом проговорила бабка Аксинья. – Делай, как задумала, а сделавши не кайся.
– Я тебя, баба, к себе заберу, – утешила Даша бабку Аксинью. – Устроюсь и отпишу, ты приедешь.
– Куда мне... Нешто замуж выйдешь да дитеночка породишь, тогда приеду нянькаться.
– Не выйду я замуж...
– Он к тебе, Васька-то, гляди, за тридевять земель прискачет, – сказала бабка. – Не такой парень, чтоб от девки к девке кидаться.
– Не нужен он мне, – сказала Даша, стараясь больше уверить в этом себя, чем бабку.
– Не нужна соловью песня, ан каждую весну заливается...
Неширокая дорога с засохшими желобками от тележных колес и вмятинами от копыт шла через лес. Под загустевшими вершинами берез ярко белела береста, молодая трава красовалась в росе, будто накрытая тонкой серебристой фатой. Из травы выглядывали ландыши. Деревья стояли редко, и в лесу было светло, хотя солнце еще только всходило.
Даша шла неспешным ровным шагом, крепко впечатывая в землю подошвы черных ботинок. Небольшой зеленый сундучок, с которым когда-то воротился отец из Красной Армии, несла в руке. Свернутое пальто приспособила в котомке за плечами.
Разогревшись от ходьбы, Даша скинула жакетку. Утренняя прохлада зябкой лаской расходилась по голым рукам. Мелкие цветочки стелились по белому ситцу на высокой Дашиной груди, юбка, спускаясь по упругим крутым бедрам, билась широким подолом о девичьи колени. Голубая косынка примяла пушистые русые волосы, забранные шпильками на затылке, но две короткие прядки выбились на волю и, разметавшись, щекотали щеки.
Над головой у Даши вдруг нежными переливами залился соловей. Даша замерла, принялась глазами искать голосистую птичку. И отыскала на ветке махонького серого артиста. Серьезно глядя крупными черными бусинками, соловей старательно сыпал трели, которые бабка Аксинья звала хрустальным горошком. Торопливо, взбудораженно и звонко щелкал соловей, то ли уговаривал Дашу не покидать родной край, то ли прощальную песню для нее пел.
Растревоженная соловьиными трелями, Даша опустила на землю сундучок. Что ж я делаю-то! Куда я кинулась, очертя голову, из своей деревни? Чужая сторона без ветра сушит, без зимы знобит.
Напала на Дашу робость. Непонятная сила, точно пуповина с телом матери, связала ее с Леоновкой и не пускала вперед. Но и назад не шла Даша.
То матери боялась. Теперь сама себя пугаю. Сколь же можно? Василий на учительнице женится, а мне на них глядеть? Егор с Клавдией в доме хозяева, а я у них – работница? В колхоз не вступила, а теперь кланяться пойду, чтоб приняли? Не пойду! Не ворочусь! И журавль тепла ищет. Не забоялась же Маруська...
Даша подхватила сундучок и скоро пошла вперед.








