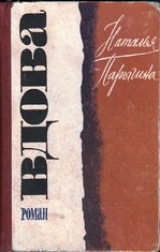
Текст книги "Вдова"
Автор книги: Наталья Парыгина
сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 29 страниц)
3
Забота человека мает и старит, забота же и от горя лечит. Без куска хлеба, без рубля в кармане надо было догонять своих. Билет Дарья получила по справке в пассажирский поезд. Бутылку подсолнечного масла да полкило сахару-песку дали по продуктовой карточке. Масло на хлеб променяла, ела помалу, чтоб на всю дорогу хватило. Сахар ребятам в гостинцы везла.
Раненый красноармеец ехал на нижней полке – отпустили лечиться в родной город, в Томск. Со всего вагона ходили к нему люди, расспрашивали про войну, про немца.
– Сила у него, у немца, громадная, – рассказывал красноармеец, опершись спиною о стенку и вытянув на лавке рядом с костылями раненую ногу. – А бьемся мы до последней возможности. Было нас в батальоне четыреста человек, осталось тридцать шесть. Тридцать шесть, а приказ – удержать населенный пункт, не отступать ни в коем разе.
– С этакой горсточкой разве удержишь, – вздохнула стоявшая в проходе женщина в черном платке.
– Держали, – сказал солдат. – Приказ был – и держали. У реки деревня-то, у самого Днепра. Бабы, ребятишки в деревне. «Уходите, – говорим им. – Жаркий бой будет». Не уходят. В погребе прячутся. А немец как даст снарядом в погреб – и могилы не надо копать.
– Что делается, что делается...
– Пулеметчик один у нас был отчаянный... Три дня бился. Немцы только сунутся через поле – он застрочит. Много уложил фрицев. А после засекли они его. Танк направили. Проехал танк – ни пулемета, ни солдата... Хороший был парень. Отчаянный. И песни здорово пел...
– Насмерть бился...
– Такая идет война – насмерть: либо мы их, либо они нас. Фашисты воюют яростно. А мы разве землю свою, волю свою им уступим?
– Уступили, – вздохнула женщина в черном платке.
– Молчи! – крикнул солдат. – Что ты понимаешь?
Женщина сунула руку в карман пальто, выхватила бумажку, протянула красноармейцу.
– Вот. Мой муж... Смертью храбрых...
Парень медленно прочитал похоронку, отдал женщине, тихо сказал:
– Прости меня, тетка. Не была ты на фронте, а рану фронтовую в сердце носишь. Мужем своим Андреем Ивановичем Силантьевым гордись. За Родину пал... Много еще разнесет почта по стране таких бумажек. А немца повернем и с земли своей вышвырнем. Не будет ему дальше ходу. Нельзя ему дальше ходу дать... Москва!
Под Москвой шли жестокие бои. Кому удавалось достать на станции газету – читали в вагоне вслух. Добрые вести приносили газеты. Под Тулой гнали врага войска генерала Болдина. Наши взяли Клин и Ясную Поляну. Споткнулся фашист под Москвой, разинул роток на большой кусок, да подавился.
Радость и злость вместе жили в Дарьином сердце. Радость за первую большую победу Красной Армии. Злость на врага. Кабы не ребята, кажется, сама схватила бы винтовку да кинулась на фронт бить фашистов, стрелять их, гадов незваных, стрелять, стрелять и глядеть, как в муках смерть примут. Помереть не страшно было Дарье в такие минуты, только б не зря помереть, отомстить бы за Варю, за свои тревоги и беды, за свой завод, разобранный на кусочки, за Серебровск и за Леоновку.
Опомнившись, корила себя Дарья. Зверем становлюсь. Ненависти своей волю даю... Но не без причины родилась ненависть. Война ее породила. И чувствовала Дарья, что этим страшное, хотя и бескровное, зло причиняет людям война. Еще один грех, еще одно преступление людей перед людьми.
Не знала Дарья в себе раньше такой злобы, какой полнилось теперь сердце против врага. Сила ее была в этой ненависти. И беда. Ненависть, войной посеянную, удастся ли вырвать из сердца с корнем? Любовь душу красит, ненависть калечит. Горько жить человеку с покалеченным телом, горше – с душой покалеченной, хоть не всякий час уродство ее на виду.
Скорей бы война кончилась!
Процарапав дырочку на обмерзшем стекле, глядела Дарья в окно. И хороша же Сибирь! Снег лег на просторные поля, чистая белизна стелется до самого неба, сверкает под солнцем искрами переметными. Земли-то, земли сколько тут... А деревни редки, городов мало, от станции до станции иной раз полсуток отстукает поезд. Одному дивилась Дарья: лесов нет. Вся в лесах Сибирь, говорили в Серебровске. Повырубили, что ль?
– Что ж лесов-то не видать в вашей Сибири? – спросила Дарья красноармейца. – Я слыхала – тайга тут дремучая.
– Погоди малость. Скоро и тайга начнется. Велика Сибирь, всего хватает, и полей и тайги...
Велика... Велика земля русская. Богата. Сильна. Понять немыслимо, как фашист к самой Москве прорвался, не встретив на пути заслона неодолимого. Но будет, думала Дарья, будет ему поворот! Не стерпит Россия ярма фашистского, скинет зверя! Первой в мире революцию свершила. Молодая, на неокрепших ногах, перед врагами выстояла. Выстоит и теперь. Сколь ни долгой и тяжкой обернется борьба, а конец ей один: победа.
Далеко от войны уехала Дарья. На безвестной станции девочку похоронила. Старшие дети неведомо где с чужими людьми мотались. У самой от недавней болезни да от голода в голове мутилось. Но жила в ней упрямая, гордая вера в силу страны своей, в силу народа, потому что сама она была частицей этого народа, в испытаниях закаленного, в бедах стойкого, в битвах бесстрашного.
– Мамка! Мамка приехала!..
Нюрка обхватила Дарьины колени, ткнулась ей головой в живот, всем своим маленьким, худым телом сотрясалась от рыданий.
– Ну, чего ты? Чего ты?
Дарья гладила Нюрку по голове, пыталась оторвать от себя, но Нюрка крепко сцепилась руками, казалось, вовек не отстанет теперь от матери. Митя стоял чуть поодаль, повзрослевший и серьезный, большими, голубыми, как у отца, глазами глядел на Дарью. Он ни о чем не спрашивал, но во взгляде его и во всей напряженно-застывшей фигурке чудился Дарье невысказанный вопрос.
– Умерла Варя, – сказала Дарья на немой Митин вопрос.
Сын не шевельнулся, только потупил глаза, спрятав чистую их голубизну под пушистыми ресницами.
– Отпусти, Нюра, мать, – строго проговорила Люба, – вишь, умаялась она с дороги...
Дарья огляделась. Кухня была просторна, с некрашеным, выскобленным полом, и Дарье на миг показалось, что не на окраине сибирского города очутилась она, а в своей избе, в Леоновке. Но только полом и походил дом на леоновскую избу. Русской печи тут не было – плита с кирпичной стенкой-обогревателем стояла почти посередине, а по обе стороны от нее висели ситцевые занавески, прикрывая вход в комнаты. Кружочков не оказалось на плите, и верх был не сплошной, а из железных полосок, в щелки между полосками весело просвечивал огонь. Чайник кипел на плите, фыркая из носика паром. Уютно, тепло, хорошо показалось Дарье в маленьком домике после вагонной маяты, после долгого мотания по городу в поиске ребят.
Люба приготовила заваруху – кисель из пшеничной муки, деликатес военного времени. У нее даже кусочек сливочного масла отыскался.
– Нарочно от пайка спрятала – к твоему приезду берегла.
Ели горячую заваруху с маслом, пили чай с сахаром. Ребята оживились от сытной еды, от того, что мать рядом, трещали наперебой.
– Мама, а ты через Обь днем ехала?
– Нет, Нюра, ночью.
– А мы – днем. Такая огромная река – как море. Только вся замерзлая. Тетя Дора нарочно дверь отодвинула, чтобы все поглядели.
– Я в школу бегаю, – говорил Митя. – Вчера задачу самый первый решил.
– Молодец, что первый, – одобрила Дарья. – Кто в хвосте плетется – недотепой вырастет.
– Больно надо: недотепой, – с презрением заметил Митя. – Я красноармейцем стану, с фашистами буду воевать.
– Вот фашисты не дождались, покуда ты вырастешь, – засмеялась Люба.
Дарья заметила, что она с ребятами добра, и ребята ее слушаются, и здоровы, и одеты чисто. «Как за своими ходит», – с теплым, ласковым чувством подумала Дарья. А вслух сказала:
– Словно сестра ты мне, Люба. Еще и сестра-то не всякая так ребят обиходит, как ты...
Люба зарделась от приветного слова.
Она налила в эмалированный тазик воды, мыла тарелки и рассказывала о житье-бытье.
– Повезло нам, Даша: хозяйка хорошая попалась. Двое у нее на фронте, муж и сын. Некоторые злобятся на эвакуированных: понаехали тут, самим житье несладкое, еще приезжих надо в дом пускать. А наша чужую беду понимает. Одну кровать мне отдала. Ты теперь на ней будешь с Нюркой спать, а я на диване устроюсь. Митя вот тут, на сундуке, спит... Проживем. Хозяйка на дровяном складе работает, дров вволю достает, тепло.
– А наши-то где работают?
– Оборудование пока сгружали да брезентами укутывали. А теперь, говорят, бараки будем строить под склады. Завод тут ставить не собираются, а чуть немца отгонят – назад поедем. Рабочих на другие заводы посылают, на действующие. Дора с Настей согласились ехать, а я тебя дожидалась. Как ты, так и я, будем уж вместе держаться.
– Боюсь я с ребятами опять в дорогу пускаться.
– И не поедем! – подхватила Люба. – Здесь тоже кому-то надо работать. Под крышей, конечно, легче, да нам не привыкать...
– Мама, – сказала Нюрка, – а Варя как – совсем умерла?
– Совсем.
– И в землю ее закопали?
– Похоронила. Нету нашей Вари... Не знаю, как и написать Василию.
– А ты не пиши, – посоветовала Люба. – У него своих, фронтовых бед хватает. Воротится, тогда скажешь.
– Не могу я ему врать...
– Смоги! Снег скрипит. Видно, Ульяна идет. Хозяйку нашу Ульяной звать.
Дарью неприятно покоробило слово «хозяйка». Привыкла в своей квартире сама хозяйкой быть, а теперь придется на каждый шаг позволения спрашивать. И против воли приветливая и словно бы виноватая улыбка тронула Дашины губы, едва Ульяна вошла в дом.
– Здравствуй, – сказала Ульяна. – Приехала?
Голос ее показался Дарье суров.
– Добралась.
– Вылечили дочку?
– Не сумели. Померла.
– С горем, значит, приехала.
Ульяна скинула полушубок, размотала с головы суконную шаль. Была она среднего роста, полногрудая, моложавая. Дарья подивилась про себя: сын на фронте, а у самой – ни единой морщиночки на лице.
Дарья с дороги рано легла спать. Нюрка тут же пристроилась у нее под боком, руку закинула матери на грудь. Митя в кухне стихотворение учил в полголоса.
Проснулась Дарья рано и, отыскав в Митиной сумке чистую тетрадку, пока спят ребята, села писать письмо. Половину тетрадки исписала, рассказывая Василию об эвакуации, о болезни, о Варе, о том, как встретилась с Митей и Нюркой после разлуки. Всю правду написала, да только не отправила на фронт длинную свою исповедь. На полстраничке сообщила, что доехала благополучно, дети здоровы, живут хорошо. Еще прибавила, чтоб Василий себя берег, воевал без лихости. Сложила треугольником, кинула в почтовый ящик. Святым обманом оградила солдата от горя.
Вот она какая, сибирская зима. Свирепы морозы. Туман – свету не видать, словно ледяным паром все вокруг затянуло. Глотнешь этого туману – и задохнешься, как от спирту. Ветер все одежки насквозь прошьет, до каждой жилочки добирается, кровь леденит.
Дарья с Любой подносят плотникам плахи. Как железные, примерзают плахи к рукам. Чуть не доглядишь – пальцы белые, боли не чуют, хоть топором их руби. Тогда от холода холодом лечись.
Дарья сдернула рукавицы, сунула за пазуху, схватила горсть снегу, принялась оттирать пальцы.
– Опять? – спросила Люба. – А у меня ничего пока, терпят.
– Меховые бы рукавицы-то, – сказала Дарья.
Голос ее долетал глухо – лицо до самых глаз обмотано пуховым платком. Старенький уже платок, повытерся, худо греет. Собиралась новый купить перед войной – не успела.
– И не думала, что сызнова строителями станем, – говорит Люба, приплясывая на месте. Валенки смерзлись, постукивают, будто у них каблуки выросли.
Пальцы начинают гореть от снега. Дарья вытирает их о полу пальто, сует в рукавицы.
– Давай! – командует Люба.
Они хватают крайнюю плаху, тащат к недостроенному бараку.
Люба унесла на толчок свое праздничное платье – перед эвакуацией догадалась надеть на себя лишнее, а купила взамен мужскую заячью шапку. И голове тепло и щекам, да и к тому же идет Любе эта шапка, похудевшее лицо с разрумянившимися щеками кажется нежным и красивым в обрамлении пушистой шкурки.
– Помнишь, Даша, как мы клуб строили? – бросив очередную плаху, говорит Люба.
– Как не помнить...
Завод построили, завод – важнее, и маяты больше приняли, по почему-то вспомнила Люба клуб. Может, потому, что был он в виде барака, и здесь опять бараки ставить довелось. Нынче та, давняя работа на воскресниках, когда строили клуб, кажется легкой и праздничной. Весной строили. Молодые были. День – на заводе, вечор – на комсомольской стройке, а к ночи танцы да песни заводили. Весело было! Славная вышла молодость. Трудная, а славная. Работали дружно. И отдыхали не хуже.
Всех раскидала жизнь. Дора с Настей уехали на действующий завод. Ольга на фронте. Алена в деревне. Анна Садыкова с Марфой Щегловой остались в Серебровске, в оккупации. Когда доведется встретиться? Всех ли сведет судьба? И какие шрамы оставит война на лицах и на душах?
Нюрка с утра до полудня, пока Митя был в школе, сидела дома одна, закрыв дверь на большой кованый крючок. Мать строго-настрого наказала ей крючок не откидывать и голоса не подавать, кто бы ни стучался, и для большей убедительности даже поддала ладонью по затылку. Нюрка собиралась честно исполнить материн наказ и каждый день ждала, что кто-то постучится. Но никто не заходил в занесенный снегом дворик, кроме почтальонки. Почтальонка просовывала письмо в щелку, специально для того проделанную в двери сеней.
Резиновая кукла Машка благополучно прибыла с Нюркой в эвакуацию и теперь скрашивала Нюркино одиночество. Завернув Машку в платок и покачивая ее на руках, как мать, бывало, в Серебровске качала Варю, девчонка пела ей вместо колыбельной военную песню:
Вставай, страна огромная,
Вставай на смертный бой...
Во дворе скрипнула калитка. Нюрке нравилось, как скрипит калитка: будто молодой петушок поет. Она кинулась к окну, встала на табурет: внизу окно все было обмерзшее, а вверху оставалась узкая прозрачная щелочка. В щелку увидела Нюрка, что идет почтальонка.
– От папки письмо! От папки письмо! – соскочив с табуретки, приплясывала девочка.
Едва успела почтальонка уйти, со скрипом закрыв калитку, как Нюрка выскочила в сени и подняла с полу свернутое треугольником письмо. Вернувшись в дом, она долго вертела в руках треугольничек, разглядывала слова и цифры, досадуя на свою неграмотность и завидуя Мите.
– От папки письмо! От папки письмо! – запела Нюрка, когда наконец вернулся из школы Митя.
Но Митя, взяв в руки конверт, огорченно проговорил:
– Это не от папки.
– От папки! – заспорила Нюрка.
– Нет. Не от папки. Не его номер. Я же знаю его полевую почту.
Дарья с Любой возвращались с работы раньше Ульяны. Успевали печку растопить, подогреть настывший домишко. От ребят спички прятали, боясь, что наделают пожару, греться им наказывала Дарья под одеялом. «Залезайте в постель да сказки выдумывайте, и тепло будет и не скучно». Случалось – засыпали ребята, угревшись в постели, и Дарья с Любой долго колотили в дверь и в окошко, прежде чем удавалось их разбудить.
Дарья, увидав письмо, так и кинулась к столу.
– Это не от папки, – сказал Митя.
Дарья все-таки поглядела адрес.
– Ульяне...
Ульяна пришла, когда квартиранты ее успели уже поужинать. Нераспечатанный треугольник лежал на чистой клеенке. Ульяна, как была в заиндевевшей суконной шали, в полушубке и в валенках подошла к столу.
– Тебе, – сказала Дарья.
Ульяна кинула на пол рукавицы, покрасневшими, негнущимися пальцами взяла письмо.
– Незнакомая рука-то, – сказала упавшим голосом.
– Не пугайся, – проговорила Дарья, – не похоронка это, похоронки в конвертах шлют.
– Прочти, Даша. Боюсь я. Трясется во мне все...
Она расстегнула полушубок, но не сняла, так и села на табурет возле стола, шаль распустила. Иней таял, оседал на платке крохотными слезинками. Дарья вытерла руки, развернула треугольник, стала читать.
«Дорогая мама, пишу тебе из госпиталя...»
– Живой! – облегченно вздохнула Ульяна.
«Вернее, не сам пишу, а пишет сестра, и вовек больше не напишу я письма своей рукой. Не знаю, что для меня было лучше, остаться на поле боя в братской могиле или вернуться домой беспомощным калекой. Не хотел я тебя пугать, не писал долго, да правды не скроешь. Обороняли мы от врага одну важную высотку, а немец сыпал минами так, что и клочка невзрытой земли не осталось. Многих побило насмерть, а меня бессознательным подобрали. Очнулся я в санбате, обрадовался, что жив. Жив-то жив, но приеду я к тебе без рук, одной нету по локоть, а правую отняли до самого плеча...»
– Нет! Нет... – перебила Ульяна, страшно побледнев. – Нет. Нет, – твердила она, как заклинанье, и судорожно перебирала в руках края шали. – Как же это?
– Горе-то какое! Горе-то какое! – шептала Люба, глядя на Ульяну и не решаясь подойти к ней.
– Дай! – сказала Ульяна и почти выхватила у Дарьи письмо.
Она беззвучно шевелила губами, перечитывая письмо, и вдруг, кинув его на стол, вцепилась руками в волосы.
– Господи, убей меня! Убей ты меня, чтобы не видеть мне моего сыночка калекой! – выкрикивала отчаянно, во весь голос.
Люба кинулась к ней, пыталась расцепить пальцы на смоляных прядях волос. Дарья зачерпнула в ковш холодной воды из кадушки, поднесла к широко открытому рту Ульяны.
– Выпей, Уля. Собери себя. Нельзя тебе помирать. Кто без тебя за сыном ходить станет?
Ульяна пила воду, стуча зубами о край ковша. Вскочив, скинула полушубок на пол, шаль сдвинула с головы на плечи, металась по кухне взад-вперед, заломив руки.
– Сыночек ты мой родной! Калекой сыночка моего сделали фашисты, калекой навек...
Дарья поймала ее за руку.
– Не надо, Ульяна.
– Господи! Что же это будет-то, Даша? – тихо проговорила Ульяна, с тупым недоумением глядя прямо перед собой. – Как ему жить? И впрямь лучше бы уж совсем...
– Уля! – Дарья дернула Ульяну за руку, прервав страшные слова.
Ульяна вырвала руку, кинулась к себе в комнатку, рыдая, упала ничком на кровать. Люба пошла было к ней. Дарья удержала.
– Не надо. Не ходи. Не поможем мы ее горю. Пускай слезами облегчится...
4
На санях-розвальнях, скопом вцепившись в оглобли и подталкивая груз сзади, перевозили женщины оборудование с временного склада, где лежали аппараты и машины под брезентом, в новый склад-барак. Командовал бригадой мастер Яков Петрович Чесноков, недавно вернувшийся с фронта по ранению. Ранен он был в живот осколком.
На фронте отвоевался и физическую работу исполнять не мог, а над бабами командовать сгодился.
Метель выла, белыми столбами крутила снег, налетала порывами, норовя сбить людей с ног. Лютовала зима, с весной боролась, весну пыталась прогнать. Но последние денечки отсчитывало ей время, и ни лютостью, ни мольбами не продлить белой красавице положенный срок.
– Кто это бежит? Гляньте!
Дарья оглянулась, вынув руку из рукавицы, потерла ладонью слипающиеся от снега ресницы.
Высокая женщина в распахнутом полушубке и сбившемся на затылок платке бежала в снежной замети, оскальзываясь на истоптанной и исполосованной санными полозьями дороге, размахивая руками и что-то крича. Издали нельзя было понять слов, ветер относил голос, и даже угадать не удавалось, с печальной или радостной вестью спешит женщина.
– Сере-бровск...
Даша выпустила из рук оглоблю, схватилась рукой за сердце, задохнулась от перехватившего горло волнения.
– Серебровск освободили.
Женщина была уж недалеко, теперь все видели, как искрятся радостью ее запавшие глаза. И крик ее восторженный слышался ясно:
– Серебровск освободили... Сейчас по радио слышала. Зашла в столовку, а там радио говорит... Серебровск.
Люба бросилась Дарье на шею, а у самой слезы по щекам текут. Женщины принялись обниматься и прыгать на снегу, точно малые дети.
– Домой пора собираться, – немного успокоившись, загомонили они. – Зазря мы эти склады строили. Не сегодня-завтра домой поедем, в Серебровск...
Неделя прошла. Месяц минул. Приказа о возвращении завода в Серебровск не было. Весна отшумела ручьями звонкими, лес оделся в листву зеленую, а серебровцы по-прежнему жили на окраине старого сибирского города.
Сын Ульяны Вадим вернулся домой. По утрам Ульяна сама надевала ему рубашку и застегивала брюки, кормила с ложечки, как младенца. При сыне никогда не плакала, не горевала, одно говорила:
– Хорошо, что домой воротился. Другие-то вовсе сгинули.
Но Дарья видела, как горе ей сердце гложет. Скулы заострились, молчалива стала Ульяна, угрюма.
Вадим подружился с Митей, отдал ему свои удочки. Вместе уходили на реку, рыбачили, варили уху на костре. Иногда Нюрку с собой брали. Дарья охотно отпускала детей с Вадимом: и сыты и не без призору. Все на душе спокойнее, легче.
И дома находил Вадим с ребятами общие дела. Сядут втроем за стол, солдат книгу вслух читает, Митя страницы перевертывает. Шахматы были у Вадима, учил он Митю к шахматы играть, показывая культей, куда передвинуть фигуру.
Дарья не могла привыкнуть к беспомощности красивого рослого парня. Тягостно ей было глядеть на инвалида. Вот она, война... Страшный прожорливый зверь, которого не сумели удержать на цепи. Безумие оказалось сильнее. Люди убивают людей, люди людей калечат. У тех, у фашистов, тоже есть матери. И где-нибудь в Германии не кормит ли так же мать с ложечки безрукого, как приходится кормить взрослого сына Ульяне?
При эвакуированном заводе все меньше оставалось рабочих. Многие поступили на местные заводы. Дарья осенью тоже собиралась перейти на действующий завод, если не вернутся в Серебровск. А летом решила тут, при малом деле продержаться.
Война понемногу приучила Дарью к изворотливости. До войны одно знала: заработай да купи. Теперь на весь заработок на базаре ведро картошки купишь. Значит, надо приспосабливаться.
Приспосабливалась. Весной пальто продала, картошки купила на семена, огород посадила. А во второй половине лета, когда поспели грибы да ягоды, старалась побольше напасти даровых продуктов, на которые щедра была Сибирь.
Начальником над Дарьей был Чесноков. В Серебровске он появился незадолго до войны, работал на складе готовой продукции. Хитрый оказался мужик. До того хитрый, что Дарья и в ранение его не очень верила. Скорей всего сумел извернуться, нашел, где надо, ловкий подход, и с малым изъяном начисто из армии выбыл. Не одна Дарья так думала. Больно уж скоро раздобрел Яков Петрович, в плечах раздался, щеки красные оттопырились, на баб поглядывал с жадным интересом.
Яков Петрович Дарье благоволил. И работу при случае старался дать полегче, и добрым словом не обходил.
– Тебе бы, Дарьюшка, при твоей красоте не на складе возиться, а в конторе на счетах костяшки гонять.
А сам глядел прищуренными масляными глазками, как кот на сало.
Дарья на масляные взгляды лаской не отзывалась. Но и спорить-задорить с мастером не пыталась, а из расположения его научилась даже извлекать пользу. Подойдет, попросит потихоньку:
– Яков Петрович, отпусти завтра по грибы...
Он для виду задумается, в затылке поскребет, помолчит.
– Тебя отпущу, а другие что скажут?
– Да ничего не скажут. Ребята ведь у меня. на одном пайке не проживешь, надо как-то перебиваться...
Еще попыхтит, чтоб больше благодеяние его ценила Дарья.
– Ладно уж, ступай. А я приду к тебе жареных грибков попробовать.
– Да на что ж жареных, я вам сырых с парнишкой пришлю, по вашему вкусу жена пожарит.
Яков Петрович не любил, когда ему напоминали о жене.
– Не угождает она моему вкусу.
– Коли она не угождает, и я не угожу.
Яков Петрович хмуро трогал пальцами побритый подбородок.
– Иди.
– Спасибо, Яков Петрович.
Про себя думала: отпустил – и ладно. В жизни уж так устроено, что человек над человеком как на лесенке стоит. Хороший да честный тобой командует – не то что не томительно тебе, а под его команду весело идешь, словно солдат под музыку. Но и таких, как Яков Петрович, немало наверх забирается. Где лизнет, где подползет – глядь, и одолел ступеньку. Теперь можно над людьми покуражиться. Перед властью – в дугу, а подвластному – не могу.
И еще думала Дарья о том, что при Дубравине таким, как Яков Петрович, жилось худо. Не терпел Дубравин подхалимов. Где-то он теперь? Оборудование завода доставил в Сибирь, а сам в Сибири не остался. Ходил в военкомат и обком партии, добивался, чтоб сняли броню, отправили на фронт. И добился. Воюет.
Работы в складах почти не осталось, так что делу не в урон отпрашивалась Дарья в лес. Оборудование все смазали, перебрали, в порядок привели – хоть сейчас в вагоны грузи. Да не посылали вагонов... Лето в Сибири прожить легче. Грибы, ягоды, картошка своя поспеет. А осенью хорошо бы домой.
Богаты леса сибирские... Ходила Дарья по мягкому ковру из трав, мхов и старых листьев, дивилась изобилию лесных даров. Грибов этих – будто кто их каждую ночь из бездонного лукошка щедрой рукой раскидывает по траве. Боровики, подберезовики, маслята, рыжики, грузди... И не поодиночке – целыми семействами стоят. Глянешь: листок березовый прелый оттопыривается, наклонишься, тронешь пальцем – груздь. Вороши рядом – еще полдесятка найдешь, а то и больше. Белые, ядреные, то ли в корзину класть, то ли любоваться. Ходила Дарья по лесу, собирала грибы да ягоды, и хотелось ей спасибо сказать щедрой природе-матушке. Сколько добра она человеку дарит! И больше б дарила, кабы человек без ума ее не зорил себе на горе.
Однажды встретила Дарья в лесу поверженное черемуховое дерево. Старая черемуха лет пятьдесят, может, росла. Пришел злодей двуногий с острым топором, замахнулся рукой безжалостной, раз стукнул, другой, десятый... Под бурями дерево выстоит. Под топором повалится. Пала черемуха, тело ее белое в изломе, как рана, в рубцах. Обобрал ягоды бандит лесной и ушел. Чтоб ему подавиться...
Не только кормил лес Дарью и детей ее. Горе лечил. Тревогу в сердце глушил ласковым зеленым шумом. Силы ей возвращал, в трудах и заботах растраченные.
До лесу от города далеко. Дарья рано выходила с ребятами из дому. Дорога тянулась полем, росы серебристые лежали на хлебах.
– Глядите, ребята, вон зорька небо для вас красит, – говорила Дарья. – Ну-ка, чего еще сейчас подрисует?
Заглядевшись на зарю, ребята забывали про усталость, бойко колотили дорогу босыми пятками.
Добравшись до лесу, устраивала Дарья привал. Садилась с ребятами на полянке, слушала лесную музыку. В лесах в ту пору много водилось птиц. Поют-заливаются. Солнце подымается, золотыми пятнами по стволам скользит, кружевным узором по траве стелется. Листва тихонько шелестит. Жарки фонариками сказочными в зелени горят. Синие колокольчики кланяются с приветом.
– Ну что, отдохнули? – окликала Дарья притихших ребят. – Собирайте-ка завтрак, какой вам дед-лесовик приготовил.
Ребята, схватив кружки, принимались собирать голубицу. Сибирская ягода, в Серебровске да в Леоновке нет ее, синяя, с изморозью, на невысоких кустах растет. Дарья до завтрака отдыхала. Сидела под деревом, легко и покойно было у нее на душе, счастье вспоминалось и в счастье верилось.
В воскресенье с утра зарядил дождь. Люба с Митей, накинув на головы вывернутые мешки, отправились, несмотря на ненастье, окучивать картошку. Ульяна на рынок ушла. Вадим сидел в своей комнате, слушал по радио военные песни. Дарья с Нюркой в кухне хозяйничали. Дарья пол мыла, скребла кухонным ножом некрашеные половицы. Нюрка клеенку на столе протирала мокрой тряпкой, гордясь, что помогает матери.
Нюрка первая услышала, как пропел на улице знакомым голосом молодой петушок, кинулась к окну.
– Мамка, почта!
Дарья уронила тряпку, рванулась к двери, да поскользнулась на мокром полу. Ей казалось, что это худая примета: упасть, когда бежишь открывать почтальону. Всюду ей чудились теперь скверные приметы, она их сама выдумывала в непрестанной боязни за жизнь Василия и тут же забывала, когда они не оправдывались.
Нюрка выскочила во двор, взяла письмо у почтальонки, принесла, протянула Дарье солдатский треугольник.
– Толстое какое...
Дарья схватила письмо, увидала знакомые корявые буквы, писанные смоченным химическим карандашом, сглотнула накопившуюся от волнения слюну.
Ухватившись за плечо девочки, она доковыляла до стула. Раскрыла треугольник. Нюрка стояла рядом. Дарья в одной руке держала письмо, другой обняла дочь, прижала к себе. Читала она вслух, медленно, точно стараясь продлить радость от каждой строчки.
«Здравствуй, Даша, родная моя!
Второй год пошел, как легла промеж нас война, и долог мне показался этот год, далеко увел он мирную жизнь и наше счастье. Прошли мы с боями большой путь, освободили много населенных пунктов и всего в пяти километрах остался вправо от нас...»
Но тут одно слово было зачеркнуто черной жирной полосой, не полагалось пока никому знать, где прошла часть, в которой служил Василий.
«Отступая, фашисты пакостей делают много. Домов в деревнях почти что не осталось, трубы печные торчат на пустыре вроде могильных памятников, а людей нету. Поля голые, незасеянные, и вороны кружат над полями, где остались незахороненные трупы. У бойцов крепнет гнев на фашистов, и мы смертью смерть гоним, как огонь тушат огнем.
Сейчас мы находимся на отдыхе. Лагерь в лесу, очень много орехов. А когда орешник в костры кидаем, то орехи щелкают и отлетают, сразу дырка на гимнастерке либо на штанах, берись за иголку. Сапоги мои прошли много дорог и вовсе развалились, и теперь я ношу немецкие, а прежний их хозяин в земле обойдется и без сапог.
Тишина тут, и никак не привыкну я к ней. Михаила Кочергина ранило в сражении, увезли его в госпиталь, говорят – надолго. Часто он Настю тут вспоминал и об одном судьбу молил – чтоб руки целы остались, стосковался без баяна.
Часть наша сильно поредела в боях, и теперь прислали пополнение. Есть вовсе молоденькие парнишки, из-под маминого крыла. Один такой тезка мой Вася Травкин не успевал есть из общего котелка, выходил голодный, а вчера вовсе потерял ложку. Я ему вырезал пока самодельную, а скоро, говорю, у немцев трофейных наберешь. Он повеселел и где-то отыскал двух котят, забавляется с ними, котята веселые, и бойцы смеются.
Даша, береги себя и ребят, а обо мне не думай, моя задача солдатская, и выполню я ее, как сумею. А после войны ворочусь к вам и лучше прежнего будем жить. Посылаю тебе карточку, был у нас тут недавно фотограф, хоть не больно хорошо я получился и можешь меня не узнать.
Твой Василий».
– Нюрка! Дочка... Гляди на папку-то, гляди!
И сама Дарья жадно глядела на маленькую карточку, на плоское, незнакомо-застывшее лицо Василия, подпертое воротничком солдатской гимнастерки. Целовала карточку. Потом Нюрку, прижав к груди, принялась целовать жадно.
– Мамка, чего ты? – удивлялась Нюрка, лаской не набалованная.
– Молчи, Нюрка, молчи, дочка, – сквозь слезы говорила Дарья. – Папку жди и помни. Сильно будем ждать – воротится наш папка.
– Что, Яков Петрович, не слыхать, скоро ли нас в Серебровск вернут? – чуть не каждую неделю спрашивала Дарья.








