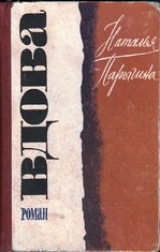
Текст книги "Вдова"
Автор книги: Наталья Парыгина
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 29 страниц)
2
Темно в вагоне. Серый сумрак скудно сочится через крохотное оконце, прорезанное в стенке теплушки. От топящейся буржуйки растекается по вагону живительное тепло. В крышу колотит осенний дождь, пробивается в щелки между старыми, усохшими досками. Люди в полумраке сдвигают теснее убогие постели, уползая с тех пятачков, на которые попадают дождевые струи.
– Где ж теперь Ольга? – громко говорит Дора, пытаясь завести разговор. – В училище ее послали либо прямо на фронт?..
– Летчица ведь она.
Растворяются в сумраке слова. Стучат колеса на стыках. Тревожно. Тоскливо. Не хочется говорить...
Дарья сидит на сундучке недалеко от печки, прижав к груди спящую Варю. Убегают из-под колес несчитанные километры. Нескончаемые и унылые, как этот осенний дождь, тянутся мысли.
Говорят, в Сибири уже зима. К Уралу, говорят, подъезжать станем – и холода начнутся. Кто нас там ждет, в Сибири морозной? Где жить с ребятишками?
Свекровь Доры Ефросинья Никитична, обняв одной рукой Сережку, а другой – Кузю, рассказывает сказку.
– В одном царстве, в светлом государстве жили старик со старухой. И был у них сынок, ростом мал, а сам храбрый да крепкий. Холоду не боялся, голоду не сдавался, и какие-такие бывают слезы – знать не знал. Вот раз и говорит ему дед...
Митя с Нюркой стоят перед Ефросиньей Никитичной, глядят в ее сморщенное лицо. Сережка с Кузьмой прижались к старушке, слушают сказку о храбром мальчике.
Грубо, жестко стучат вагонные колеса, пол резко вздрагивает на стыках, текут по хилым стенкам дождевые ручейки. Дарья гонит прочь мрачные мысли, боясь, что с печали пропадет в грудях молоко. Тогда уж Варюшке худо будет. Да что теперь... Думай не думай – вчера не догонишь и от завтра не уйдешь.
Но тревожные мысли – хуже комаров, нипочем ты от них не избавишься. Только одну отгонишь, неведомо откуда другая является.
От Василия месяц целый письма не было. Где он? Жив ли? Этакий путь огромный немец прошел. Каждое поле, прежде чем врагу досталось, кровью полито. Может, и Василий уж...
И вдруг вспомнилось Дарье, как в первую брачную ночь с Василием в недостроенном срубе померещился ей запах сырого дерева – тот же, что был во дворе, когда старик Родион строгал доски на материн гроб. Испугалась она тогда, посчитала тревогу свою за недобрую примету. Неужто теперь, через девять лег, суждено той примете сбыться?
– Настя, достань баян, – просит Дора. – Тишина у нас в вагоне нехорошая.
– На сердце сумно, – нехотя отзывается Настя.
– У всех – сумно. А ты возьми баян да размечи в осколки кручину-то.
Настя нехотя отстегивает крышку потрепанного футляра, достает баян. Пальцы вяло перебирают белые пуговки. Играет – не играет, а все – живой звук, и, словно баранка в руках шофера, поворачивает баян Дарьины мысли на другой путь.
Да что ж я себя до времени страхами пустыми извожу? Может, удачливым окажется мой Вася, через все бои пройдет, невредимым воротится, либо раненым, пусть хоть раненым, это ничего, без ноги, без руки, ходить буду за ним, как за ребенком малым... Только бы воротился.
Настя резко, не с весельем, а будто со злостью, разводит мехи, и баян в полный голос выговаривает довоенную песню про то, как вдоль по улице идет вслед за метелицей милый. Дора первая запевает. Давно рассталась Дора с бригадирским званием, да видно не звание – душа у нее была такая, бригадирская, не могла Дора с холодным сердцем глядеть, как люди киснут. Работа была – на работу водила девчат своих бодро да весело. Нет работы – песню звала осилить грусть и беду.
Гармонь – не огонь, а разогревает. Потеплело и посветлело вокруг, и дождь не так настырно стучал по крыше, и колеса стучали с баяном в лад. Не сразу, а сладилась-таки песня. Подхватили женщины, ребятишки вплели тоненькие голоса. Только без басов получился хор. Да, видно, привыкать надо без басов: война...
Песня русская, сердцу близкая, радость с тобой веселей и печаль легче! Не голос с голосом – сердце с сердцем сливается в протяжных звуках, дружнее и сильнее становятся люди, не теплушка – крепость на колесах, чья мощь врагу неведома, несется через степной простор.
За месяц эшелон не добрался и до Урала. Чуть не на каждой станции примерзал на сутки, а то и на несколько, пропуская другие поезда. Люди устали, истомились от долгого пути, а до места все было далеко.
Неумолимо надвигалась зима. Злые осенние ветры буйствовали над землей. Докрасна раскаленные буржуйки дышали жаром, а из щелей вагона острыми пронизывающими струями пробивался холод. Дарья порадовалась, что взяла в дорогу полушубок Василия. Когда собирали для фронта теплые вещи, телогрейку унесла, носки теплые подарила для неизвестного солдата, а полушубок оставила себе. Пригодился теперь. Митя с Нюркой сидели на нарах под отцовским полушубком, как в теплом гнезде.
В пути сидели смирно, а на остановках никакой силой не удержать ребят в вагоне. На землю уже пал снег, и ребята вперегонки носились по станционному пустырю, кидались снежками, лезли под вагоны. Того гляди, какой-нибудь сорванец попадет под колеса либо отстанет от своего внезапно двинувшегося эшелона.
Дарья за Митей и Нюркой почти не следила. Люба приняла на себя заботу о ее старших. Не просила ее Даша, как-то само собою сделалось. Убегали ребята из вагона – и Люба спрыгивала с подножки.
– Ступайте сюда, ребята, будем бабу снежную лепить.
И покрасневшими руками катала снежный ком.
У Дарьи одна была забота – Варя. Пеленки сменить было теперь сложнее, чем в мирное время ребенка родить. Убереги-ка дите от сквозняков, когда ветер в вагоне в свистульки играет! Первое время Дарья норовила поближе к печке пристроиться. Дора отговорила ее:
– Не жмись к огню-то... Разогреется девчонка – скорей простудится. Пускай уж в холоду привыкает жить.
Женщины сочувствовали Дарье. Когда надо было распеленать Варю, Дарья просила:
– Станьте, бабоньки, кругом, устройте Варьке моей теремок.
И становились тесно, одна к одной, в кружок, и Дарья в живом бочонке наскоро управлялась с Варей.
День за днем уходил прочь. Настоявшись на станции, прытко катился поезд. Варя ничего, держалась. Сидела у матери на руках да таращила круглые глаза на раскаленную печь, гукала, пыталась высвободить ручонки. Кричала она редко. Голос у нее был здоровый, требовательный. Дарья грудь ей давала либо стучала ложкой по чайнику, чтоб развлечь.
Варька слушала веселый звон. А Дарья ловила обрывки вагонных разговоров. Все разговоры, были о войне, и всего чаще, всего тревожней вспоминали Москву. Вздыхали женщины:
– К Москве подкатывается враг...
И недосказанной оставалась тайная, горькая и страшная мысль, которую влекли за собой думы о Москве. Сколько дорог прошел враг, сколько земли забрал, многих стран войска на Россию бросил. Устоят ли наши теперь, подпустив врага к воротам Москвы? А если не устоят...
На станциях по очереди бегали за газетами, сгрудившись у буржуйки, в напряженной тишине слушали военные новости. Чаще всего читала их Дора, голос у нее был громкий, и знала она, в какой миг остановиться, чтоб дать выход бурным восклицаниям.
«...За последние дни немцам удалось ценой больших и тяжелых потерь продвинуться поближе к Москве. Это – тринадцатый день нового, так называемого ноябрьского наступления немцев на Москву...»
– Тринадцатый день... – вздохнул кто-то в глубине вагона.
– Сила у него... Силой берет.
– Не возьмет он Москву, не возьмет! – яростно орала Настя.
– Послушайте, чего пленные говорят, – оборвала спор Дора. И читала: «Холод, голод и вши причиняют немецким солдатам много страданий. Целыми неделями мы не получаем горячей пищи. Хорошо, если есть кусок хлеба, часто и этого нет...»
– Они что ж, надеялись, что пельменями их в России станут кормить?
– Голодная собака злее кусает.
– Свинцовых им пельменей наготовили.
– Мало, видно, наготовили...
***
Беда настигла Дарью за Уралом. Сибирские морозы накинулись на эвакуированных. Всю одежду, какая была с собой, напутывали женщины на себя и на ребятишек. Но пробиралась стужа под одеяла, под пальтишки, леденила ноги в непросушенных валенках.
Среди ночи почувствовала Дарья, что занемогла. Дрожь колотила ее так, что зубы стучали. Дора сидела у печки, дежурила. Свеча горела на чурбачке.
– Подкинь угля, – попросила Дарья осевшим голосом.
– Только что подкинула. Чего тебе не спится?
– Озябла я, Дора. Хворь, кажись, подхватила.
– Ой, напасть! Чего ж делать-то? Кипяточку выпьешь?
– Налей...
Чайник день и ночь стоял на печке, кипятком только и согревались. Дора налила в эмалированную кружку, свечку взяла, наклонилась над Дарьей.
– Да ты горишь вся!
– Горю... И в груди колет. Недаром боялась я этой дороги.
– Не по охоте едем.
Дарья обхватила кружку обеими руками, прихлебывала кипяток.
– У Анфисы какие-то таблетки есть. Разбужу ее.
– Не надо...
– Ты гордость для другого разу прибереги.
Дора со свечой пробралась в угол, где ехала Анфиса Уткина, осторожно тронула ее за плечо.
– А? Чего?
– Дарья заболела, – громким шепотом сказала Дора.– Аспирину надо. Есть у тебя?
– Нету, – несонным голосом проговорила Анфиса.
– Врешь ведь! – глухо прикрикнула Дора.
– Нету...
– У меня есть аспирин, – тихо проговорил лежавший на верхних нарах старичок инженер.
Дарья заснула. Разбудили ее какие-то незнакомые звуки, слабые и хриплые, похожие на куриное квохтанье. Спросонок не поняла сперва, что за звуки, но беспричинная глухая, тоска сжала ей сердце. Она хорошо помнила, что так это было: сперва тоска нахлынула, а чуть позже Дарья угадала причину. Варя кашляет...
Дарья порывисто села, схватила перевязанный старой шалью сверток, в котором заходилась кашлем Варя, принялась качать и трясти на руках. Когда кашель поутих, Дарья дала малютке грудь. Но Варя не взяла, вытолкнула языком набухший сосок, заплакала тонко и жалобно.
А поезд катил все вперед, стуча колесами, вагон трясся на жестких рессорах. Слабый утренний свет пробивался в единственное оконце. Снега лежали окрест, встречные поезда с воем проносились мимо.
Все проснулись. В котле кипела коллективная похлебка – Дора уговорила сообща питаться, коммуной. «Доедем – там уж как придется, а пока вагон на всех один, пускай и котел будет общий...» У Дарьи голова мутилась – то ли от болезни, то ли от страха за Варю и сознания беспомощности. Что она могла сделать? Кажется, своей бы жизни кусок отрезала да отдала малышке.
Кашляла, задыхалась Варя, охали вокруг женщины, жалея ребенка. Дарья качала дочь на усталых руках, сухими, воспаленными глазами глядела прямо перед собой и едва слышно шептала:
– Господи, спаси! Господи, не дай погибнуть дитю невинному!
– Ты настоящую молитву прочти, Дарья, – сказал кто-то из глубины вагона.
Настоящую... Вдруг перенеслась Дарья мыслями в Леоновку, в свою избу, увидала бабку Аксинью на коленях перед иконой. «Отче наш, сущий на небеси!» – с чувством выговаривала бабка Аксинья.
– Отче наш, сущий на небеси! Да святится имя твое... – с лихорадочной горячностью зашептала Дарья. Она не помнила всей молитвы, но в те слова, что сохранились в памяти, вкладывала столько искренней мольбы, что не мог, не смел бог остаться равнодушным. – Хлеб наш насущный даждь нам днесь и прости нам долги... прости долги наши...
«При чем тут долги?» – подумала Дарья. Явно неподходящей к случаю оказалась молитва, а другой она не знала. И опять горячечным шепотом твердила свою: «Господи, не дай погибнуть моей девочке!»
Но за стуком вагонных колес не услышал бог полную отчаянья Дарьину мольбу.
***
В конце дня поезд остановился на маленькой станции Лужки. Люба отправилась искать доктора.
Через час она привела бодрую сухонькую старушку с докторским чемоданчиком в руке. Дарья подвинулась к печке, хотела развернуть Варю.
– Не надо, не надо! – остановила ее докторша. – Совсем простудишь...
Дверь вагона осталась открытой. При свете догоравшего дня крохотное личико ребенка казалось прозрачным, синие тени залегли под глазами. Докторша поставила чемоданчик, взяла завернутую Варю, поднесла к лицу. Малышка дышала с тяжелым переливчатым хрипом.
– Видимо, воспаление легких. Надо ее в больницу.
В больницу! А еще двоих куда я дену? И как же я потом одна, без знакомых людей с троими до места доеду?
Дарья не сказала этого вслух, про себя подумала. Но старушка угадала ее мысли.
– В больнице вам справку дадут, что с больным ребенком от эшелона отстали. По этой справке получите билет.
– Да у меня еще двое...
Варя сипло дышала, открывая ротик, словно рыбка, кинутая на берегу. «Что я потом Василию скажу, если девочка сгинет?» – с тоской подумала Дарья.
– Давай сойдем, мама.
Митя. Семилетний. Старший. Советует, как большой. Повзрослели они с Нюркой, посерьезнели за дорогу, от баловства ребячьего вовсе отстали.
– Ой, да что ж мне делать-то...
На одной руке Дарья держала Варю, другой Митю с Нюркой к себе прижимала.
– Надо сойти, – твердила свое докторша. – Время терять нельзя.
Дора старших ребят оттеснила от Дарьи, сказала властно:
– Ступай. Ступай с ней в больницу. И ее спасать надо, и сама без лечения пропадешь.
– Да как же...
Начала было Дарья говорить да замолчала на полуслове. Как же, хотела сказать, я на чужих людей ребят брошу? Но не повернулся язык договорить. Это уж не чужие, коли такую обузу доброй волей на себя берут.
– Иди, Даша. – Люба Астахова к Дарье подошла, близко в глаза глянула. – О детях не думай. Сбережем.
– Иди, Даша, – сказала Люба и поцеловала ее.
Тихо сказала, а ослушаться нельзя. И другие женщины в вагоне подхватили:
– Иди, Даша.
– Все будем за ребятами твоими глядеть.
– Нагонишь нас по дороге.
– Пропадет девчонка без лечения.
– Сама-то не лучше девчонки, в лице ни кровиночки...
У Дарьи подкатил ком к горлу.
– Люди добрые... Дора... Люба...
Что-то хорошее, благодарное хотела сказать Дарья своим спутницам по вагону, по жизни спутницам, и – не сказала. Сразу слов не вспомнила, а подумать паровоз не дал, загудел вдруг во всю мочь.
– Наш! Наш свистит,– всполошились женщины.
Нюрка заревела. То ли ее уговаривать, то ли с вагона прыгать. Старушка докторша соскользнула на землю. Дора ей Варю подала. И тут состав дернуло. Дарья поцеловала Нюру в мокрые щеки, Митю в спешке чмокнула в лицо. И на малом ходу прыгнула.
Поезд набирал скорость. Нюрка заревела отчаянно. У Дарьи надвое разрывалось сердце. Кто-то догадался задвинуть дверь. Стук вагонных колес заглушил Нюркин плач.
Старушка молча тронула Дарью за локоть.
– Пойдемте.
Дарья взяла у нее малютку, плотнее надвинула Варе на лицо уголок одеяла. Докторша бойко семенила валенками. Дарья, на шаг не отставая, поспешала за ней.
***
От морозного воздуха, от быстрой ходьбы у Дарьи сильно закололо в боку. Тяжелый грудной кашель сотрясал ее, но хватало дыхания, и ноги слабели, словно не было в них костей. Повалиться сейчас на снег, в мягкий холодный сугроб и заснуть вместе с Варькой, вместе с бедами своими и страхами... Но не валилась Дарья – шла, почти бежала следом за докторшей по обмерзшей снегом дороге, торопилась Варю донести скорей до больницы, оторвать от смерти, которая, казалось, настигала их сзади, невидимо протянув цепкие холодные руки.
– Ты и сама-то, голубушка, больна, – ворчливо проговорила старушка, прислушиваясь к сиплому дыханию Дарьи, и обернулась к ней. – Давай мне ребенка.
Не отдала Варю, будто чуяла, что в последний раз держит на руках живой свою малышку.
– Сюда.
Докторша тронула Дарью за локоть, указывая на одноэтажное деревянное здание с низким крылечком и с окнами, сплошь затянутыми морозными узорами. Дарья споткнулась о первую ступеньку и чуть не упала. Силы ее были на исходе.
Варя лежала на руках неподвижная, тихая, и Дарья боялась откинуть уголок одеяла, прикрывавший лицо девочки. Прежде чем сделать это, подняла Варю повыше, склонилась к ней ухом. То ли стоны, то ли хрипы доносились из свертка. Жива!
Докторша куда-то исчезла, и вскоре в приемную вошел другой доктор, толстый и коротенький, похожий на ежа.
– Возьмите ребенка. Помогите раздеться, – скомандовал он кому-то.
Дарья уже плохо соображала, слова доктора доходили до нее словно издалека, но она подчинилась им. Что-то белое надвинулось на Дарью, и Варя стала уплывать из ее рук, и она больше не пыталась удержать дочь.
Она сама чувствовала себя беспомощной, как ребенок, ей хотелось плакать, и лечь хотелось, но плакать совестно было перед чужими людьми, а лечь ей не давали. Сестра помогла Дарье раздеться, потом доктор тыкал ее холодной трубкой в спину и в грудь, больно выстукивал пальцами через ладонь.
– Варю лечите... на что со мной возитесь? – хриплым голосом просила Дарья.
– Варю! – передразнил доктор. – Сама-то помрешь – что твоя Варя будет делать?
– Не помру... Я крепкая.
– В какую палату ее, Яков Акимович? – спросила сестра.
– В третью.
Сестра накинула на Дарью халат и повела ее по коридору с крашеным, до блеска промытым полом.
К ночи Дарья впала в беспамятство. В жару металась на кровати, порывалась вскочить, тревожными выкриками будоражила больничную тишину.
– Вася! От поезда отстанешь... Скорей! Варя где? Где Варя? О-ой...
Замолкала ненадолго. И опять принималась метаться и бредить. Сестра трясла Дарью за плечо, подносила к запекшимся губам стаканчик с микстурой.
...Очнулась Дарья ночью. Не открывая глаз, вслушивалась, стучат ли колеса. Не стучат. Значит, опять на станции приткнулся эшелон. Протянула руку, отыскивая Варю. Рука, спустившись с кровати, моталась в пустоте. Дарья испуганно дернулась на постели, открыла глаза.
При свете ночника увидала рядом кровати, а прямо перед собой – окно с короткой белой занавесочкой. Свет горит и окно не завешено! Налетит немец... И вдруг вспомнила все. Не налетит. Далеко она от Серебровска. На какой-то станции. В больнице. А Варя-то? Варю вчера взяли у нее...
– Сестра! – тихим, не своим голосом позвала Дарья. – Сестрица!..
Пришла сестра, склонилась над кроватью.
– Очнулась?
– Где... девочка моя?
– Девочка? В детском отделении девочка, где ж ей быть. Не здесь же ее держать.
– Принеси. Покормить надо. Со вчерашнего дня не кормлена.
– Удумала: со вчерашнего! Неделя уж, как ты тут...
– Неделя, – в недоумении повторила Дарья. – Да как же Варя-то? Принеси ты мне ее! Принеси скорее...
– Лежи спокойно. Нельзя тебе волноваться.
– Так, – сказала Дарья. – Так...
И не настаивала больше. Поняла: не принесут ей Варю. Не потому, что не хотят. Умерла Варя. Сурово, отчужденно подумала об этом, словно не ее, а чье-то чужое это было горе.
Утром, когда пришел доктор, похожий на ежа, Дарья неподвижно лежала на спине, уставив в окно холодный, отсутствующий взгляд.
– Ну, как дела? – с фальшивой бодростью проговорил доктор. – Почему хмуримся? Веселей, веселей надо смотреть, с того света не всякому удается вернуться...
– Когда... Варя моя... умерла? – все с тем же отсутствующим взглядом спросила Дарья.
– С чего ты взяла? Умерла! Придумает же! Умерла...
– Не надо, – строго и упрямо перебила Дарья. – Не надо врать. Я знаю.
Яков Акимович побагровел, сердито обернулся к сестре:
– Кто сказал? Зачем сказали?
– Я не говорила, – пробормотала сестра.
– Никто мне не говорил, – медленно сказала Дарья. – Я сама. Сердцем почуяла.
Доктор взял Дарью за руку, близко склонился к кровати.
– Держись, Даша. Слышишь? Держись. Тебя трудно лечить, болезнь запущена. Если сама не поможешь нам – не сумеем вылечить. А у тебя ведь еще дети.
– Где она?
– Ну, где, где... – Яков Акимович выпрямился, в сторону теперь глядел. – Где покойники лежат?
– Не похоронили?
– Нет пока.
– Не хороните. Я – сама.
– Ладно. Поправляйся скорее.
– Да я... ничего...
Дарья шевельнулась на кровати, пытаясь сесть. Но только и хватило сил – голову на миг оторвать от подушки. Многоцветные искры замельтешили перед глазами, издалека донесся сердитый окрик:
– Лежи ты спокойно, бестолковая голова!
«Видно, и я помру, – вяло, почти равнодушно подумала Дарья. – Надо попросить, чтоб вместе с Варей похоронили, в одной могиле...»
И снова в полусне, в томлении, в беспокойстве и бессилии тянулись дни. В затуманенной голове жила одна мысль – о Варе. Корила себя Дарья, что послушалась бабку Аксинью, назвала дочь именем, которое в их семье не было счастливым. Не имя было повинно в Вариной смерти – война ее убила, но Дарье казалось, что, назови она дочь иначе, – выдержала бы девочка все невзгоды.
Утром, когда принесли на завтрак рисовую кашу с золотистым пятнышком растаявшего масла в середине, Дарья с острой жалостью подумала о Нюрке и Мите. Лежу в тепле, кашу рисовую ем, а они там как же? Вернулись к ней земные тревоги. Нюрка с Митей заждались мать. Василий на фронте истревожился, что письма долго нету. Варю надо хоронить...
С этого дня заспешила Дарья поправляться. Еду всю съедала до крошечки. Лекарства принимала с охотой, почти с жадностью. Просила Якова Акимовича:
– Лечите скорее. Дети ждут!
Мертвецкая стояла в глубине двора, у самого забора. Голые деревья окружали небольшой домик, окна которого были забиты досками. Молодая санитарка с болезненно– желтым лицом проводила Дарью, открыла большой висячий замок, включила свет. С тягостным чувством переступила Дарья низенький порог.
Покойники лежали на столах и на полу, трое были нагие, а одна женщина в дальнем углу на столе выглядела странно-нарядной – в платье, в чулках и в белом платочке, с аккуратно сложенными на груди руками.
– Эту сегодня заберут, – вполголоса проговорила санитарка, заметив, что Дарья смотрит на одетую женщину.
В первый миг Дарья точно забыла, зачем пришла сюда. Теперь спохватилась и снова обежала взглядом печальное помещение. Детей тут не было. Нелепая надежда робко просочилась в сердце Дарьи: может, не умерла Варя, может, по ошибке ей сказали?
– Вон на окне, не твоя лежит?
Дарья вздрогнула, взглянула на подоконник. Крохотная девочка в короткой распашонке лежала там со скрюченными на груди ручками и спустившейся на лоб спутанной челочкой.
– Моя...
Дарья прошла между покойниками, взяла Варю на руки.
– Смерзлась, как льдиночка... Что ж ей глаза-то не закрыли?
Санитарка протянула полотенце.
– Накинь.
Дарья вышла на улицу. Морозное солнце ярко светило с чистого неба, слепящими искрами переливалось на снегу. Между пушистыми отвалами снега тянулась разметенная дорожка. Санитарка со скрежетом закрыла замок.
– Вон там кладбище, на горке.
Дарья медленно пошла к воротам, ощущая на руках холод и тяжесть – отчего-то тяжелее сделалась Варя после смерти. Санитарка отстала, свернув к больничному корпусу. Дарья вдруг спохватилась: да что же я ее, в больничном полотенце в могилку опущу?
– Эй, погоди-ка...
– Чего?
Дарья торопливо подошла к санитарке.
– Одеяльца мои поищи. В двух одеялах девочка была завернута – в байковом и стеганом.
Худые желтые щеки санитарки слегка порозовели.
– Где их теперь искать? Я ж дала тебе полотенце.
И отвела в сторону глаза.
– Эх, люди, – с горечью проговорила Дарья. – С мертвого ребеночка и то рады нажиться. От чужого несчастья в свой карман копейку урвать...
– Посиди здесь, – указывая на крыльцо, тихо сказала санитарка. – Разыщу я твои вещи.
Почему-то она пошла не в больницу, а за ворота. Дарья села на крыльцо, положила на колени девочку. Открыла ей лицо, чтоб в последний раз поглядела Варя на солнце. Пригладила ладошкой волосы.
– Дочушка ты моя бесталанная...
Дарья, казалось, забыла, зачем она сидит на холодных ступенях деревянного крыльца, кого ждет. Печаль стиснула ее сердце ледяными ладонями. Кто-то прошел мимо, что-то спросил – Дарья не поняла. Очнулась, когда санитарка остановилась перед ней, протягивая белый узелок.
– Вот, возьми. Все тут. Выстирала я и одеялки, и простыню, и платок выстирала... У меня мальчик такой же, сама из Курской области эвакуированная... Боле ста километров пешком шла. Думала – мертвому все равно... Зайди в больницу, заверни ее как следует, что ж на улице.
Санитарка отворила тяжелую, обитую войлоком дверь. Дарья положила дочь на крашеную скамейку, развязала узелок. Санитарка стояла рядом. «Боле ста километров пешком шла, а сохранила ребенка, – с завистью подумала Дарья. – А моя... Да что я! Не хочу же я смерти чужому дитю».
Она схватила ватное сатиновое одеяльце, протянула санитарке.
– Возьми. Ей теперь и вправду ни к чему.
– Что ты, что ты, – испуганно отступила санитарка.
Без спросу взяла, а из рук в руки испугалась. Чудные люди...
– Возьми!
Санитарка нерешительно взяла одеяльце в обе руки.
– Спасибо... Ты прости меня! От нужды я...
– Не надо, – прервала Дарья. – Молчи.
Санитарка умолкла, стояла рядом, смотрела, как Дарья бережно пеленала дочь. Потом тихо проговорила:
– Побудь здесь, подожди меня. Я тебе помогу могилку вырыть. Сейчас побегу, договорюсь, чтоб подменили меня...
За хлебную карточку, что получила Дарья по больничной справке на дорогу, кладбищенский сторож сколотил гробик. И место дозволил Дарье выбрать самой.
Кладбище было почти голое, только кресты густо торчали из снега, да крашеные оградки отмечали для вечных поселенцев последний приют. На самом краю кладбища, на бугре росла береза с изогнутым стволом. Видно, кто-то надломил ее, когда была вовсе молоденькой, да устояла березка против смерти, опять пошла в рост, сотворив из ветки новый ствол.
– Вон под той березой, – сказала Дарья.
– Да там не хоронят, – заперечил было сторож, – кладбище-то вон где кончается.
– Уезжаю я. Без приметы не отыщу могилку, если когда случится покойницу мою навестить. Дозволь ты мне под березой ее схоронить!
– Эвакуированная, что ли?
– Эвакуированная.
– Ладно, – вздохнув, согласился сторож. – Хорони под березой.
В тот же день уехала Дарья догонять эшелон и навек увезла в памяти желтый холмик Вариной могилки под заснеженной березой с изломом на стволе.








