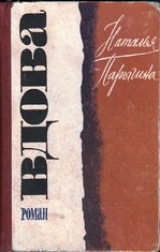
Текст книги "Вдова"
Автор книги: Наталья Парыгина
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 29 страниц)
2
В детстве любила Даша запах печеного хлеба. Мать квашню с вечера ставила, а вставала утром раным-рано, зимой – в темень, растапливала русскую печь, принималась раскатывать караваи. С лопаты ловко высаживала их прямо на под печи, подметенный мокрым веничком. Мыла стол, скребла ножиком сосновые доски. Выбегала к колодцу за водой, впуская в дом клубы морозного пара. Даша, затаившись, лежала на полатях, глядя, как хлопочет мать – молодая, ладная, проворная. Глядела, а сама все ждала, когда запахнет хлебом.
И вот хлебный дух начинал понемногу пробиваться сквозь привычные, непримечательные запахи жилья – парного молока, овчин, вчерашних щей, легкого угара. Сначала только чуть ощутимой струйкой примешивался к другим запахам, но вскоре становился острым и сильным, все забивал, ничем уже не пахло, кроме свежего пшеничного хлеба с поджаристой корочкой, на которую внизу слегка налипала зола, а порой попадались и мелкие угольки.
Еще очень нравилось Даше, как пахнет сено. Привезут во двор целый воз, станет отец кидать его вилами на сеновал – такой дух стоит удивительный, будто со всей земли собрали самые лучшие травы.
Яблоки тоже хорошо пахнут. Особенно – когда их много. Осенью наполнишь корзину, несешь в дом, а она так и дышит на тебя сладким яблочным ароматом.
А здесь, на стройке, полюбила Даша запах краски. Иные девчата морщились, а Даше нравилось. После земли, которой перекидала многие кубометры, после кирпичей, которых тысячи подняла по стремянке, после железа, с которого счищала приставшую намертво ржавчину, мила и легка казалась Даше работа маляра. Последняя работа. Скоро – пуск. И не будет больше стройки. Будет завод.
Мягко погружается кисть в ведерочко со светло-зеленой краской. Густым слоем ложится на стену зеленый мазок. Вправо-влево, вверх-вниз, ровно и гладко стелется зелень, ровно и гладко, как весенняя трава на лугу.
Вот и построили завод...
Вдоль цеха от края до края протянулись две траншеи. В траншеях стоят аппараты, похожие на огромные бочки с выпуклыми, привинченными болтами крышками. Аппараты называются полимеризаторами. Длинные трубы тянутся вдоль стен, изгибаются, словно корни сказочного дерева, упираются тупыми головками в кожух аппаратов. .Замерли на трубах готовые к службе вентили. Скоро потечет, забурлит в огромном чреве аппаратов непонятная, хитрая, упрямая химия. И родит желанного сына, ради которого бились на стройке, потели и мерзли, работали и матерились, отчаивались и мечтали тысячи людей. Имя ему – каучук.
– Директор идет, – сказал кто-то.
Даша обернулась, опустив кисть. По пролету цеха неторопливо шел Дубравин. Шапку он держал в руке, и полуседые волосы крутыми кольцами падали на высокий лоб.
Работницы оставили кисти, сбились вокруг директора. Дубравина уже хорошо знали и любили. Он часто появлялся в цехах и в бараках, на комсомольских собраниях сидел в зале с парнями и девчатами, после собрания оставался вместе с ними петь песни.
– В Ярославль поедете, девушки, – сказал Дубравин. – На завод – учиться управлять аппаратами.
– А ежели которая не девушка? – спросила озорная Настя, но застыдилась все-таки, нырнула за спину девчат.
Дубравин усмехнулся ее веселой дерзости.
– По великой нужде в кадрах придется всех посылать без разбора.
– Это как же – через Москву? – спросила Дора.
– Через Москву. Бывал кто из вас в столице?
Девчата переглядывались, молчали.
– Никто не бывал, – сам ответил Дубравин. – Ну, поглядите столицу. Поживете в Москве недельку. В Мавзолей Ленина сходите. В Большой театр. В Третьяковскую галерею... Да просто побродите по самому великому городу страны нашей... Я вам койки в доме крестьянина заказал. Дело вы большое сотворили – завод построили. Отдых заслужили. А уж в Ярославле учитесь старательно. Без умелых рук завод мертвый. Нам предстоит душу в него вдунуть...
Красная площадь...
Да неужто я на Красной площади стою? В Москве? Рядом с Кремлем? Перед Мавзолеем...
Сама себе не верила Даша и оглядывалась на подруг, словно по ним проверить хотела – не сон ли все. Дора стояла серьезная, сосредоточенная, погруженная в себя, поверх голов глядела вперед и вверх, на Спасскую башню. Люба Астахова оробела от шумных московских улиц, от многолюдья, от красоты древних кремлевских стен. И более всего от того, что скоро, через триста или, может быть, через двести шагов в молчаливой, протянувшейся по всей площади колонне войдет в Мавзолей и увидит Ленина... Даже неугомонная Настя притихла, сунула в карманы озябшие руки, малыми шагами продвигалась вперед вместе с другими.
Красная площадь...
Глядела Даша на зубчатые степы Кремля, на дивные купола нарядной церкви, на лобное место, где казнили бунтовщиков, на часовых, замерших у входа в Мавзолей Ленина, и особенное, торжественное и волнующее чувство наполняло ее. Словно здесь, на этой мощеной площади впервые постигла величие страны своей и своего народа с его героической, трудной и счастливой, ни на чью иную не похожей историей.
В Ярославле по утрам будил рабочих гудок. Дора вскакивала первой, потягивалась, за ней поднимались другие. Только с Насти приходилось стаскивать одеяло – любила Настя поспать.
Но на улице Настя принималась баловаться. То кому-нибудь горсть снегу за ворот сунет, то в сугроб, подкравшись исподволь, толкнет. Визг, хохот... Дора-бригадирша Настю не журила, еще, бывало, подморгнет ей, кивнув на задумавшуюся Любу Астахову либо на Дашу. А Настя и рада. Скатает снежок, запустит в зазевавшуюся подругу. А что саму ее в снегу вываляют, так от этого больше веселья – Настя хохочет так, что люди, проходя мимо, начинают улыбаться, иной даже остановится поглядеть, как она барахтается в снежной каше.
С пуском завода бригаде Доры Медведевой предстояло рассыпаться напрочь. И теперь уж откалывались от нее девчата.
Ольга Кольцова вышла замуж за Наума Нечаева. В Ярославль не поехала, готовилась сдавать экзамены за седьмой класс, а осенью – поступать в техникум.
Анна Садыкова родила сына и гуляла теперь в декретном отпуске.
Алена пострадала на штурме печного цеха, лежала в больнице.
На стройку не подвезли вовремя нужный кирпич, и кладка печей вышла из графика. Двадцать комсомольцев во главе с Наумом Нечаевым объявили, что не выйдут из цеха, пока не окончат кладку.
Они оставались в цехе четверо суток. Тут же, сколотив нары, спали. Парни вместе с опытными кладчиками работали на печах. Девчата готовили и подносили им раствор. На четвертый день под вечер, уморившись на тяжелой работе, Алена сплоховала и ступила мимо мостков. Вскрикнула и полетела вниз, ведро с раствором, грохоча, покатилось по мосткам. Андрей Дятлов, услыхав крик Алены, прыгнул с трехметровой высоты, поднял ее на руках. Остановив подводу, с которой возница только что сбросил кирпичи, Дятлов сел в сани, запорошенные красной пылью, и, умостив бледную стонавшую Алену на коленях, так довез ее до больницы.
Перед отъездом Даша с Дорой навестили Алену. У нее оказались сломаны два ребра. На тумбочке возле кровати стоял вырезанный из дерева человечек. У человечка были широкие плечи, как у Андрея Дятлова, и такое же круглое, добродушное лицо, а прорезанный скобочкой рот доходил в улыбке до кончиков оттопыренных ушей. Алена синими глазами глядела на человечка и, похоже, не горевала о поломанных ребрах.
Дашу прикрепили учиться к Василисе Крутояровой. Муж Василисы пьяным замерз на улице в зимнюю ночь. Осталось трое ребят. Василиса приходила на завод в залатанном платье, черными шнурками связывала на затылке тощие косицы. Руки у нее были грубые, обветренные, с длинными и грязными ногтями.
– Чему я научу? – неприветливо проговорила Василиса, когда мастер привел к ней Дашу. – Сама ничего не умею.
– Тебя учили, и ты учи, – велел мастер.
– Пусть глядит, – равнодушно согласилась Василиса.
Даша тенью ходила за ней, глядела на руки, поворачивающие вентили, из-за плеча читала записи в графике, помогала снимать с гребенок готовый золотистый каучук. Ей хотелось тронуть вентили, похожие на игрушечные тележные колеса. Но она не просила – ждала, когда Василиса сама позволит.
– Мужик-то есть у тебя? – спросила однажды Василиса.
– Есть.
– Гуляет, поди, теперь с бабами.
– Нет. Он ко мне приверженный, ни на кого не поглядит.
– Не верю я. Мой таскался. Девка тут одна есть – он с ней ребенка прижил. В детдом она сдала мальчишку, а я забрала себе. На что сиротой расти? Мои девчонки по отцу ему сестры, а что мать – стерва, свое дите не жалеет, так ведь он не виноват.
– Мягкая ты сердцем.
– Раньше мягкая была. Теперь высохла. То на мужа все злилась. Теперь нужда замаяла. Денег не хватает, ребятишки одеты-обуты кой-как... У маленького – рахит, без материнского молока рос.
С этого дня стали Василиса и Даша ближе друг к другу, и учеба пошла легче. Дождалась Даша – доверила ей Василиса поворачивать вентили. Сама стояла рядом, с опаской следила за ученицей.
– Тихо-тихо, самую капельку поверни, больно они ходкие...
Ярославль, старинный город над Волгой... Велик, наряден в чистой снежной шубе казался он серебровцам, когда бродили вечерами по освещенным его улицам.
– Куда Серебровску до Ярославля, – говорила Люба.
– Куда Ярославлю до Москвы, – возражала ей Дора.
– Уж Москва, так Москва...
И начинали наперебой вспоминать Красную площадь, Мавзолей Ленина, Большой театр, Москву-реку и всякие потешные истории, которые с ними приключились в столице.
– Помните, как Дору милиционер задержал?
– Не ходи, где не положено!
– Ой, господи. Еще улицу не смей перейти, где надобно...
– А Люба-то... В четыре часа ночи заявилась.
– Вспомню, как плутала по Москве – и теперь ноги гудут.
– Все ничего. А вот как Настю тогда трамвай не задавил...
– Кабы старик не отдернул – конец.
– Ты, Настя, из благодарности замуж бы за него вышла.
– Уж лучше – под трамвай, – хохотала Настя.
И вдруг кто-нибудь уносился мыслью в Серебровск, к недостроенному заводу и занесенным снегом баракам.
– А завод наш, девчата, будет лучше Ярославского.
– Свое все милей.
– Пустят ли его к нашему возвращению?
– Без нас не пустят. Нам пускать...
Опять Даша, как в девичью пору, жила в общежитии, спала с девчатами в общей комнате.
Настя по вечерам училась играть на баяне —взяла с собой в Ярославль баян. Получались уже у нее польки и вальсы. Неплохим учителем оказался Михаил Кочергин.
Насте повезло: напрочь разошлись дорожки у Маруськи с Михаилом. Не добром разошлись. Маруська неделю целую клала на ночь примочки к синему фонарю вокруг глаза, а днем носила повязку, объясняя всем, что залетела ей в глаз соринка. А первый землекоп пьянствовал отчаянно, буянил в бараке и на работу не ходил. Бригадир обвязал ему голову мокрым полотенцем и пристращал, что уволит со стройки. «Пущай увольняют – жизнь моя конченая», – кричал Михаил.
Однако, прокутив получку и заняв денег на хлеб явился на завод.
Играть в клубе на танцах Михаил наотрез отказался. Сидел по вечерам в бараке, рубился с приятелями в подкидного. Тут и подстерегла его Настя Золотова: «Поучи, Миша, играть, не век же моему баяну стоять безголосому». Кочергин согласился. Настины задумки на будущее не столько связаны были с баяном, сколько с баянистом. Но Кочергин о том до времени не догадывался, а Настя вела дело терпеливо, чтоб не испортить спешкой.
Даша под сбивчивую Настину музыку вспоминала Серебровск. Представляла, как Василий один лежит в кровати, то ли спит, то ли нет, может, курит, скучая и считая дни до ее возвращения.
– Даша!
Люба Астахова окликнула с соседней койки.
– Что ты, Люба?
– Я все «Лебединое озеро» вспоминаю. Закрою глаза – и вижу все. Балерин. И колдуна... У многих ведь так. Дождется человек счастья, сердце в нем играет, каждая жилочка радуется, и вроде все песня какая или музыка в душе звенит. А колдун этот черный... Колдун этот уж за спиной стоит и зло готовит.
– Сказка это, Люба...
– Где сказка, там и правда.
Люба помолчала. Настя разучивала новую песню: «Нас утро встречает прохладой». Не получалось у нее. Начнет, собьется, сызнова начинает.
– Я, знаешь, почему косы отрезала? – опять заговорила Люба. – У меня хорошие были косы, длинные. Но левая тоньше правой. Ряд посередине, а косы неровные. И старухи говорили: к вдовству. «Вдоветь, тебе, Любушка, вдоветь»... Неужто, правда, вдоветь?
– Не думай ты о худом!
– Я не думаю. А на сердце, сама не знаю – отчего, тоска накатывается. Колдун этот черный все не идет у меня из ума.
– Пустая твоя тоска. Будешь счастливая!
– Не бывать мне счастливой, Даша. Кого люблю, до того на цыпочках не дотянуться...
Неожиданно для всех загуляла Дора Медведева – неприступная, суровая, мужской твердости бригадирша. Как-то собрались все вечером в общежитии – ее нет.
– Сегодня на заводе – профсоюзное собрание. Может, на собрание осталась, – высказала догадку Люба, не предполагавшая за Дорой никаких иных интересов, кроме как к собраниям.
Но Дора явилась за полночь – самые долгие собрания не растягиваются до такой поры.
– Ты где это запропала? – сонным голосом поинтересовалась Даша. – Мы уж тревожиться начали.
– Так, – сказала Дора. – По городу бродила...
– Одна, что ль?
– Да нет... Много людей гуляют. Вечер хорош, снежок падает.
Даше спать хотелось – она не пыталась выяснить подробности про ярославский снежок. А утром глянула на Дору и не узнала: ямочка на ее щеке не исчезала от беспричинной улыбки, а разные глаза излучали тихую радость, только зеленый глаз искрился откровенно и беззаботно, а карий словно бы малость смущался.
Каждый вечер, снежок – ни снежок, стала уходить Дора из общежития. На расспросы девчат – с кем гуляет, только улыбалась, играя своей ямочкой на щеке. А если уж очень приставали, говорила:
– Приведу я вам его на смотрины, а то еще кто-нибудь помрет от любопытства.
Дора привела парня под выходной день вечером. Комната тут у девчат была небольшая, на шесть коек всего, стол стоял посередине. Дора с Настей днем сходили на базар, меду купили к чаю. Принарядились все девчата, гостя ждали с нетерпением. Свидание ему Дора назначила где-то на улице, и в комнату вошли вдвоем.
– Александр Угрюмов, – с некоторой торжественностью проговорила Дора. – Мой учитель по заводу.
– Жених, – уточнил Александр Угрюмов и, сняв шапку с головы, поклонился девчатам.
Дора отозвалась на эту рекомендацию смущенным смешком. Даша поглядела в лицо Угрюмова. Губы жениха были плотно сжаты, даже чуть приметные скорбные складочки залегли в углах рта, будто неволей и со страхом принял Александр Угрюмов жениховское звание. А в глазах прыгали такие неудержимые озорные смешинки, что Даша тут же и разгадала ту стойкую внутреннюю веселость, которая породнила Дору с Угрюмовым.
– Уж и пожениться решили? – удивилась Настя.
– Не советуете? – с нарочитой озабоченностью спросил Угрюмов.
– Строга у нас бригадирша, – включаясь в игру, серьезно предостерегла Даша.
– Со мной нестрогая не совладает, – сказал Угрюмов, снимая пальто. – Я в школе был непослушный. Да и сейчас...
– Дора перевоспитает, – пообещала Настя. —Тем более ростом повыше вас.
– Ростом-то я еще надеюсь подтянуться...
Девчата дружно захохотали. Стало легко, весело, никто уже не называл Угрюмова на «вы», а все обращались к нему, как Дора: Саша.
– Ты что же, сам ярославский? – спросила Настя.
– Нет, не ярославский. Я на шахте вырос, – продолжал Угрюмов. – Отец у меня сорок лет в шахте робил, ну и я четыре года успел. А мама была неграмотная, она даже часы не знала. Будила меня: «Саша, вставай, обе стрелка внизу – пора на работу». Я маленько пограмотней ее был – два года в школу бегал. В двадцать лет газеты читал чуть не по складам. И тут уговорил меня товарищ ехать на рабфак, в Москву. А из Москвы уж в Ярославль направили.
– Повезло Доре, – сказала Настя.
– То ли ей, то ли мне.
– Свадьба-то когда у вас?
– Оно бы и сегодня можно, да не решили, где жить, – озабоченно признался Угрюмов. – Не хочет она в Ярославле...
Дора держалась тихо, скромно, будто не о ее судьбе шла речь, только улыбалась сдержанно, и ямочка цвела на ее щеке.
– А мы и не отдадим в Ярославль, – пригрозила Даша. – Хочешь хорошую жену – в Серебровск собирайся.
– Придется собираться, – согласился Угрюмов. Дора подняла на него счастливые глаза.
– А свадьбу, – сказала, – справим в поезде. Не зря Настя баян с собой взяла.
И сыграли ведь в вагоне свадьбу, в пути от Ярославля до Москвы. Водки оказалось две бутылки на всех, да и та больше досталась случайным пассажирам. А сами без водки веселились. Настя до боли в пальцах повторяла необширный свой репертуар, и плясали подруги Доры, и невольные гости, и жених с невестой, не жалея ни пола, ни каблуков. Проводник было возмутился, но едва ему объяснили ситуацию да рюмочку поднесли, – сам сплясал «барыню».
От Москвы ехали уже тихо, развлекаясь шутками и разговорами.
– Должны мне дать лучшую квартиру в соцгороде, – говорила Дора. – Сама выучилась и аппаратчика опытного с собой везу.
– Хоть бы комнату в бараке дали, – беспокоилась Даша.
– Дадут! Под открытым небом никто не живет, и для нас уголок сыщется. Ведь и ты не хуже других. Или прав у нас меньше?
Угрюмов, заметив, что примолкли девчата, принимался рассказывать разные истории, и всякий случай выводил на смешное. Другой бы нашел, где повздыхать да поахать, а ему – забавно.
– Однажды приехала ко мне в гости мать. Я, когда дома был, растолковал ей, как по Москве ехать. Садись, говорю, на трамвай «В» и доезжай до Покровских ворот. Для меня простое дело «В», а она ни единой буквы не знает! Однако сообразила у милиционера спросить. Подходит к нему: «Господин городовой, это какой травмай – «мы» или «вы»? А милиционер, видно, маленько пограмотней матери был. Разобиделся, что городовым назвала. «Пойдем со мной, бабка, я тебе покажу, мы или вы».
Угрюмов переждал дружный смех слушателей и продолжал рассказывать с серьезным видом.
– Привел ее в отделение. «К кому приехала?» – «К Сашке». – «Сашек в Москве тыща. Какой тебе нужен?» Добился у нее – какой. Позвонил на рабфак, сказали мне. Приезжаю – она сидит в уголке, сжалась вся, а на стенке репродуктор висит, и передача идет. Мать радио не видала прежде. «Уведи ты, – говорит, – меня скорей, Саша, боюсь и этого антихриста...» А репродуктор как рявкнет: «Счастливо погостить!» Какой-то рассказ передавали, и вышло к месту. Мать так и присела: «Ну и Москва...»
Даша с нетерпением ждала возвращения в Серебровск. Стоя у вагонного окна, грезила, как встретит ее Василий, как утром вместе пойдут на завод, совсем уже, должно быть, готовый к пуску. Но когда остался до Серебровска какой-нибудь час пути, вдруг пала Даше на сердце непонятная грусть. Не подумала она, а смутным чувством поняла, что поездка эта в Москву и в Ярославль останется в памяти праздником, а впереди, с пуском завода, которого все так ждут, начнется долгая однообразная будничная жизнь, где день похож на день и год – на год.
Когда поезд, прибыв в Серебровск, замедлил ход, Даша увидела Василия. Он стоял на перроне в старом своем полушубке, в ватной шапке с незавязанными наушниками и нетерпеливым взглядом скользил по вагонным окнам. Даша бросилась к выходу, с подножки крикнула:
– Вася!
Он вскинулся на голос и просиял улыбкой.
С вокзала в город шли говорливыми кучками. Даша позвала с собой Любу Астахову.
– Ну как, мудрено ли управлять аппаратами? – спросил Василий.
– Просто, – сказала Даша. – Только сообрази, когда какой вентиль повернуть.
– Не просто, – возразила Люба, – а понять можно. Главное: не упустить процесс.
– А тут чего нового? – поинтересовалась Даша.
– Маруська Игнатова замуж вышла, – сказал Василий. – За инженера Мусатова.
Люба остановилась, точно валенки ее вдруг примерзли к земле. Лицо у Любы было до того белое, что и от губ отхлынула яркость. Даша взяла подругу за руку:
– Пойдем с нами.
– Он-то... на Маруське... Борис Андреевич... Да может ли это быть? – не трогаясь с места, бормотала Люба.
Василий смущенно переминался с ноги на ногу.
– Не думал я, что этак растревожу...
– Да правда ли – за Мусатова? – вскинув на Василия полные отчаяния глаза, спросила Люба.
– Правда, – сказал Василий.
Люба опустила голову, пошла рядом с Дашей. До самого барачного городка не промолвила больше ни слова. Ее барак был ближе семейного. Она свернула с дороги, не простившись с Дашей и Василием.
– Любила она его, – сказала Даша. – Недоступным считала. Думала: равной ему в Серебровске нет. А он – на Маруське...
– Маруська окрутила. Ну, вот и дома ты. Наскучилась по дому?
– А как же... Одной ночки не заснула, о тебе не вспомнив…
В своей комнате, в своем счастье забыла Даша о чужой беде. Разогрев щи, поужинали с Василием, чаю напились с московскими баранками. Даша уж принялась было разбирать постель, как вдруг торопливые шаги послышались в коридоре, замерли у двери, и тревожный стук ворвался в комнату.
Василий откинул крючок. Алена – без пальто, в одном суконном платке, накинутом на плечи, стояла в коридоре:
– Люба, – прерывающимся голосом сказала она, – Люба отравилась. Эссенция стояла... у Марфы в тумбочке... бородавки сводить... Мы все в баню ушли, а она выпила.
– Померла? – испуганно спросила Даша.
Горькое ощущение своей вины охватило Дашу. Как же не поняла она душевных терзаний подруги, как же отпустила ее одну? С Василием поскорее хотелось остаться. Своя радость – сладость, а до чужих бед дела нет.
– Живая, – сказала Алена. – В больницу увезли.
Дарья рванула с гвоздика ватник.
С тех пор, как построили итеэровскую столовую, Маруська перестала носить красные кофты, одевалась построже, смоляные волосы укладывала тяжелым узлом на затылке. Маруська живо сообразила, что на инженеров крючок надо подбирать потоньше да поострей. Глазами инженеров не сверлила, как землекопов неотесанных, опускала вниз густые ресницы, только ярко-красные пухлые губы зовущей полуулыбкой выдавали ненасытное Маруськино сердце.
Инженеры к Маруськиным прелестям не остались равнодушны и, когда подходила к чьему-нибудь столу спросить, нравятся ли обеды, говорили о достоинствах Маруськиных блюд с преувеличенной горячностью.
Маруська наедине с Ксенией смеялась над инженерами.
– Чего они, образованные? У них только голова образованная, а все остальное как было, так и осталось.
– Аль проверила? – спрашивала Ксения.
– И без проверки видать, – говорила Маруська. Инженеров она мысленно перебирала, как товар на прилавке. Тот по зарплате хорош да из себя невидный. Другой и плечист и речист, да больно строптив, такой высоко не поднимется, а Маруська хотела всем девкам на зависть стать настоящей начальницей, чтоб на машине ездить и с заднего хода в любой магазин входить. О третьем думала: и тароват да староват, охами замучает. Настоящего жениха подобрать непросто.
Был один человек на стройке, за которого, минуты не колеблясь, пошла бы Маруська. И седины бы не убоялась, и детей бы его не пожалела, и за алименты бы не укорила. Но знала Маруська, что всеми ее чарами человека того не покорить. И от недоступности вдвое желаннее становился для нее начальник стройки Дубравин.
Когда неторопливой твердой походкой входил Дубравин в столовую, когда привычными спокойными движениями снимал он и вешал на деревянный колок свое черное кожаное пальто и потом причесывал перед зеркалом густые серебристые вперемежку с черными волосы, Маруська словно бы становилась меньше ростом, и на сердце у нее делалось зябко и радостно. Сбросив полотенце, которым повязывала живот поверх белого халата, Маруська хватала поднос и несла Дубравину обед.
– Здравствуйте, Иван Иванович.
– Здравствуй, Маруся, – приветливо отзывался Дубравин.
От басовитого, мужественного его голоса Маруська млела и маялась. Она улыбалась Дубравину с нескрываемой ласковостью, но начальник стройки был серьезен, глядел умно и озабоченно, и Маруськина улыбка словно бы пристывала к зубам, делалась неуместной и жалкой.
Пробиваясь в интеллигенцию, Маруська почти вовсе перестала ходить на танцы, не пела частушки под гармонь, дала отставку всем своим бывшим кавалерам. Она даже записалась в библиотеку и пыталась по вечерам читать книги, но непривычное это занятие давалось ей плохо: едва одолев несколько страниц, Маруська впадала в дрему.
После Дубравина самым видным из инженеров казался ей Мусатов. Через раздаточное окно Маруська пристально разглядывала его, словно лиса, выслеживающая из засады куренка. Мусатов ел неторопливо, но энергично, и в каждом движении его – в том, как он резал мясо, и как нес вилку ко рту, и как со вкусом жевал, было какое-то изящество, так что Маруська даже залюбовалась инженером.
Вынув из кармана зеркальце с картонной крышкой, Маруська поправила черные кудерьки. И, как всегда, подумала о себе: хороша... Но против воли приметили глаза и то, о чем не хотелось бы знать Маруське. Морщинки веером расходились к вискам, будто кошка процарапала когтями, и прежней свежести не было в лице. Замуж пора. Хватит, погуляла-потешилась. А то, гляди, всех добрых женихов расхватают, а какие останутся – сами отвернутся от пожухлой невесты.
Маруська вышла из кухни и направилась к столу Мусатова, привычно покачивая бедрами. И пока сделала эти восемь или десять шагов от двери до столика, окончательно вызрело в ее уме коварное решение, и, садясь на стул напротив Мусатова, уверенно подумала: будет мой.
– Как вам обед понравился, Борис Андреевич?
– Спасибо, – сдержанно ответил Мусатов и вежливо, но без интереса поглядел на Маруську.
– Мы стараемся, – сказала Маруська. – Кушайте на здоровье. Семейному жена приготовит, а об холостяках кто ж позаботится?
Мусатов молчал, не выражая радости по поводу неожиданной собеседницы. «Ну, погоди, —мысленно пригрозила ему Маруська. – Уж я найду к тебе подход».
Однажды вечером, когда Мусатов возвращался домой после затянувшегося технического совещания, Маруська догнала его на темной улице.
– Здравствуйте, Борис Андреевич. С совещания идете? Слыхала я, Дубравин говорил насчет совещания. Скоро завод пускать, а трудностей столько. Дубравин аж с лица спал.
– Да, много трудностей.
– Хочу я с вами посоветоваться, Борис Андреевич, насчет себя, – трещала Маруська, не обескураженная холодностью собеседника. – Думаю на химию перейти. Надоело котлеты жарить. В техникум хочу поступать, на передний край пятилетки становиться.
– Химия интереснее котлет, – согласился Мусатов.
– Какое же сравнение! – подхватила Маруська. – В цех перейду работать, а в техникум на вечернее отделение поступлю. Жизнь зовет вперед, надо в ногу шагать. Вы бы на моем месте в какой цех пошли работать?
Постепенно она вовлекла Мусатова в разговор, он оживился, и путь до дому показался ему вдвое короче. Вечер в холостяцкой квартире представился ему унылым.
– Не хотите ли зайти? – спросил он Маруську.
– Да можно на полчасика, – сдержанно, почти нехотя согласилась Маруська.
В тот раз она и в самом деле пробыла у Мусатова не более получаса, скромно сидела сбоку письменного стола и направляла беседу на заводские дела, стараясь показать горячую заинтересованность. Мусатов предлагал выпить чаю, но Маруська заторопилась и отказалась, пообещав прийти в другой раз.
Пришла. И в другой, и в третий, и в четвертый. Сама, словно хозяйка, накрывала на стол и угощала Мусатова чаем. Прямодушно и ласково глядела Мусатову в лицо.
Разъярившаяся напоследок зима налетела на Серебровск седыми вьюгами. Мокрый снег крупными хлопьями бился в окно, ветер выл свирепо и тоскливо, где-то поблизости стучал на крыше оторвавшийся лист железа. Мусатов, сбросив ботинки, лежал с газетой на кровати, но не испытывал беззаботного состояния отдыха и покоя. Прислушиваясь к нарастающим вздохам метели, он словно ждал кого-то. Это чувство ожидания огорчало и почти возмущало Мусатова. «Зачем она ходит? – с несколько насильственным раздражением думал Мусатов. – Я не хочу этого. Что у нас общего? Я скажу ей, чтоб она больше не приходила...»
Но тут резко задребезжал звонок, и Мусатов, отшвырнув газету, проворно вскочил с постели и в одних носках кинулся открывать.
Маруська вошла румяная, красивая, с блестящими капельками на бровях и ресницах, в заснеженном платке.
– Ну и погода, – развязав платок и стряхивая на пол снег, сказала она. – Сюда добралась, а обратно, гони не гони, Борис Андреевич, не уйду.
И прямо, зовущими, нахальными глазами посмотрела в лицо Мусатову.
Через неделю они расписались.








