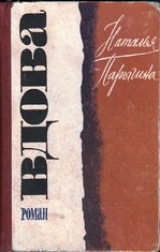
Текст книги "Вдова"
Автор книги: Наталья Парыгина
сообщить о нарушении
Текущая страница: 21 (всего у книги 29 страниц)
Это было горе, тяжкое, как смерть Василия. И все другое перед ним бледнело – и то, что Митя отбился от рук, и то, что он знал про ее связь с Чесноковым. Все было скреплено одной цепочкой, но неприязнь к сыну, ставшему чужим, более всего мучила Дарью и в то же время приносила ей какое-то странное облегчение, как бы освобождая ее от ответственности за Митины поступки и за его судьбу.
Митя давно уже не считался с матерью, но все-таки какая-то видимость ее материнской власти прежде существовала. А после этой короткой отчаянной ссоры Митя словно бы получил признанное матерью право на самостоятельность.
– Отстань.
Стороной, от соседей и знакомых, слышала Дарья, что Митя связался с дурной компанией, что играют они в карты неизвестно на какие деньги, что есть с ними девушки, которые едва ли не хуже парней.
После таких разговоров Дарья маялась беспокойством, порывалась что-то делать, видела, что погибает сын, и пыталась его спасти. Спрятав свою неприязнь, принуждала себя быть ласковой, подыскивала добрые слова:
– Митя, что же это... Люди про тебя нехорошее говорят. Куда идешь? Под гору ведь катишься...
– Не твое дело, – с дерзкой, кривой усмешкой перебивал он. – Раньше надо было заботиться.
– Да разве ж я...
– Перестань, а то уйду.
Дарья умолкала, чувствуя свое бессилие. Не могла она пробиться к нему в душу. Накрепко запер Митя ее на замок и ключи выкинул неведомо куда.
5
В субботу Дарья принялась за стирку. Наклонилась за бельем, и вдруг голова закружилась, Дарья качнулась, будто стояла в лодке и лодку подкинуло на волне. «Чего это со мной? – с недоумением подумала она. – Сроду такого не бывало...»
Но тут же вспомнила: бывало. Когда ходила беременная. Митю носила – один раз даже упала. Мыла пол, наклонилась и словно кто ударил под коленки.
Сперва Дарья спокойно припомнила тот давний случай, еще не осмыслив его прямой связи с сегодняшним состоянием. Она продолжала разбирать бельишко, откладывая в сторону белое, которое собиралась парить. За делом мысли тянутся лениво. Одна минует, а другая не торопится, даст голове отдохнуть. Дарья уже начала забывать о минутном головокружении, но тут опять наплыла та мутная волна, к горлу подступила тошнота. Дарья распрямилась, с трезвой неотвратимостью подумала: «Так ведь и нынче от того же...»
Она оглядела себя, словно ожидала увидеть какие-то перемены. Ничего не было заметно. Но Дарья теперь припомнила то, на что прежде не обратила внимания. И удивилась только, что не разгадала своей тайны до сих пор.
Дарья тут же, в кухне, где раскладывала белье, села на табурет, беспомощно опустив на колени руки. «Что же теперь делать-то?» – подумала она. И заметались мысли, словно мыши в мышеловке. В больницу пойти – без толку: закон запретил аборты. Говорят, Ксения Опенкина занимается этим. Как бы в могилу не свела. Останутся ребятишки сиротами. Родить? Срамно родить без мужика.
Когда Дарья, забеременев в первый раз, сказала об этом Василию, он обнял ее и целовал в буйной радости, а на другой день с получки купил ей на базаре яркий кашемировый платок. Теперь нет Василия. И платок Дарья обменяла в поезде на молоко. А другого никто уж не подарит. Якову Петровичу сказать? А кто он ей, Яков Петрович? Пришел, потешился да к жене воротился. А ей – беда. Сама виновата. На свою глупость жалобы не подашь. Без мужика стосковалась? Вот теперь и расплачивайся.
Две кучи белья лежали перед Дарьей. В одной – сероватые простыни из дешевой бязи, вафельные, замахрившиеся от старости полотенца, Нюркины и Митины рубашки, требующие не только стирки, но и починки. В другой – пестрым линялым ворохом ситцевые платья, юбки, трусы, цветастые наволочки... Надо стирать. Беда ли у тебя, радость ли, а жизнь не дает передышки, требует своего. Уже давно в Дарьином представлении жизнь отражалась прежде всего как работа, и теперь она встала и принялась работать.
О своей беременности Дарья никому не говорила, а про себя все думала, что делать, и никак не могла решить. Уж если идти к Ксении, так надо идти скорее, она понимала, что надо идти скорее, а сама все не могла собраться.
Иногда она представляла себе, как у нее родится ребенок. Василий всегда радовался детям, и что-то от того праздничного настроения, с которым ожидали они новорожденного, теперь помимо воли пробудилось в Дарье. Ей казалось, что у нее родилась бы девочка, такая же спокойная, как Варя, и Дарья чувствовала у себя на руках крохотное, беспомощное, теплое тельце ребенка и молодела в такие минуты. Жизнь Дарьи после войны шла слишком буднично и томительно, в работе, в заботах о куске и тряпке, ей хотелось каких-то перемен, праздника, счастья. Оттого и кинулась она навстречу Якову Петровичу. Радости оказалось мало, больше волнений и обид. Но не смирялась Дарья с однообразной чередой серых будней. И теперь не могла понять – то ли бедой обернется рождение ребенка, то ли светлым лучиком. И потому медлила идти к Ксении.
Перед концом смены к Дарье подошла табельщица.
– Звонили из милиции, – сказала Дарье. – Сына твоего забрали.
– Как это? – недоумевающе проговорила Дарья.
Эти два слова сами собой непроизвольно сорвались унее с языка, на самом деле знала она – как. Забрали милиционеры, увезли, на замок заперли... Понимала она, как это бывает, и то понимала, что может это случиться с Митей. Но теперь, когда случилось, страшилась поверить в несчастье. В виски ей кто-то долбил тупыми молоточками, и из-за этих непрестанных глухих ударов она плохо слышала, что говорила ей табельщица.
– Только что позвонил начальник милиции, велел тебя предупредить, поскольку парень несовершеннолетний.
– Да что ж он такое мог натворить? – глухим голосом, который сама не узнавала, спросила Дарья.
Табельщица равнодушно пожала плечами:
– Не знаю. Там скажут.
До конца смены оставалось полчаса. Дарья машинально, но старательно, как всегда, исполняла свою работу, только очень была бледна и двигалась автоматически, точно кто-то посторонний невидимо командовал ей подойти к приборам – и она подходила, подвернуть вентиль – и она подвертывала. Она не только не спешила окончить смену, а в смутном, неосознанном страхе перед тем, что ей предстояло после работы, хотела бы долго не уходить с завода, до тех пор не уходить, пока окончательно не разъяснится эта ошибка с Митей.
Но, сдав смену, бегом кинулась к проходной. На узкой дорожке было тесно, люди шли бок о бок, иные даже под руку, они мешали ей, эти спокойные, счастливые люди, у которых не случилось беды, и Дарья бесцеремонно расталкивала их, обгоняя. За проходной сразу стало просторно, но Дарья от волнения и усталости уже не могла бежать, она шла быстрым, широким шагом, точно спешила в магазин. Она вдруг спохватилась, что идет не в милицию, а домой, в милицию надо было свернуть налево, она уже пропустила поворот. Остановилась на миг, соображая, не вернуться ли. И ухватилась за соломинку – ей пришло в голову, что Митя уже дома, забрали его по ошибке, а теперь освободили, и не надо ей идти ни в какую милицию.
Дома была одна Нюрка. Она глядела на мать большими испуганными глазами, и, еще ни о чем не спросив у дочери, Дарья поняла, что она все знает.
– Что... Митя? – с робкой надеждой проговорила Дарья.
У Нюрки часто-часто задрожали губы. Она кинулась к матери, обхватила ее руками и, уткнувшись лицом в грудь Дарьи, громко заплакала.
– Ну, ничего, ничего... Не реви, – говорила Дарья, гладя Нюрку по голове. – Разберутся.
Нюрка своей беспомощностью и этим невольным порывом найти у матери защиту от горя придала Дарье силы.
Она отстранила дочь, сняла телогрейку и неторопливо, деловито принялась надевать пальто.
– Мама, ты – в милицию?
– В милицию.
– Я – с тобой, – попросилась Нюрка.
– Умойся. Только быстрей.
Дарья ждала Нюрку, прислонившись к дверному косяку. На нее навалилась какая-то отупляющая душевная усталость, и минувший разговор в цехе с табельщицей казался далеким, и предстоящий разговор с начальником милиции тоже как-то не пугал и почти не волновал.
Нюрка собралась быстро. В пальто, которое стало ей уже выше колен, с тонкими кистями рук, выступающими из рукавов, она походила на неокрепшее деревце с облетевшей от осеннего ветра листвой.
В длинном, полутемном и грязноватом коридоре милиции их остановил дежурный.
– Вам кого?
– К начальнику мне, – сказала Дарья. – Сына моего задержали. Костромина Дмитрия.
Она назвала Митю полным именем, и сама от этого почувствовала болезненный укол в сердце. Дмитрий... Взрослый стал. Совершеннолетний ли, нет ли, а взрослый. Самостоятельный. Вот куда привели его первые самостоятельные шаги.
– Пройдите, – сказал дежурный, вернувшись от начальника милиции. – Второй этаж, первая комната налево.
Дарья тяжело поднималась по лестнице. Нюрка, робея, шла за ней, старалась бесшумно ставить ноги на деревянные ступени.
Кабинет у начальника милиции был просторный и почти пустой. Дарья сунулась было в кабинет вместе с Нюркой, но начальник громким строгим голосом остановил их:
– Девочка пусть подождет в коридоре.
Нюрка молча повернулась и вышла, а Дарья растерянно стояла посреди кабинета.
– Садитесь, – сказал начальник милиции, указав Дарье на стул возле своего стола.
Он был немолодой, с густой проседью в волнистых волосах, но полное румяное лицо сохраняло гладкость, на нем почти не виделось морщин, только припухлые веки выдавали какой-то недуг. На погонах грозно блестели звездочки.
Начальник милиции не торопился начать разговор. Выдвинув ящик стола, он достал пачку сигарет, выбрал одну, чиркнул спичкой. Дарья ждала, до боли сжав зубы. Ей казалось обидным, что этот человек в погонах молчит и курит, словно он тут один, словно не мать парнишки, которого они невинно засадили за решетку, пришла к нему, а какая-то праздная баба.
– Сегодня утром мы арестовали вашего сына.
Дарья вздрогнула.
– Сказали мне... Ошибка это. Не может быть. Не виноват он ни в чем, – поспешно, точно надеясь этой поспешностью убедить начальника милиции, твердила Дарья.
– Он виноват, – резко перебил ее подполковник. – Он признался.
– В чем? В чем он признался? – сразу сникнув, спросила Дарья.
– В убийстве.
– А-а... – тихо выдохнула Дарья.
Странно, но теперь, когда начальник милиции произнес страшные слова, она почувствовала облегчение. Того, что она услышала, не могло быть с ее Митей. Убить человека Митя не мог. Нахулиганить, подраться, украсть... Но убить человека – нет.
– Нет! Нет... – торопливо заговорила Дарья. – Вы разберитесь. Не мог он. У него и оружия сроду никакого не было. Только рогатки. Я еще ругалась – резинку у меня на рогатки таскал. Из рогатки ведь не убьешь человека. Это кто-нибудь другой. Он у меня смирный... Сейчас маленько разбаловался, приглядеть за ним некогда, а прежде вовсе был смирный...
Начальник милиции потянулся к графину, налил в стакан воды, поставил перед Дарьей.
– Выпейте. Успокойтесь.
– Да как... Как я могу успокоиться, если вы такое мне про сына говорите? – возмущенно выкрикнула Дарья.
Ей казалось теперь, что она должна защитить Митю. Она одна знает, что не может, не может он убить человека! Надо их убедить. Надо им доказать. Не верить. Не сдаваться.
– Выпейте воды, – требовательно проговорил начальник милиции.
Дарья торопливо, чтобы отвязаться, схватила стакан, шумно, большими глотками выпила воду.
– Вы позовите его, – вытирая губы тыльной стороной ладони, попросила она. – Я ему скажу... Я сама его спрошу.
– Свидание разрешим только после окончания следствия.
– Как это? – не поняла Дарья. – Когда это?
– Примерно через месяц.
– Через месяц, – недоуменно повторила Дарья. – И целый месяц он будет здесь? У вас?
– Ваш сын совершил преступление, поймите это, – с раздражением проговорил подполковник.
– Я понимаю, – пробормотала Дарья, чтобы не раздражать его еще более. – Я понимаю... Что же, – нерешительно продолжала она, – и матери нельзя с ним повидаться?
– Нельзя.
Дарья сидела, тупо соображая, что бы еще возразить этому упрямому человеку, как бы втолковать ему, что Митя не преступник. Она попыталась представить себе, как Митя, маленький и щуплый, налетает на здоровенного человека (этот убитый представился ей именно здоровенным, хотя она никогда его не видала). Да стоило этому человеку только хорошенько двинуть кулаком...
Придумали же: человека убил.
– Он бы не справился... Сроду бы не справился. Вы только поглядите на него. Да я его до сей поры ремнем могу отстегать – он вовсе как ребенок. И крови он боится. Я курицу как-то купила для Нюрки – Нюрка желудком сильно маялась, – так не дала ему зарубить, сама зарубила. Нет, это не он...
– Он не одни напал. Их было трое.
– Вот видите! Так почему же на него-то говорите?
– Я сообщаю вам результаты предварительного следствия. Дальнейшее расследование покажет...
Начальник милиции встал. Он оказался высок ростом, широкоплеч, подтянут. Такие мужчины после войны встречались редко, и в другое время поглядела бы на него Дарья с завистливым женским интересом. Но теперь и его рост, и строгая подтянутость, и властный голос внушали ей только страх за сына, и она чувствовала себя пришибленной и жалкой.
– А то позволили бы повидаться с ним, товарищ начальник? – нерешительно попросила она.
– Пока нельзя.
– Нельзя. Понятно, – покорно согласилась Дарья. – Идти мне?
– Идите.
Она встала и тяжело побрела к двери, не простившись и не оглянувшись на грозного человека, в руках которого была судьба ее сына.
Нюрка схватила ее за руку.
– Что, мама? – спросила почему-то шепотом.
– Пропал наш Митька, – с отчаянием сказала Дарья.
6
Два чувства вызывали в Дарье мучительную, непрекращающуюся, ноющую боль: сознание своего бессилия и стыд. Ее Митю, ее сына схватили грубые посторонние люди, закрыли на замок в камере с решетками, допрашивали и собирались судить. А она, мать, не могла его защитить, с ней были вежливы, ее жалели, но никто не верил ее словам о невиновности сына.
Дарья избегала без крайней надобности ходить по городу. Она старалась незаметно, опустив голову, проскользнуть мимо знакомых, не вступала в разговоры, стоя в очереди, и в цехе держалась так замкнуто и отчужденно, что редко кому приходила охота заговорить с нею. Казалось Дарье, что всюду за ней, как дымный хвост за паровозом, тащится постыдная известность. Что все, и знакомые и незнакомые, завидев ее, думают об одном: «Ее сын – в тюрьме. Ее сын – убийца...»
Угнетенная свалившейся бедой, Дарья, однако, внешне жила, как прежде. Ходила на работу, стирала, мыла, готовила еду, заводила будильник и ложилась спать. Только прибавилась к этому привычному распорядку еще одна горькая обязанность: готовить и носить Мите передачи. Первый раз Дарья со слезами укладывала в авоську батон и колбасу да дешевые конфеты в бумажках. А после и эту новую нагрузку стала исполнять с терпеливой деловитостью, примирившись с неизбежным и непоправимым.
Теперь, когда с Митей случилось несчастье, Дарья точно забыла о своей беременности. То, что прежде казалось таким сложным, утратило для Дарьи свое значение. Родится ребенок, ну и что ж, и пусть родится, только бы Митю отпустили. Идти к Опенкиной? Успеется к Опенкиной, она ведь не доктор, она за деньги в любые сроки сумеет сделать, только бы с Митей по справедливости разобрались.
В бессонные часы думала Дарья о Мите, в Митиной вине искала свою вину, то оправдывала себя, то судила.
Неужто я виновата? Говорила ведь мне Лидия Егоровна – за все в первую очередь мать в ответе. Прозевала я Митю. Не сумела к себе привязать. Не смогла честным вырастить. Преступником стал.
Господи, да чем же я виновата? Разве я его злу учила? Сколько раз просила: не водись с хулиганами. Не слушал. Сам виноват. Ни при чем я. Ни при чем...
Но не приносила облегчения, не убеждала попытка оправдать себя. Была Дарья виновата перед сыном. Хоть рыдай, уткнувшись в подушку, хоть волосы на голове дери, а вины своей не сбросишь. Знала Дарья, в чем ее вина. В горе своем замкнулась после гибели Василия, горем от детей отгородилась. Кормила, одевала, а от сердца отделила. И еще вина – перед Яковом Петровичем не устояла. Бабьей радости испила, а материнский долг упустила. Последние ниточки, связывающие ее с сыном, порвались после той жестокой ссоры, когда укорил ее Митя любовником.
Казнила себя Дарья, в одиночестве маялась со своей бедой, болела сердцем за Митю, глядя в ночи на черные оконные переплеты.
В день суда Дарью заменили на работе. Нюрке Дарья не сказала о суде, не хотела, чтобы видела Нюрка брата под конвоем и принародно мучилась за его позор. Рано, как на завод, вышла из дому, забрела на окраину города и долго стояла, глядя на белые холмы.
Первый снег лег недели две назад, но с тех пор падал часто и ровно побелил поля. Решетчатые столбы высоковольтных передач уходили вдаль, перевалив через вершину холма, сосновая рощица зеленела неизменно, деревенька с раскиданными по склону домишками и дымками над ними виднелась справа. Спокойным бессмертием бытия веяло от чистых снегов, от рощи и деревеньки и от этих железных башенок с протянувшимися между ними проводами, по которым невидимо текла мощная сила электричества. И Дарья вдруг почувствовала свою слитность с этим живым прекрасным миром и на минуту забыла о горе.
Когда она пришла в суд, было еще рано. Любопытные зрители, судача между собой, заняли передние скамьи. Дарья хотела уйти подальше, в темный угол, чтоб не видно было ее потом, когда будут судить ее сына. Но тут же подумала, что не имеет она права прятаться. И прошла вперед. Села напротив невысокой, сделанной из палочек загородки, в которой, как видно, поместят подсудимых.
Все больше собиралось народу. Дарья сидела, не поднимая головы, не глядела на входящих, только слышала шаги и скрип старых расшатавшихся скамеек, когда рассаживались люди.
Кто-то подошел и сел рядом с Дарьей. И потрогал ее за локоть.
– Даша...
Люба? Дарья медленно повернула голову. Да, Люба... Эта – не из любопытства. Думает, легче мне будет, если она рядом. А может, и вправду будет легче.
– Как же ты... с работы-то?
– Сменами поменялась.
– Народу много, – заметила Дарья безразличным чужим голосом.
– Много, – кивнула Люба. – И в проходах стоят, и у стен. Интересуются.
– Ведут, – громким шепотом сказал кто-то позади Дарьи.
Дарья вздрогнула и выпрямилась. В зал под конвоем входили подсудимые.
Впереди, сразу за милиционером, шел Хмель. Дарья не знала его, не видала ни разу, но теперь сразу угадала, что этот неуклюжий парень с широким плоским лицом, с наглым взглядом прищуренных глаз и ленивой, развинченной походкой и есть Хмель. За Хмелем, понурившись, плелся малорослый парнишка Гриша Мухин. Этого Дарья знала – он вырос в детдоме, учился в ремесленном училище и несколько раз заходил к Мите.
Митя шел последним. Увидав его, Дарья сделала невольное движение вскочить и кинуться ему навстречу, но Люба за руку удержала ее. Только взглядом Дарья рванулась навстречу сыну, прильнула жадно и так, не мигая, сопровождала каждый его шаг, каждое движение его рук или головы, каждый взлет ресниц.
– До чего ж он переменился-то, – прошептала Люба.
Митя был острижен под машинку и изжелта-бледен. Вокруг глаз синели круги. Рубашка висела на его и прежде худых, а теперь еще более опавших плечах, точно на палке. Острая жалость к сыну полоснула Дарьино сердце, тяжелый ком подступил к горлу, и она вся сжалась и стиснула челюсти, чтобы не дать вырваться из груди невольным рыданиям.
– Встать! Суд идет.
Глухой шум послышался а зале, скамейки заскрипели, и все замерло. Вошли судья и присяжные заседатели. Судья шел быстрой семенящей походкой. Был он высок и худ, скулы резко обозначились под синеватой от бритья кожей. Покатый лоб переходил в лысину. Из-под кустистых густых бровей строго и зорко глядели черные, с угольным блеском глаза. «Засудит Митю», – с безнадежностью подумала Дарья, взглянув на судью.
Присяжные показались ей добрее. Одного она даже знала – он работал у них на заводе бухгалтером. Дарья не раз видела его, когда заходила в контору, а иногда встречала в городе. На выборах она за него голосовала. Ей только никогда не приходило в голову, что этот седой человек с маленькими рыжеватыми усиками, озабоченно заправляющий сейчас за уши дужки очков, будет судить ее сына.
По правую руку от судьи села немолодая полная женщина в сером платье и с пуховым платком на плечах. Этот пушистый платок придавал ей какой-то будничный, домашний вид, и Дарья подумала, что у нее, наверное, тоже есть дети, и она должна помнить о них, когда будет судить Митю.
За отдельными столиками поместились прокурор и защитник, но Дарья на них почти не обратила внимания. Оттого, что они сели в стороне, поодаль от судьи, Дарья решила, что роль их невелика, и судьбу Мити будут решать эти трое.
Дарья потом не все подряд могла припомнить, что происходило на суде. Иные моменты вовсе выпали из ума, другие отпечатались накрепко – до смерти не забыть.
...Допрашивают Митю. И он сам – сам! – рассказывает о том, как он разозлился на Татарникова, как выхватил у Хмеля нож и пырнул им Татарникова в живот. Он говорит об этом вяло, бесстрастно, с долгими паузами, точно отвечает худо выученный урок. Дарья слушает, оцепенев от страха и недоумения, она неотрывно глядит на тонкие синеватые Митины губы, замирая сердцем, когда они неподвижны, и вздрагивая, когда они вновь начинают шевелиться.
И вдруг новое, протестующее, гневное чувство просыпается в Дарье. Ей хочется встать и при всех крикнуть сыну в полный голос: «Что ты наделал! Что ты сделал с собой и со мной, и с этим парнем... Кто тебя толкнул на убийство? Зачем ты связался с Хмелем? Погубил себя. На мать, и без того не обойденную бедами, навалил еще одну, на многие годы, печаль...» И много яростных, рожденных отчаянием слов готовы сорваться с ее языка. Но не нужны теперь слова... Не властна она над Митиной судьбой. Вон сколько людей собралось, чтобы понять вину ее сына и наказать его... Человека убил. Ее сын. Мальчишка. Человека...
Прокурор, сидя за своим столиком, что-то записывал на листке, защемленном мраморной доской чернильного прибора. Левая рука его в черной перчатке висела неподвижно. Когда он начал говорить, Дарья поняла, что прокурор не второстепенный человек на суде, как ей показалось прежде. Маленький, сутулый, с крючковатым носом, прокурор напоминал Дарье коршуна, готового насмерть заклевать ее птенца. Голос у него не под стать фигуре оказался громким, резким, а слова сыпались с непостижимой легкостью.
– Мы пережили тяжелую войну. Мы потеряли на войне миллионы людей. Солдаты гибли на фронте, защищая родную землю, ценою смерти спасая жизнь. И вот теперь, когда в стране наступила мирная жизнь, убит человек, Игорь Татарников, двадцати лет. Убит жестоко и бессмысленно. Возвращался домой, проводив любимую девушку, спокойный, счастливый, с мечтами о будущем. И вдруг из тьмы выступают трое парней, с которыми он незнаком, которым он ничем не досадил. Просто одному из троих нравится его девушка...
Чем дольше говорил похожий на коршуна прокурор, тем тяжелее давила Дарье на плечи непоправимая вина ее сына. На скамье подсудимых сидели трое, взрослый преступник Федька Хмель, уже отбывавший наказание за бандитизм, и двое подростков. Но главным виновником среди троих был Митя. Это он, выхватив у Хмеля финку, в бессмысленной ярости накинулся на Татарникова и по самую рукоятку всадил нож ему в живот.
Дарья слушала прокурора, но смотрела на Митю. Он сидел, опустив голову, бледный и жалкий, но что-то жесткое, затаенное, упрямое чудилось Дарье в его худом лице с заострившимися скулами и во всей его неподвижно застывшей фигуре.
К тому времени, когда начал говорить защитник, Дарья уже так истомилась от своих переживаний, что вначале почти не слушала его. И не верила она в защиту. Как можно защитить человека, который стал убийцей?
Защитник был молод и красив. Голос у него оказался не такой громкий, как у прокурора, но приятный, душевный. А может, он нарочно старался сделать его приятным, чтобы расположить судью и присяжных и смягчить их.
– ...Дети, оставшиеся сиротами и полусиротами – это тоже трагические последствия минувшей войны. Вот двое из них перед вами: Гриша Мухин и Митя Костромин. Первый рос без родителей, второй – без отца. С детства травмированные горем, без достаточного надзора, без любви и ласки. А взрослый, искушенный в грязных делах развратник, картежник и пьяница, бывший преступник сумел взять их под свое влияние, внушив им ложные идеалы воровской и бандитской романтики.
Дарья теперь внимательно слушала защитника и удивлялась, как верно он говорит. Он лучше самой Дарьи понимал, что произошло с Митей, и судьи, казалось Дарье, теперь поймут, что больше во всем виноват не Митя, а Хмель, и не слишком строго накажут его.
Мать убитого парня сидела тут же, в зале. Она работала в войну в хлебном магазине, а теперь – в гастрономе, в кондитерском отделе. Она была белая, пухлая, благополучная, казалось, никакое несчастье не может за ней увязаться, никакие горести к ней не пристанут. И вот сидит на суде с красными от слез глазами, сморкается в мокрый платок и мысленно проклинает этих троих, в загородке, среди которых Митя, и желает им самой лихой кары.
Мать Мити мысленно упрашивает судей о самом снисходительном приговоре.
Мать Татарникова жаждет самого жестокого.
Десять лет! Десять лет...
Что ни делала Дарья, не выходили у нее из головы эти два слова. А направляясь с Нюркой к Мите на свидание, и вовсе ни о чем другом думать не могла. Сейчас Мите пятнадцать, а воротится из колонии в двадцать пять. Десять самых лучших лет. Вся молодость...
Нюрка не видала Митю после ареста и, когда его впустили в комнату свиданий, остриженного под машинку и бледного до желтизны, девочка в первый миг попятилась, как от чужого. Дарья дернула ее за руку:
– Поди, поцелуй брата, долго не увидитесь.
Потом сама она, поставив на пол кошелку с гостинцами, обнимала Митю, гладила его стриженую голову и плакала. Митя сурово уговаривал:
– Не надо, мам, не плачь. Отбуду срок, вернусь, на работу поступлю...
– Десять лет, – сквозь слезы твердила Дарья. – Десять лет ведь...
– Может, и не просижу десять. Работать буду, стараться. Говорят, за старание да за хорошее поведение сбавляют срок.
– Далеко увезут-то тебя? – вытирая концом платка лицо, спросила Дарья.
– Не знаю. Не говорят.
– С Хмелем в одну колонию?
– Нет, его – во взрослую...
Это было последнее их свидание. Ночью Митю увезли. Направляясь утром на завод, Дарья представляла себе стук вагонных колес и Митю рядом с конвоиром за перечеркнутым решетками окном.
Через несколько дней у нее шевельнулся ребенок. Дарья подкручивала вентиль парового подогрева, и только успела чуть повернуть малиновый штурвальчик, как ее маленький вдруг легонько толкнулся в животе, словно хотел своим робким движением помочь ей справиться с работой. Дарья вздрогнула и выпустила вентиль. «Дождалась, – подумала она, – дождалась... Шевелится уже. Да что ж это... Да на что он мне?».
После суда над Митей, когда увезли его, преступника, неизвестно куда, для Дарьи день померк, и одни несчастья чудились ей впереди. Она уж не ждала девочку, похожую на Варю. Родится мальчишка, будет опять хулиганить, дойдет, как Митя, до тюрьмы. Да на что ж ей опять такое? А если и девочка... Надо ее одной выходить, еще Нюрка не выросла, эту пока поставишь на ноги – сколько лет пройдет.
«Нет. Нет, – решила Дарья. – Не надо. Сегодня же побегу к Опенкиной».
«Живой ведь уж, – спохватилась она. – Заявлять о себе начал».
«Не хочу я. Не нужен он мне. С этими горя не оберусь. Куда мне еще маяты...»
Чтоб не передумать, Дарья после работы не пошла домой. Прямо кинулась к Ксении Опенкиной.
***
Ксения жила теперь далеко от завода, почти на краю города, но в своей прежней, перевезенной с кладбища избе. Еще перед войной завод надвинулся на кладбище, трехэтажный кирпичный корпус высился на месте прежних могильных крестов, но Ксения отказалась взамен своей избы взять комнату в новом доме. И директор завода распорядился перевезти ее избу и поставить на новом месте.
Упрямо оберегала Ксения от перемен свой незавидный, жалкий, но привычный угол. И война в разрушительном своем буйстве пощадила старую хибару. С завода Ксения ушла, раздобыв какие-то справки о больной печени, жила одиноко, тихо и незаметно, и только попавшие в беду бабы и девки знали дорогу на окраину города к хилой избе спасительницы.
Дарья добралась до Опенкиной в сгустившиеся сумерки. Два оконца тускло светились. «Дома», – обрадовалась Дарья. Миновав небольшой дворик, она постучалась в дверь.
Она давно не видала Ксению и удивилась, что вовсе не меняется хозяйка кладбищенской избушки: словно бы, с молоду состарившись, уже не старится больше, и все так же худа, и угрюма, и неряшлива.
– Здравствуй, Ксюша, – с наивозможной приветливостью проговорила Дарья. Придет беда, так поклонишься и кошке в ножки.
– А, здравствуй, – без удивления проговорила Ксения, с привычной бесцеремонностью скользнув взглядом по округлившемуся Дашиному животу. – Проходи.
Грязь, бедность, почти нищета сквозила из всех углов. Голый стол, покрытая какими-то лохмотьями кровать, ржавый умывальник над деревянной лоханкой... «Деньги за аборты лопатой гребет, а живет в этакой убогости», – удивилась Дарья.
– С просьбой я к тебе, – сказала она. – Научили добрые люди... Другим помогаешь и мне помоги.
– Ох, жизнь, жизнь, – скрестив руки на груди и прислонясь спиной к печи, хнычущим голосом проговорила Ксения. – Никому зла не делаешь, прибегут, плачутся, всякому хочешь услужить, а каждый раз беды страшишься. Доктора – они что. Живой ли останется, мертвого ли унесут – с них спросу нету. Потому – при медицине помер человек. А я вроде без ума делаю. Я не без ума! Не шевельнулся еще ребеночек-то? – прервав свои сетования, спросила Ксения.
– Шевельнулся сегодня первый раз, – призналась Дарья.
– Вишь как! Шевельнулся. Опасное это дело. Избавить тебя от ребеночка можно, а только уж в случае чего мне свою голову терять неохота.
– Понимаю я, – сказала Дарья. – Не выдам.
– Доктора! – презрительно проговорила Ксения. – Они, доктора-то, рази возьмутся за аборт, когда ребеночек уж шевельнулся? Хоть ты у них в ногах валяйся – не возьмутся. Тем более вовсе теперь аборты законом прикрыты. А куда бабам деваться? Ко мне бегут. Я одну от шестимесячного избавила, во как. И тебя избавлю, ничего. Ты не бойся. Одно только условие: ни-ко-му.
– Сказала ведь – не выдам, – с невольным раздражением проговорила Дарья. «У одного дом горит, а другой на пожаре греется», – подумала она.
– Ну и плата, конечно... Деньги-то есть у тебя? Каждый раз как на бочке с порохом сижу. Поднесут спичку – и пропала Опенкина. А спичка-то что... Одно слово сказать. Засудят, упекут... Потому и беру дорого. Да что дорого-то? Вырастить его сколько денег станет? А тут раз отдал – и спокой. Ты что ж раньше-то думала? Али оставить хотела?








