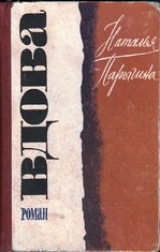
Текст книги "Вдова"
Автор книги: Наталья Парыгина
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 29 страниц)
Он одно только это слово произнес, но глазами сказал Даше больше того. И поняла Даша, что ни на один день не забывал ее Василий, неизвестно, что у них там вышло с учительницей, может, ничего не было, а может, даже женился он на ней с досады на Дашу, но что бы ни было – а Дашу не забыл. Не мог забыть. И не сможет.
Любопытные зеваки окружили их полукольцом. Вон Дора с Аленой стоят, и гармонист Михаил Кочергин, и еще какие-то люди. Совестно сделалось Даше. Она посуровела лицом, сказала Василию:
– Ты иди, поешь. После поговорим.
Он кивнул и медленно прошел в обеденный зал, а сам на ходу оглядывался, будто боялся, что Даша вот-вот исчезнет.
4
Вечером Василий пришел к Даше в гости. Маруська мигом слетала к шинкарке и принесла спирту. Шинкарки в Серебровске самогон не гнали, а торговали краденым спиртом, со спиртзавода. Спиртзавод сейчас расширяли – из спирта, говорили, и будут потом делать каучук. А пока делали водку, и кто умел, наживался при ловком случае.
Вскоре большая сковорода картошки, хлеб – горкой на тарелке, без нормы, две бутылки разведенного спирту, одна – подкрашенная вареньем, стояли в горнице на столе. У Василия сыскался кусок свиного соленого сала. Хозяйку пригласили. Словом – пир.
– Ну, будь здоров на сто годов, Вася, – сказала Маруська, поднимая рюмку.
Надо бы Даше здравицу-то сказать, но Маруська вперед выскочила.
Даша давно не пила. Маруська хоть и подкрасила спирт, но развела крепко. Блаженный туман застилал Даше глаза, она глядела сбоку на сидевшего рядом Василия, слышала его знакомый басовитый голос и едва понимала, о чем он говорит.
...– Продали в Сосновске поросят – тут на площади собрание. Парень ваш, этакий рослый да голосистый, на телегу влез. «Прорыв, кричит, на стройке. Помогайте!» Я было хотел у Хомутова спроситься, не поехать ли, мол. А он сам. «Поезжай», – говорит.
– Кабы не продавал поросят, и с Дашкой не повидался бы, – заметила Маруська.
– Жених, что ли? – хрипловато и неприязненно спросила Ксения.
– Любовь у них, – объяснила Маруська, – давно уж.
– Кто в любви тешится, а кто горе моет, – с горьким вздохом заметила Ксения. – Муж помер. Сынка крохотного скарлатина съела. Возле них живу, тут они оба, на этом кладбище захоронены, рядом лежат.
– Кладбищу – конец, – сказала Маруська. – Вчера в котловане гроб откопали. Придется тебе в другое место кочевать, да и покойникам твоим тоже.
– И мертвым нету покою, – сокрушенно проговорила Ксения. – Что творится, что творится... Как господь терпит...
– Погоди, Ксения, – оборвала ее Маруська. – Дай с земляком наговориться. – И обернулась к Василию: – Ну, как там, в Леоновке? Цветет колхоз?
– Цветет не цветет, а назад повороту не будет, – твердо проговорил Василий.
– А чего, мерещится кому обратный поворот?
– Многим мерещится, – сказал Василий. – Митрохинский племянник Сидорка молотилку облил керосином да поджег.
– Поймали? – спросила Даша.
– Тут же и поймали. Сидорка со связанными руками шел, а все орал: «Ни мне, ни вам пускай не достанется. Ни мне, ни вам...»
– Упрямый-то, – сказала Маруська.
Даша смотрела на Василия, на широкие его плечи, обтянутые сатиновой косовороткой, на волосы его темно-русые, копной павшие на лоб, на большие грубые руки. Одного ей хотелось – остаться с Василием с глазу на глаз.
Умная Маруська все понимала.
– Оставайся, оставайся со своим, дролей, а мы в кино пойдем, – объявила она, глядя на Дашу. – Пойдем, Ксения, в кино? Я билеты покупаю на свои деньги. Гуляю на радостях, что земляка увидела.
А сама подмигнула Даше за спиной. И пальцем поманила ее в кухню.
– Хочешь, – шепнула ей, – мы с Ксенией в барак ночевать уйдем? Хочешь?
– На что в барак-то?
– Аль по миленку не соскучилась? – нахально улыбаясь, спросила Маруська... – Не бойся, из беды Ксения выручит.
– Вот ты про что... – Даша отвернулась от Маруськи.
– Твое дело, – сказала Маруська.
Они с Ксенией споро собрались и ушли. Даша заперла дверь на крючок – хозяйка опасалась воров, велела запираться. На пути к горнице Даше преградил дорогу Василий, обхватил Дашу сильными ручищами, стиснул так, что дыхание перехватило:
– Злой я на тебя, Дашка.
Даша не успела спросить, за что злой. Прижался Василий губами к ее губам, целовал долго, жадно, как в Леоновке.
– Пусти, Вася, хватит, – отстранилась наконец Даша, упершись обеими руками в его грудь.
– Думал, не увижу больше тебя вовеки, – заговорил Василий, проведя широкой ладонью по мягким Дашиным волосам.
– И горевал, и злобился, и уж не знаю чего... Как очумелый ходил, ей-богу. Сперва-то чуть было не кинулся на станцию тебя догонять. Бабка Аксинья сказала мне, куда ты поехала. А после одумался, сам себя за руки схватил. Раз, думаю, уехала, значит, не нужен я ей. Да и сама ты мне сказала: отстань, мол...
– Больно легко отстал, – с укором заметила Даша.
– Силком в сердце не влезешь...
– Об матери я горевала. Не знала, куда кинуться.
– Я за это время, Даша, книг много прочитал. И вижу по жизни и по книгам тоже: каждому человеку большой мир даден.
– Мир-то большой, да что в том проку, коли сапоги тесны? Всяк на земле теплый угол ищет. Сам об себе не подумаешь – никто не спохватится. Вот и тыкаются люди. На стройку на эту – что, от хорошей жизни сбежались? В бараках живут, ни помыться, ни постираться, бани и то нет до сей поры. Думаешь, заработки завидные? Которые с лошадями, те зарабатывают. Землекопы тоже. А бабы – им едва на еду хватает, никакой обновы справить не могут, что было, и то износили. Ладно, Маруська меня пристроила на хорошее место, а то бы тоже...
– Поглядел я на твою работу. Сурьезная работа: ложки выдавать.
–Я бы тебе сегодня ложки-то не дала, так ты бы не наелся. Ты коришь, а другие спасибо говорят.
– Красивая ты... – прервав спор, проговорил Василий.
– Раньше не разглядел? – улыбнулась Даша.
– Разглядел...
Даша и впрямь хороша была сейчас, радостно взволнованная встречей с Василием. В скудном свете керосиновой лампочки лицо ее казалось белым и нежным, смоляно чернели круто изогнутые брови, влажно блестели мелкие ровные зубы. Продолговатые светло-карие глаза глядели смело и открыто, над чистым лбом пушились легкие кудерьки.
– В партию я надумал вступать, Даша, – сказал Василий, вынимая из кармана кисет.
– В партию... Тяжело партейным, Вася. На стройке самая тяжкая им работа, самый первый спрос.
– Знаю про то. – Пальцы Василия замерли на полускрученной цигарке. – Новую жизнь не просто строить. И на стройке тяжко. И в колхозе. Да никто за нас тяготы эти не осилит. Самим придется.
– А как одолеем – станет ли легче?
– Станет, Даша! Мы и в первый колхозный год такой урожай сняли, какого поодиночке не выращивали. А кабы дружней работали, не припозднились с севом – больше б собрали зерна. Меня Хомутов на курсы трактористов обещает послать. Поработай, говорит, еще годок бригадиром, а там учись. Тянет меня к машинам. Умная машина – трактор...
Василий довертел цигарку, закурил. Резкий запах самосада поплыл над столом.
– Заберу я тебя отсюда, Даша, назад, в Леоновку. Дом поставим – колхоз поможет поставить дом. Хозяйство заведем. Нельзя нам врозь жить.
– Жил небось, – вдруг припомнив ночь, когда стояла под окошком Народного дома, жестко проговорила Даша. – Учительницу обнимал.
– Так ведь то на сцене... Какую мы пьесу сыграли. Даша! «Бедность – не порок». Сначала все маленькие играли, а после – эту. За двадцать верст люди приезжали глядеть.
– Тебе со мной скучно стало. Я почуяла. Ты мало что на сцене играл, и домой провожал учительницу. Я все знаю.
Василий молчал, только протянул руку к лампочке и прикрутил фитилек.
– Не крути, потухнет. Она ученая. А мужик и ученой нужен. Нарочно она тебя сценой завлекла. Книжки давала нарочно. Женить на себе захотела, вот и...
– Не смей! – Василий хватил кулаком по столешнице. – Не говори об ней худых слов.
– Значит, правда, коли озлился ты, – вскакивая из-за стола, крикнула Даша.
– Чистой души человек Лидия Николаевна, – притормозив в себе гнев, проговорил Василий. – Не допущу об ней худого слова.
– Вот и женился бы на ней, коли за нее кулак об стол готов разбить.
– Давно бы женился, – сказал Василий, – кабы тебя, дуру, не любил.
Об учительнице Василий сказал красивыми словами: чистой души человек. А Дашу дурой обозвал. Дурой обозвал и в любви признался. Не успела она сообразить – радоваться ли, сердиться ли на такое объяснение. Маруська помешала. Пронзительный ее смех послышался под окошком.
– Рано они, – с досадой проговорила Даша и пошла открывать.
– Билетов не достали, – сказала Маруська. – Народу – тьма. Картина, говорят, интересная. Про любовь. Без картины не разберутся, что она такая за любовь.
– Пойдем погуляем, – позвал Василий Дашу.
– Метель на улице, – сказала Маруська, стряхивая с нарядного платка снег.
– Авось не заметет, – усмехнулся Василий.
– Поздно, – сказала Даша. – Завтра подыматься чем свет.
– Проспишь свое счастье, – пригрозила Маруська.
– Не пойдешь?
– Не пойду.
– Ну, гляди... Снов вам хороших...
Василий как попало нахлобучил шапку, в незастегнутом полушубке поспешно толкнул дверь. Расходившийся ветер швырнул в дом пригоршню снега.
Тоскливо стучалась в окошко белой лапой метель. Плакала, заблудившись. Улетела-умчалась в порыве буйства с родных полей, а теперь искала и не могла найти обратной дороги. И стучалась в окошки. И ждала, что кто-то укажет ей путь. Злилась, крутыми вихрями завивала снега. Заметала на стройке котлованы. Гребла по дорогам сыпучие сугробы. Выла печально в ночном мраке...
Маруська громко сопела во сне.
Часы тикали.
Метель за окошком то забирала в голос, то стихала.
Не спалось Даше.
Поеду я с ним. А где жить будем? Как в песне поется: ни кола, ни двора. У чужой старухи ютиться? Жениться хочешь, так дом поставь. В партию вступаешь, так пускай тебе партия жить поможет. Куда ж ты меня зовешь?
Часы у хозяйки старые, с хриплым боем. Одиннадцать пробило.
Уедет да забудет. На учительнице женится. И останусь одна. Одна – не одна, а другого такого нету на свете. Горестно мне без него. Горестно мне без тебя, Вася. Забери меня. Согласна я. В Леоновку так в Леоновку. Пускай у чужих людей. Лишь бы с тобой...
Метель все билась в окно, все гудела и подвывала И вдруг почудился Даше среди печальных метельных напевов санный скрип. Вправду ли ехал кто мимо или от холода. Словно пробился-таки сквозь двойные стекла зимний вихрь. Что, если уехал Василий? Что, если метнулся в горькой обиде прочь от Даши, как она – тогда, весной, бежала от него?
В черном мраке скрипит под полозьями снег.
С черными думами уезжает Василий из Серебровска.
Господи! Да неужто уехал?
Даша вскочила с постели, сунула ноги в валенки, торопливо, не попадая в рукава, принялась натягивать платье. Не может быть! Не может быть, чтобы уехал. Побегу к нему. Найду его. Догоню...
– Куда ты?
Маруська проснулась.
– Надо... Пойду...
– Чулки надень, сумасшедшая!
Не ответила Даша. Не надела чулки. С голыми коленками, на ходу заправляя под пальто концы вязаного платка, пырнула в метельную мглу.
– У-у-у!..
Наперерез колючему ветру бежала Даша по дороге. Мимо кладбища. Через пустырь. По мертвой безлюдной улице между заборами, за которыми притаились в садах спящие домишки.
Мороз горячил щеки, щипал за голые коленки. Ветер метал в лицо острые, как соль, горсти снега. Тонким скрипом отдавались в ночи Дашины шаги – словно повизгивал брошенный щенок.
Вот и церковь темнеет на площади, врезавшись в небо своими круглыми куполами. Ни единого огонька не светится. Спят все. Даша остановилась, прижав руки к груди, перевела дыхание. «Как же я, – подумала, – среди ночи ворвусь, перебудоражу людей. Спят ведь...»
Она оглянулась назад, точно примериваясь, не повернуть ли ей в обратный путь. Неприветной показалась пустынная темная улица. «Узнать надо», – решила Даша. Быстро подошла к церкви, рванула дверь.
Дверь оказалась незапертой. Она протяжно заскрипела, и Даша испугалась, что все сейчас проснутся, всполошатся: «Кто тут? Что надо?» Но тихо было в церкви. Тихо, темно и холодно. Только дыханье людей сливалось в один густой непрерывный шорох.
Сквозь узкие прорези окон проникал слабый свет, и Даша видела длинный умывальник, бочку с водой, столы... А у стен сплошной черной массой тянулись нары, и на них спали грабари.
– Вася, – тихо позвала Даша. – И еще: – Вася!
Почему-то казалось ей, что он – он один – проснется на ее зов, а остальные как спали, так и будут спать. Но никто не отозвался. «Уехал! – подумала Даша с горечью. – Так я и знала, уехал...»
– Василий! – громко, уже не думая о других, крикнула Даша.
Кто-то сел на постели близко от нее.
– Иди ко мне, на что тебе Василий, я лучше...
Даша шарахнулась в сторону, задела ногой какой-то предмет, бутылку, кажется, загремело в ночи, на нарах заворочались.
– Кто тут?
– Баба, что ли?
Даша кинулась к двери. Остановилась. В последний раз с отчаяньем в голосе позвала:
– Вася! Костромин!
– Даша! – откуда-то из глубины гулко прозвучал знакомый голос. – Ты?
– Я...
***
...Каурый – не больно лихой рысак, но и не заморыш, бежит в меру, снег летит из-под его копыт на Дашу и Василия, ветер бьет в лицо. Весело им мчаться по степи, по серому от ночного мрака снегу, под фиолетовым небом, на котором те же звезды, что видны из Леоновки.
Завтра уезжает Василий. А Даша остается. Как договорились – до лета.
Ловко угнездившись в сене, Василий в одной руке держит вожжи, а другой обнимает Дашу.
– Но, Каурый, не ленись...
Даша прижимается щекой к холодному полушубку Василия. Тихо вздыхает:
– Тосковать буду о тебе.
– Сама того хочешь, – с упреком говорит Василий.
– Я как лучше хочу.
Жалела Даша бросить выгодную работу. Своим хозяйством жить – деньги нужны. Если не тратить на пустяки, на корову скопишь за полгода. Договорились с Василием, что останется Даша на стройке до лета. А Василий за это время дом поставит. Чтоб свадьбу справить в своем дому и скотину завести.
Глухо бьют копыта о заснеженную мерзлую землю. Где-то далеко позади светится огнями стройка. А впереди вольно до самого неба расстилается степь, ни конца ей, ни края, простор на земле и в сердце простор, счастьем полнится душа, кажется – и молодость и любовь будет вечной, как земля, как жизнь.
Часто бьют копыта, скрипят полозья, мчатся сани, дороге нет конца... Но притомился Каурый. Не его дело по степи носиться. Землю пахать привык. Хлеб возить. Дрова из лесу. И стройки не испугался. В один конец – с грузом, в другой – с порожними санями. А попусту бегать в степи не привык.
Василий понял молчаливый протест Каурого, завернул в обратный путь. Теперь позади и по бокам стелилась степь, а впереди не было простору, впереди стройка громоздилась корпусами и бараками, светилась огнями.
Шагом шел Каурый. Чуял: торопиться некуда. Не погонял его хозяин. И вожжи не держал в руках – привязал к передку саней. Обнимал Дашу, целовал в холодные щеки, в мягкие губы. Думал, чудак, что можно зараз на полгода вперед нацеловаться...
5
Видно, черт подслушал Дашины задумки насчет того, чтобы скопить денег, работая в столовке. Недели не прошло после отъезда Василия – Даша насмерть рассорилась с Маруськой. Прикусить бы вовремя язык, смолчать – так нет! Не смолчала...
Ольга Кольцова потеряла карточки. Выдавали их вместе с зарплатой на две недели, и деньги тут же вычитали из заработка. Два дня всего прошло после получки. Дора расстроилась, подошла к Ольге, принялась сама обыскивать ее карманы. Сама проверяла, а сама ворчала:
– Растеряха ты несчастная...
Ольга стояла бледная, в серых глазах застыли виноватость и испуг.
Девчата встали в очередь за обедом, а Дора направилась в кухню, попросила позвать Марусю Игнатову. Даша как раз посуду мыла рядом с дверью, все видела и слышала. Как Дора рассказала про Ольгину беду. Как Маруська сказала ей: «А чего я могу исделать? Я ничего не могу исделать. Пускай сама выпутывается».
Даша оставила свою посуду, пошла к Маруське – та как раз переворачивала на большой сковороде итээровские котлеты.
– Маруся, ты ведь можешь давать Ольге обеды без карточки, – сказала Даша.
– Не дам! – буркнула Маруська. – Это незаконно, меня с работы снимут, если я буду без карточек отпускать.
– А за то, что на базаре крупу продаешь, тебя не снимут с работы?
– Ну, змея, – задохнулась Маруська. – Червяка искала, да змею откопала.
На работе Маруська больше ни слова не сказала Даше. И взглядом обходила. А дома налетела, как коршун.
– Ты, Дарья, эти замашки брось! Ты мне не указывай, чего делать. Я сама знаю. Еще корить вздумала: «Крупу таскаешь». Кто рыбки хочет, тот и ноги мочит. Сама живу и другим жить даю. Тебе тоже.
– Ты на меня не ори, – огрызнулась Даша.
Они были вдвоем, Ксения куда-то ушла.
– А чего мне на тебя не орать? – подбодрилась Маруська. – Кто ты такая? Землю бы рыла сейчас, кабы не я. В бараке бы замерзала.
– У них работа тяжелая, – примирительно проговорила Даша, – как же не выручить.
– Я не солнышко, всех не обогрею. А краденым ты меня не кори. Совесть да честность на стол не поставишь заместо щей, – уже тише, поучающим тоном говорила Маруська. – На твое место любая обрадуется, только свистни. Я тебе в этот раз прощаю, а больше не прощу. Да и ссора-то пустая, из-за какой-то каши.
– Бывает, и в каше палец сломишь, – сказала Даша.
Она молча выдернула из-под кровати свой сундучок.
Задрала ситцевую занавеску, сняла с гвоздика платье, свернула кое-как. Маруська недоверчиво следила за ее сборами. Только когда Даша прошла мимо нее, чуть не задев сундучком, Маруська опомнилась.
– Покаешься! – крикнула она. – Покаешься, назад прибежишь, да поздно будет!
«Может, и покаюсь», – мелькнуло у Даши в голове.
Она вышла, хлопнув дверью.
«К Василию поеду, – подумала Даша, очутившись на улице. – Завтра же. То-то обрадуется! Надо было сразу с ним уехать... За другую работу браться выгоды нету. Переночую в бараке да за расчетом пойду».
Падал крупный снег. Сквозь плотную его завесу едва просвечивали огни стройки. Там работала вторая смена, и на столбах горели лампочки от временной электростанции. Силы ее только и хватало для стройки, в бараках жгли керосиновые лампы.
Барачный городок уже сильно разросся, вытянувшись длинной улицей. Дора жила в шестом бараке. Даша ходила с Маруськой в этот барак, красный уголок тут был больше других и сроду не пустовал. То газеты вслух читают, то лекции, то танцы. Вот и сегодня объявление: лекция.
Даша пошла в красный уголок. В просторной угловой комнате все скамьи были заняты, и многие девчата стояли вдоль стен. Керосиновая лампа кое-как освещала только первые ряды, а остальные тонули в полумраке. Дору тут сразу не отыщешь. От нечего делать Даша стала глядеть на лектора.
Это был инженер со стройки, Борис Андреевич Мусатов. В столовой он всегда садился за угловой столик и в ожидании обеда глядел в окно, а если окно было обмерзшее, то предварительно вытаивал пальцами кружочек для обозрения. Даша удивлялась, глядя на него: инженер, а какой робкий.
Сейчас Мусатов не казался робким. И заметила Даша, что собой он видный. В столовой не выделялся среди других, а тут словно ростом выше стал. Даша, не слушая, что говорил инженер, с любопытством разглядывала чисто выбритый раздвоенный подбородок, полные яркие губы, слегка выпуклые темно-карие глаза под пушистыми бровями.
У инженера был приятный голос, говорил он свободно и просто, и Даша, все еще не слишком вникая в его речь, думала про себя, что много, должно быть, знает этот человек. На столе были разложены какие-то листки, и Мусатов время от времени заглядывал в них. Нагибаясь, он надевал очки, а, распрямляясь, снимал их красивым, плавным жестом. А все вокруг, кто сидел на скамьях и кто стоял у стены, слушали инженера. Даша тоже стала слушать.
– ...«Каа-очу» – так называли индейцы белую смолу, которая вытекала из надреза на огромном стройном дереве гевее. Отсюда и произошло слово каучук. Каа-очу. В переводе это значит: слезы дерева.
Дивным показалось Даше это название. Слезы дерева... Тяжко, поди-ка, живется людям, которые сок древесный зовут слезами.
– Каучуковые шарики впервые вывез из Южной Америки знаменитый путешественник Христофор Колумб. Но никто не заинтересовался каучуком. В шариках, сделанных ради забавы, люди не увидели великого будущего для каучука.
«Вон она, Дора... Далеко сидит – не подойдешь. Слушает-то как... Будто ей не про каучуковые шарики, а про судьбу ее рассказывают».
– ...Резина вдруг потребовалась всюду. В автомобильной промышленности. Для электрического кабеля. Для оснащения станков. Для радио, химии, военно-защитного снаряжения. Более двадцати тысяч различных предметов изготавливается ныне из каучука. Вот почему он так нужен стране.
«Двадцать тысяч!» – ахнула про себя Даша. Она попыталась представить себе это множество резиновых предметов. Что, если бы собрать их в одном месте, хоть здесь, в красном уголке? И какие это предметы? Только резиновые калоши хорошо знала Даша, и прикинула, что бы вышло, если б свалить в одну комнату двадцать тысяч пар калош. Поместились бы они в этой комнате? Где там! Целого барака, поди, не хватило бы.
– В России не росла гевея. Россия покупала каучук. Платила за него золотом. В 1920 году, во время блокады, замерли заводы, которые вырабатывали резину: Англия отказалась продавать нам это ценнейшее сырье. Нас могла спасти только химия. И спасла...
Тишина стояла в красном уголке, чуть скрипнула чья-то скамья, послышался шепот, но опять заговорил инженер, и не стало никаких звуков, ни скрипа, ни шепота, кроме его голоса.
– За границей не поверили в советский каучук. «Я не верю, что Советскому Союзу удалось получить синтетический каучук. Это сплошной вымысел. Мой собственный опыт и опыт других показывает, что вряд ли процесс синтеза вообще когда-либо увенчается успехом». Это писал Эдиссон, знаменитый американский изобретатель. Но мы получили каучук. Не из гевеи, а из спирта. Ярославский завод уже дает продукцию. И другие строятся. В том числе – наш.
Наш. Странно отозвалось Дашино сердце на это коротенькое слово: радостью и сожалением. Наш завод. Каким он будет, когда его достроят? Я не увижу...
Лекция кончилась, стали задавать вопросы. Какой он, каучук? И как его будут делать из спирта? Какой-то озорник спросил, нельзя ли есть каучук вместо спирта, опьянеешь с него или нет. Многие повскакали с мест, плотным кольцом стиснулись вокруг лектора. Дора и Ольга вместо выбирались из узкого прохода между скамейками.
– И ты тут? – удивилась Дора, заметив Дашу. – Понравилась лекция?
– Мне бы переночевать. Ушла я от Маруськи...
– Идем, – сказала Дора. – Топчан свободный есть. Вчера сбежала одна...
Темно. Холодно. Под одеялами, накинув еще сверху полушубки либо ватники, скорчились девчата. Спать надо. Устали. И завтра день не легче. И есть во сне не хочется.
Но – не спится. Прорезают ночную тишь неугомонные шепотки. Кто о чем...
– ...У меня брата кулаки убили. Комсомолец был... В газету написал про их хитрости. Они и убили. Один кулак в сельсовете работал. Арестовали их всех.
– ...Ну и вот... И приходит этот самый барин к ней в тюрьму. «Прости, говорит, меня, Катюша. Я вину свою понимаю и согласен на тебе жениться».
И вдруг громко, на всю огромную спальню, звучит голос Глашки Моховой:
– Уеду я... Не хочу я больше! Уеду...
Гаснут, сбитые этим возгласом, мирные шепотки. Тревожная тишина.
– Куда уедешь? – Это спросила Дора. Бригадирша. Комсомолка.
– В деревню ворочусь – куда же еще. Не бездомная, мать-отец в деревне живут. Корова своя – и молоко, и сметана, чего хочешь. Хлеба, пишут, получили полный амбар.
– Кто бежит со стройки, тот дезертир, – сказала Дора. – Для таких дороже своего пуза на всей земле ничего нету.
– И пузо своего просит.
– Я бы, девки, печеной картошки сейчас поела. Мы дома часто в русской печке картошку пекли, – сказала рябая Марфа.
– А мне на стройке глянется. Полюбила я стройку...
– Полюбила кобыла хомут.
– Завод надо поднимать, – сказала Дора.
– Черта ли мне с твоего завода, – крикнула Глашка. – На что он мне, завод? Социализм строим, чтоб люди хорошо жили, а ходим в драных ботинках, деревянными подошвами грохаем. Не хочу больше! Дождусь утра да за расчетом пойду. Кто еще пойдет за расчетом, девки?
Чуть не сказала Даша: «Я пойду». Хотела сказать, да удержалась. На что всем объявлять? Приехала тихо и уеду без шума.
– Я бы тоже в деревню уехала, кабы у меня отец-мать были, да изба, да корова, – сказала Анна Прокудина.
Об Анне Прокудиной Маруська говорила: «Кикимора– кикиморой, а какого парня завлекла». Анна была среднего роста, нос – уточкой, жиденькие волосы зачесаны назад и забраны под гребенку. Но не одним красавицам выпадает счастье. Ахмет Садыков ходил за Анной, как привязанный, все ордера на материю и на ботинки, полученные за ударную работу, дарил ей, с ней одной танцевал на праздничных вечерах.
– Ты, Дора, – комсомолка, – продолжала Анна, – тебе твой комсомол и стройка эта отца-матери дороже. Тебе от этого легче. А я вот не комсомолка.
– Ты что же думаешь, – перебила Дора, – если я комсомолка, так меня мороз меньше твоего пробирает? Или мне постираться не надо? Или той же печеной картошки не хочется? Все мне надо, что другим, может, еще больше надо. И про любовь я мечтаю. И платье нарядное мне мерещится. Но я приехала завод строить. Завод, слышите? Он стране нужен. Народу нужен. Мне, тебе, Глафире!.. И я все свои другие задумки до времени в сундук упрячу. В бараке буду жить без жалобы. Щи пустые выхлебаю без попрека. Про дом родной забуду. Сердце девичье на замок запру. Мне ваше хныканье слушать тошно.
– Кабы рыба могла одной водой жить – не хватала бы крючок, – сказала Марфа.
И опять голос Доры.
– Вы погодите... Завод построим – увидите, как заживем. И заработки будут. И квартиры. Все будет.
Вдруг в коридоре послышался какой-то шум, и молодой мужской голос зычно прокричал:
– На штурм! На штурм! Комсомольцы, вставайте на штурм.
Спор сразу оборвался.
Парень пришел не один – двое, нет, кажется, трое топали по коридору тяжелыми сапогами, и то по очереди, то вместе, наперебой кричали:
– На штурм, комсомольцы! На штурм! На штурм!
Один голос Даша узнала – Наум Нечаев. Наум бодро, весело кричал про штурм, будто невесть какое удовольствие копать ночью мерзлую землю. Но не для удовольствия звал. Не хватало на стройке людей. Не успевали в срок выполнить земляные работы. И не первый раз выручала в трудный час молодежь.
Девчата медлили покидать постели, вздыхали, ворчали.
– Опять штурм...
– Только угрелись...
– И валенки не просохли...
– Мало дня – и ночью покоя нет...
Дора первая встала, зажгла лампу и молча принялась одеваться. Алена поднялась. Восьмилетняя сестренка ее, спавшая с ней на одном топчане, привстала, опираясь на руки.
– И я с тобой!
– Спи! – прикрикнула Алена.
– Я уж наспалась.
– Спи, говорю! Нельзя маленьким ночами ходить. Заберут в детдом!
Довод подействовал – Фрося нырнула под одеяло.
– Марфа, ты же комсомолка, – увещевала Дора, – чего ж не встаешь?
– Если я комсомолка, так я спать не хочу? Не человек я, что ли? Спать я хочу, слышишь, спать! Не пойду...
– Ты не комсомолка, – сказала Дора, – ты – шкура, – а комсомольский билет у тебя не по праву. Ладно, спи.
Но Марфа резко повернулась на постели, топчан заскрипел. Марфа одевалась и тихо плакала, почти без всхлипов, слезы текли по щекам, и она утирала их тыльной стороной ладони. Дора заметила, что она плачет.
– Марфа, прости меня. Может, это я – не настоящая комсомолка. Не плачь, а, Марфа?
Марфа не отвечала. В комнате стало тихо. Одни девчата молча одевались, другие лежали под одеялами, многие – укрывшись с головой. Идти ночью работать не хотелось. А не идти – комсомолка ли ты, нет ли, а совестно.
Дора уже совсем была готова, поджидала других девчат, которые замешкались. Человек десять готовились идти. Даша лежала на топчане, укрывшись до шеи. Она не прикидывалась, как другие, спящей, и лицо не хоронила под одеялом.
– Дарья, не спишь ведь, – сказала Дора. – Пойдем с нами.
И тут на короткий миг пожалела Даша, что не отвернулась вовремя к стенке. Представила себе холод на улице, лопату в руках, мерзлую тяжелую землю – и пожалела. Можно было, конечно, сказать: нет, не пойду. Или промолчать, а с места не тронуться. Но Дора все смотрела на Дашу укоряющим взглядом, ждала. Даша откинула одеяло и поднялась.
От снега отражался звездный свет, и ясно виднелась между сугробами дорога. Девчата шли по этой дороге кучкой, до самых глаз укрыв платками лица, сгорбившись и дрожа от холода. Мороз на улице был невелик, но вышли из стылого барака, и одежда пропиталась сыростью. С каждым шагом, однако, становилось теплее, а когда дошли до стройконторы – и вовсе уж стало тепло, так что распрямились и платки расправили, открыв лица. Как тут было кутаться? Холод ни холод, а перед парнями никто не станет показывать старушечью зябкость.
Народу из всех бараков сошлось много, у конторы было шумно, говор, смех, звяканье лопат будоражили зимнюю ночь.
– Давай, девчата, кому лежа работать, кому стоя дремать, – крикнула Дора.
У крыльца высокой горой были навалены лопаты, отдельно стояли ломы и кайлы. Сверху земля мерзлая, одной лопатой не пробьешь. Но ломы с кайлами брали парни, а девушки – только лопаты, так уж было заведено, и Даша в свой черед подошла и, порывшись, выбрала себе лопату с удобным, нетяжелым и гладким черенком.
– Грянем нашу ударную, Дора? – сказал Наум, пристраиваясь рядом с ней в первый ряд колонны.
Даешь соревнование,
Даешь ударный план!
Мы – армия ударников,
Рабочих и крестьян!
Даша в лад с другими шагала в колонне, несла лопату на плече и пела песню, и новое, счастливое чувство общности с людьми захватило ее. Никогда не думала и не поверила б, сама не испытав, как славно, одолев лень и страх перед ночной нелегкой работой, идти и петь, словно не землю рыть, а праздновать свой, другим неизвестный праздник направляется молодежь.
Недальняя дорога – две песни и спели всего. А когда пришли на стройку – тут стало не до песен.
Не с пулеметами, не с ружьями, не с саблями, как отцы на гражданской, шли они на штурм. С лопатами. С кайлами.
Не города брали, не крепости, не высоты. Котлован рыли под фундамент будущего цеха.
Уже не докинешь землю с лопаты за стенку котлована. Уступами штурмуют земную целину, и котлован, черный в снежном поле, скупо освещенный электрическими лампочками на столбах-времянках, похож на парадную, уходящую в подземное царство лестницу с широкими ступенями. С самой глубокой части котлована кидают парни и девчата землю на первую ступень, там стоят другие – перекидывают на следующую, выше, выше, и так, пройдя через несколько лопат, оказывается талая, из глубины, земля на затоптанном снежном поле. Утром прислуг грабари и увезут ее прочь.








