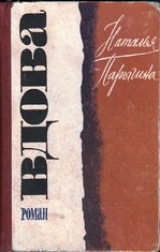
Текст книги "Вдова"
Автор книги: Наталья Парыгина
сообщить о нарушении
Текущая страница: 23 (всего у книги 29 страниц)
– Скажи, ты ли это... Ты ли убил или чужой грех на себя принял? Я ночи не спала, сердцем извелась, покою мне нет...
– Ты ведь была на суде, – грубо перебил Митя.
– Не судья – мать тебя спрашивает! – распрямившись, властно проговорила Дарья.
– Что на суде сказал, то и тебе скажу.
– Ты?!
Митя молчал.
В обратный путь Дарья ехала усталая и умиротворенная. Встречи с Митей прошли не так, как ей представлялось, сдержаннее, холоднее, и она все-таки не узнала правды о Митиной вине. Но все это было теперь не главное. А главное, отчего светлело у Дарьи на душе и навертывались на глаза счастливые слезы, – главное свершилось в тот короткий миг, когда Митя припал головой к ее груди и когда сжала она руками его худые костистые плечи. Он был ее сын, и она была его мать, существовала между ними святая кровная связь, и ни тысячи километров, разделявшие их, ни заборы с колючей проволокой и сторожевыми вышками, ни Хмель, ни те парни, с которыми Митя против воли тайно от начальства играл в карты – ничто и никто не мог порушить той невидимой, до смерти скрепившей их связи. С непонятной постороннему прозорливостью и уверенностью поняла Дарья, что Митя ее – не потерянный человек, в глубине печальных его глаз прочла тоску о честной человеческой жизни.
Поезд ровно, бесстрастно стучал колесами, какой-то завод выплескивал в небо расплывающийся сизый столб дыма, и только проехали город, как опять потянулись поля, заботливо укрытые белым, бескрайно огромным пушистым одеялом. В попутчики Дарье попалась молодежь – с практики на Урал возвращались студенты. Они шумно играли в карты, хохотали, а то, вынув из чехла гитару, увлеченно пели странные песни.
Зашел я в чудный кабачок. Кабачок!
Вино там стоит пятачок. Пятачок!
Еще в колонии, прощаясь с Митей, Дарья сказала ему, что на обратном пути навестит Варину могилку.
В Лужки она приехала поздно вечером. Ночь провела на вокзале, поспала сидя, притулившись в углу дивана. Утром, выпив кружку кипятку, вышла на улицу. Еще не совсем рассветало, и выпавший за ночь свежий снег казался сиреневым. Постояв минутку в раздумье, Дарья решила не дожидаться дня, а потихоньку пошла на кладбище.
Дарья шла по крайней улице поселка, слева виднелись дома и огороды, а справа просторно раскинулось поле, и на склоне невысокого холма в притуманенном утреннем свете проступали кресты и памятники кладбища.
Вдоль поселка тянулась припорошенная снегом дорога, но у последнего дома она оборвалась. На кладбище дороги не было. Или была, но сейчас, после снегопада, не знала Дарья, где ее искать. Дарья шагнула прямо в снег.
Снег был слежавшийся, плотный, и валенки утопали в нем не больше, чем до половины. Дарья брела, тяжело одолевая каждый шаг, ощущая под сердцем знакомые, робкие, и словно бы протестующие толчки. По краю неба широко расплескалось полымя утренней зари, и макушка солнца уже показалась над белым полем.
Стоя среди крестов и оградок над занесенными снегом могилами, Дарья одну за другой перебирала взглядом розовые от утреннего света березы, отыскивая ту, с изогнутым стволом. И не могла найти Варину березу. У одной увидала похожий излом и пригляделась внимательнее. Излом шел у самой земли, а у той приходился почти на метр выше. Да и сама березка показалась Дарье чересчур крепкой и высокой, а тогда ствол можно было обхватить пальцами. По месту выходило – вроде та самая, почти на вершине бугра. «Да ведь снег! – подумала Дарья. – Снегу навалило почти до самого изгиба. А ствол высок и крепок оттого, что выросла береза. Та самая! Варина...»
До Вариной березы оставалось метров десять, и Дарья заспешила, оставляя позади себя лохматую борозду. И вдруг споткнулась обо что-то, наверное, о могильный бугор либо о скрытый под снегом памятник, и со всего маху тяжело рухнула в сугроб.
Она не почувствовала боли, только внизу живота падение отдалось резким ударом. Неуклюже и осторожно Дарья поднялась и пошла дальше, теперь уже медленнее, с опаской нащупывая ногами дорогу и забыв стряхнуть с пальто снег. Она благополучно добралась до березы, скинула варежки, ухватилась голыми руками за холодный ствол.
– Варенька... Деточка моя...
Глухая тишина стояла вокруг, холодной белизной сияли снега на кладбище и за кладбищем в полях, а в поселке над крышами домов серыми кольчатыми столбами поднимался дым. Дарья посмотрела себе под ноги, туда, где под снегом пряталась Варина могилка. Даже маленьким бугорком не выступала она, все было ровно и бело. Только береза с искривленным стволом связывала Дарью с ее мертвой девочкой, и Дарья все держалась за ствол, прижавшись к нему щекой.
Она уже начала дрогнуть, и голые руки покраснели от холода. Пора было уходить. Дарья опустилась на колени чтобы поклониться покойнице, и вдруг острая, нестерпимая боль резанула ее по животу, словно неведомый хищник впился в него когтями. Но острее боли пронизал страх. «Господи, на снегу рожу, сгублю дите...»
Дарья замерла, боясь шевельнуться, боясь глубоко вздохнуть, чтобы не вспугнуть дикого зверя, когтями рванувшего ее живот. Зверь затаился. Выждав некоторое время, Дарья так медленно, как только могла, попыталась подняться. Боль возобновилась, но не такая сильная, можно было терпеть. Ухватившись за березу, Дарья разогнулась.
«Зря с поезда сошла, – пронеслось в голове. – Да ведь в поезде бы началось – того хуже. Нет, не хуже... Там люди, помогли бы... Да и успела бы я. Это оттого, что упала...»
Мысли эти пронеслись и сгинули, будто ветер умчал их, осталась одна: как бы скорей до больницы. И скорей надо и шага резкого сделать нельзя. Одно ясно: ждать некогда. Надо идти.
Дарья двинулась в обратный путь, стараясь тверже ставить ноги в снег, чтобы не поскользнуться, и придерживая голыми руками живот. Она забыла надеть варежки, они торчали из кармана, а потом, когда руки совсем закоченели, и Дарья вспомнила о варежках, их уже не было – потеряла где-то в пути. «Что ж я такая невезучая», – с тоской и обидой подумала она. Ей захотелось плакать, но не позволила себе. Опять возобновилась утихшая было резь, больно тянуло в животе и отдавало в поясницу.
Остановившись, чтобы переждать схватки, Дарья оглянулась. Она прошла почти половину пути. Солнце сияло уже в полную силу, и заиндевевшие ветви Вариной березы сверкали яркими блестками. «Неужто Варе одной лежать наскучило, требует себе нерожденного моего младенца? – суеверно подумала Дарья. – Не надо мне было выходить на этой станции, ради мертвой живым рисковать».
Каждый раз, когда поднималась в животе боль, Дарья замирала от страха, что вплотную начинаются роды. Упадет на снег и родит ребеночка, и ни одной живой души нету, чтоб спасти его от мороза. Но еще выходила отсрочка, и Дарья снова шла, ослабевшая и упрямая, вся охваченная одним желанием, вся подчиненная одной цели – добраться до поселка, хоть до крайнего дома. Только бы до крайнего дома. Только бы до людей...
Ближний к кладбищу деревянный домик был невелик, двумя небольшими окошками глядел в улицу, отворенная калитка, пьяно скособочившись, висела на одной петле. Эта калитка влекла Дарью к себе с такой притягательной силой, словно, войдя в нее, Дарья оставит позади все беды и тревоги. И она шла и шла, и путь, оттого, что шла медленно, казался ей намного длиннее, чем был.
Оставалось уже совсем немного, Дарья благополучно спустилась с пригорка, теперь по ровному пути метров триста, и начнется улица. Двое ребятишек с салазками вышли на улицу, и она совсем ободрилась – хоть маленькие, да живые люди. Но тут ее вдруг скрутила такая страшная боль, какой, кажется, никогда не знавала в жизни. Дарья вскрикнула и, почти теряя сознание, упала в снег. Она успела заметить, что ребятишки испуганно метнулись во двор, и закричала еще отчаяннее, с пронзительными звериными взвизгами. И, только увидев, как из того двора, в котором скрылись ребятишки, выбежала женщина в расстегнутом полушубке и без платка, Дарья умолкла. Не в силах подняться, она на четвереньках поползла по снегу навстречу женщине. Навстречу своему спасению.
ЧАСТЬ ПЯТАЯ
ДЕТИ
1
Снег валил, не переставая, второй день. Стояла оттепель, и белые хлопья бесчисленными мотыльками кружились в воздухе, садились на платки и шапки, на плечи, на рукава, пуховыми накидками устилали крыши и, словно поддразнивая недовольных дворников, мигом покрывали свежим слоем разметенные дворы и улицы. Слегка вьюжило. Снежинки вились вокруг Дарьи в фантастической пляске, невесомые и чистые, и дома смутно виднелись сквозь белую пелену.
Промелькнула в памяти давняя метельная ночь, когда в первый раз приехал в Серебровск Василий. Поспорила с ним Дарья в избушке Ксении, а потом не спала, слушала в тревоге, как воет в трубе ветер, как стучат в стекла снежинки, и вдруг вскочила и помчалась, наспех одевшись, с голыми коленками, через ночь и вьюгу искать его.
Те снежинки, что кружились над Серебровском тогда, двадцать лет назад, давно растаяли, утекли в грязных ручьях, с глиной смешались в непролазных лужах. А после, пригревшись под солнцем, легким паром поднялись в воздух, стали белыми облаками и снова пали на землю живительными дождевыми каплями и чистыми снежинками. Смертью кончается жизнь, и из смерти рождается бессмертие. Великая мудрость царит в природе, и не в том ли смысл человеческой жизни, чтобы понять эту мудрость, уберечь и повторить?
В светлом настроении поднималась Дарья по лестнице. То ли от снегу, от воспоминаний о Василии сделалось ясно на сердце, то ли от малой житейской удачи: два часа простояв в очереди, купила Дарья детский шерстяной костюмчик. Впрочем, в последние годы, после рождения Гали, спокойнее и мягче стала Дарья, и хорошее настроение было у нее не в редкость. Особенно радовалась она, когда удавалось что-то приятное сделать для детей.
Постучав в дверь, Дарья тотчас услышала быстрый топот детских ножонок и живо представила там, за дверью свою малышку, неуклюжую, чуть-чуть кривоногую, с льняными вьющимися волосиками до плеч и круглыми черными глазенками. Потом застучали Анютины каблучки – Анюта уже носила туфли на высоких каблуках, – звякнул ключ, и дверь отворилась!
– Мама плисла! Мама плисла! – заверещала Галя.
– А чего я купила моей маленькой, – нараспев проговорила Дарья, – а чего я купила моей хорошенькой! – Она поспешно сбросила пальто и платок, взяла Галю за руку. – Идем-ка примерим.
Анюта хмуро следила за тем, как мать натягивает на Галю шерстяные рейтузы и свитерок. Костюмчик оказался чуть великоват, Дарья нарочно взяла на вырост.
– Хорош, а? – спросила Дарья, обернувшись к старшей дочери.
– Хорош, – угрюмо согласилась Анюта. – Сколько стоит?
– Сколько стоит, столько и заплачено, чего вспоминать, – сказала Дарья.
– Ты готова на нее всю зарплату убить, – с обидой проговорила Анюта. – Я в ее годы босиком бегала, Митины пальтишки донашивала.
– Так ведь годы-то какие были, Нюра, – возразила Дарья. – И ботинок у тебя не было, и хлеба ты недосыта ела, и молоко редко видела. Да разве я в том виновата? Жизнь виновата. Война.
– Я знаю, что война. А теперь? Теперь ты почему из нее барыню делаешь? Все – ей! Я в линялых платьях в техникум хожу, а ей – шерстяные костюмы. Сама кое-как одеваешься, жалеешь деньги, а она ни в чем отказа не знает!
Голос у Анюты напряженно звенел, глаза блестели слезами. А Галя прыгала, наслаждаясь своей обновкой, не обращая внимания на Анютин горячий монолог, картавя, пела подхваченную на улице частушку:
Ой, девки, беда,
Балалайка худа!
Надо денег накопить —
Балалаецку купить.
– Ну, вот что, Нюра, – примирительно проговорила Дарья. – Ты стипендию получаешь – и трать ее на себя. Не давай мне ни копейки. Жить будем, как жили, на мою зарплату, а из стипендии покупай себе что захочешь.
Анютины щеки подернул румянец, слезинки сверкнули в уголках глаз.
Не было у Дарьи с Анютой мира. То к Мите ревновала, теперь к Гале ревнует. Да и из-за техникума сколько спорили...
Не хотела Дарья, чтоб поступала дочь в техникум. Давно, когда Нюрка еще нос подолом утирала, мечтала мать, что станет она врачом. Уговаривала после десятилетки: поезжай, поступай в медицинский. Нет, свое заладила: в химтехникум пойду. В институте пять лет учиться, в техникуме два с половиной. Велика ль в годах разница? А в звании велика. То техником станет, а то б – врачом, либо уж инженером, если медицина не мила.
Если уж все вспоминать, то не надо бы Дарье сердиться на Анюту. Жалея мать, осталась она в Серебровске. «Митьке на посылки тянешься, Галька ни в чем отказу не знает да еще мне станешь помогать... Вконец вымотаешься! Обойдусь без институтов...»
Осталась, не поехала. Дома старалась, где могла, Дарью заменить. За Галей смотрела. Но иной раз вдруг прорывалась у нее, как сегодня, обида на мать, и обоим после таких стычек было нехорошо, тягостно.
– Поди сюда, снимем обнову, – велела Дарья малышке.
– Нет! – крикнула Галя. – Не дам.
И попятилась от матери в дальний угол. Дарья встала со стула, но едва успела сделать первый шаг, как Галя подняла отчаянный рев. За этим истошным ревом Дарья не сразу услышала стук. Услышав, прикрикнула на Галю:
– Замолчи! Вон баба-яга пришла за тобой.
Галя сразу умолкла, обхватила материны колени:
– Не отклывай! Не пускай!
– Ладно, – сказала Дарья, – ты пока молчи, а я погляжу. Может, и не баба-яга.
Галя не пошла за ней, а осторожно выглядывала из-за печи, пока Дарья открывала дверь. Оказалось – не баба– яга, можно было опять реветь, но уже не хотелось.
Пришла Люба Астахова.
Анюта, поздоровавшись с гостьей, скрылась за переборкой.
Когда дочь поступила в техникум, Дарья решила перегородить комнату – благо было два окна. Нашла плотника, который отделил от общей комнаты узенькую каморку. Железная койка, стол, этажерка да табуретка с трудом разместились в комнатушке, но Анюта была довольна.
Переборка не доходила до потолка, и по вечерам, когда Дарья с малышкой спали, долго светилась под потолком неяркая полоска от настольной лампы, что горела у Анюты на столе.
– Что Нюра-то хмурая? – спросила Люба.
– Поспорили мы...
– Уж не знаю, из-за чего с Нюрой спорить, – сказала Люба. – Самая твоя опора.
– Опора! – ворчливо повторила Дарья. – Зазналась больно.
– Нюра-то? Брось ты. Сама, поди-ка, и виновата.
– Может, и сама, – неохотно согласилась Дарья. – А скорей всего – нужда виновата. Купила я Гале обнову, а Нюре досадно, что не ей... На одну зарплату трое живем, еще Мите посылаю. Нюра первый год стипендию получает, да и велика ли она, стипендия...
– У Нюры детство горькое, ее и побаловать бы, коли рубль лишний завелся. А этой что, в мирные дни растет. Жизнь с каждым годом легче. И товаров больше стало, и цены снижают...
– Не любите вы Галю, – горячо, обиженно заговорила Дарья. – И Нюрка не любит, и ты – неведомо за что. Что она вам худого сделала? Дитё несмышленое! Безотцовщиной растет, так не она в том виновата. Я виновата! Меня и казни.
Дарья умолкла. Галя убежала к сестре, в Анютиной комнатушке было тихо. За окном все падал и падал снег.
– Нехорошая я стала, Даша. Завидую я тебе, – грустно проговорила Люба.
– Позавидовала кошка собачьему житью, – усмехнулась Дарья.
– Жизнь у тебя, – тихо продолжала Люба. – Муж тебя любил. Детей вырастила. В войну было о ком тревожиться. После войны было о ком горевать...
– Горю-то кто ж завидует? – спросила Дарья, удивленно вглядываясь в густеющих сумерках в лицо Любы. Молодым оно казалось сейчас, молодым и красивым, полумрак сгладил морщинки, скрыл болезненную припухлость вокруг глаз.
– Видишь – завидую вот. Горе к тебе оттого пришло, что счастье знала. А у меня – ни счастья, ни горя. Пустота у меня в сердце, Даша. Нежность моя нерастраченная даром вянет, как забытая картошка в подвале. Ты вон и без мужа осталась – не растерялась. Взяла да девочку родила.. Ни молвы не забоялась, ни хлопот. Нянчишь ее, холишь, любишь. А я – одна. Уж как я ребеночка хотела! Сколько мне еще годов судьбой отпущено – половину бы, кажется, отдала, чтоб была у меня такая косолапая, как твоя Галка.
– Да дело-то нехитрое, – снисходительно улыбнулась Дарья. – Замуж выйти сейчас непросто, а на даровую любовь сколько хошь охотников найдется.
– Тебе – нехитрое, – встав из-за стола, проговорила Люба. – Ты замужем была, тебе просто. А мне больно девичесть мою первому встречному под ноги кинуть.
Она остановилась у двери Анютиной комнаты, поманила Дарью:
– Ты погляди.
Анюта стояла, склонившись над чертежной доской, настольная лампа из-под матового абажура освещала щеку девушки, маленькое ухо, выглядывающее из-под пушистых волос. Галя в своем нарядном костюмчике умостилась на стул коленками. На столе рядом с чертежной доской лежал листок, вырванный из тетради, треугольник и карандаш были в руках у Гали, и она с той же сосредоточенностью, что и сестра, шуршала карандашом по бумаге.
Дарья долго стояла, глядя на дочерей. «А может, – подумала, – я и впрямь счастливая?»
Чем старше становилась Дарья, тем меньше она думала и заботилась о себе, связывая все, чем богата жизнь, не с собою лично, а с детьми. Их боль была для нее больнее своей боли, их радость острее своей радости. Дарьина душа словно постепенно растворялась в детях, вознаграждая ее за щедрость ни с чем не сравнимым счастьем вновь пробудившейся любви к ним.
Изнутри, когда снята крышка, аппарат напоминает огромную бочку, положенную набок, с двумя блестящими полосками рельсов и белыми, густо запудренными стенками. Меловая пыль, которой посыпают листы, прежде чем разложить на них пасту, забелила не только стенки аппарата, она напрочно въелась в пол, в стены, в балки перекрытия, от нее кругом в цехе больничная белизна и в самом воздухе ощущается привкус мела.
Дарья привыкла к своему белому цеху, к его ночной пустынности, к натужному гудению газодувок и запаху дивинила. Только многоглазые приборные щиты, завершающие сложную цепь автоматики, были здесь новоселами.
Дарья быстро освоилась с приборами – помог долгий заводской опыт, и не только освоилась, но полюбила эти круглые и квадратные коробки со стрелками, цифрами, самописцами, доверительно, как бы по секрету, рассказывающие ей и другим, посвященным о тайнах химического процесса, что творится в мощных аппаратах. А посторонний человек только и увидит, что зеленые и красные глазки да зубчатые линии на диаграммах. Пришла как-то корреспондентка к Первомайскому празднику заметку писать – стояла перед приборным щитом, как перед дивом, пыталась расспрашивать: «А это что? А это к чему?» Потом рассмеялась: «Ничего я не поняла...»
Где ж сразу поймешь... Химия – наука мудреная. Годы требуются, чтобы по-настоящему в тонкости ее вникнуть. В ту пору, когда на строительстве лупила кувалдой по клиньям, отбивая в котловане комья промерзлой земли, думать не думала Дарья, что запросто научится разбираться в хитрых формулах и реакциях. Автоматика в управлении процессом не только производство, но и работниц подняла на новую ступень. Приборы словно бы прибавили Дарье ума и уверенности в работе. Не вслепую, не по догадкам – по точным цифрам определяла каждый шаг.
Легче, пожалуй, не стало. Если с послевоенными годами сравнивать – одна за пятерых теперь управляется Дарья. Тогда, после восстановления завода, в цехе было людно, сделав несколько шагов к соседке, удавалось поговорить, и женские голоса весело вплетались в неумолчный шум газодувок. А пять аппаратов, хоть и при автоматике, внимания требуют большого, да и не с кем вольным словом перекинуться – вон на какой пролет одна хозяйка.
По своему цеху видела Дарья, как далеко от прежнего своего облика ушел завод. А через несколько лет и вовсе не узнаешь гиганта первой пятилетки. Построют новые цеха, и все там будет иное. Каучук – лучшей марки, техпроцесс – совершенней нынешнего, автоматика – мудреней, чем здесь, и люди, которые станут там работать, тоже будут другие, молодые да образованные. Вот и Нюра моя... Поди-ка, и ей там работать доведется.
Дарья сидела за столиком перед приборным щитом, и четкие линии диаграмм и живые подрагивающие стрелки, сообщая о правильном течении процесса в аппаратах, разрешили ей передышку. Но были в цехе и ручные операции, загрузка аппаратов и выгрузка готового каучука, и требовали они от аппаратчицы внимания, а иной раз и нервов.
Растворив огромные двери, больше похожие на ворота, болтировщики вкатили тележку с круглой, по форме слона, решеткой, на которой лежали железные листы. Дарья, торопливо обежав взглядом приборы на щите, направилась к третьему аппарату, который предстояло загружать. И заметила непорядок: на нескольких листах, уложенных в промежуточные ряды, налипли желтые бугорки неочищенного каучука. Она выдернула, скребнув о железный каркас тележки, один грязный лист, протянула бригадиру.
– Не пойдет.
– Брось ты, Дарья, придираться, – лениво, с брезгливой миной проговорил бригадир.
– Не пойдет, – настойчиво и строго повторила Дарья.
С другой стороны цеха пастоукладчицы уже везли на тележке пасту.
– Погодите, – остановила их Дарья, – не укладывайте. Начальника смены позову.
Бригадир болтировщиков преградил Дарье путь.
– Ладно. Не ходи. Почистим...
Он кивнул товарищам, чтоб принимались за работу, и первым снял с тележки лист с остатками прилипшего к нему каучука. Дарья заспешила к работающим аппаратам: пора было записать в график температуру и давление газа.
Ночные часы куда длиннее дневных. Дарья утомилась, настырный воющий гул газодувок убаюкивал ее, голова сделалась тяжелой, и приходилось непрерывным усилием над собой отгонять сон. Но стрелка на больших круглых часах в пролете цеха уже обещала близкий конец смены. «Приду – есть не стану, – мечтательно подумала Дарья, – сразу в постель брякнусь».
Сменять ее около полуночи пришла Алена. Лицо Алены в обрамлении пухового платка показалось Дарье необычно маленьким и бледным, большие, с синими полукружьями глаза смотрели вяло.
– Неможется тебе? – участливо спросила Дарья.
– Не знаю. Так что-то... Ни больна, ни здорова...
Алена сняла пальто, платок стянула с головы, набросила на плечи. Волосы ее огромным узлом были уложены на затылке, воротничок белой кофточки охватывал тонкую шею. В одиночестве и нездоровье Алена по-прежнему оставалась аккуратной.
Дарья сдала смену, оделась, пошла. Она была уже у выхода, когда Алена догнала ее, тронула за руку.
– Постой, Даша... Или нет, выйдем.
Они вышли на улицу, закрыв за собою дверь. Гул газодувок сюда долетал глухо, и можно было разговаривать, не напрягая голоса и слуха.
– Анюту твою сейчас встретила, – сказала Алена. – Под руку с парнем идет. Я своего Саню в армию проводила, твоя деваха с парнем гуляет. Выросли...
– С каким же это парнем? – удивилась и расстроилась Дарья. – Не замечала я .
– И мне незнакомый, – сказала Алена. – А рослый парень, красивый...
Дарья рассердилась на дочь. С кавалером гуляет, а мне – ни слова, ни полслова не скажет. Гальку одну бросила, ушла из дому среди ночи...
Завод покойно глядел оранжевыми окнами цехов в заснеженный двор. Темные фигуры рабочих, окончивших смену и направляющихся к проходной, смутно виднелись во мгле, слышался скрип шагов на снегу, глухо долетали голоса. Огромные цистерны мощными силуэтами вырисовывались в ночи, высокая градирня чернела таинственно и мрачно. Над трубами электростанции весело плясали в фиолетовом небе алые искры, прерывистый гул турбин разносился окрест.
Еще издали увидала Дарья в Анютином окне свет. Анюта не спала. Каждый день ложится за полночь. То над курсовым сидит, то свиданки устраивает.
Дарья одним махом одолела лестницу, на ходу доставая из кармана ключ. Рванула дверь и сразу увидала дочь.
Анюта стояла в дверях комнатки – услышав стук ключа в скважине, вышла встретить мать. Она была в незатейливом штапельном платьишке и в старых туфлях на босу ногу; пышные, немного вьющиеся, как у Дарьи, волосы, растрепались и облаком пушились надо лбом. Светлая улыбка тронула полные губы Анюты, а большие карие глаза ясно, открыто глядели на мать, и было в них что-то особенное, какая-то взрослая глубокая радость и теплота.
– Нюрка...
Дарья произнесла одно это слово и растерянно осеклась, замолчала, смутно поняв, что нельзя говорить с Анютой так, как собиралась она говорить. В первый раз почувствовала Дарья, что выросла Анюта, не девчонка, а девушка стояла сейчас перед ней, и была у этой девушки своя сложная внутренняя жизнь, в которую не дозволено грубо вторгаться далее матери.
– Что не спишь до сих пор? – спросила Дарья, расстегивая пальто.
– Курсовой не дает.
«Курсовой! – насмешливо подумала Дарья. – Знаю я, какой у тебя курсовой...»
– Пойду чай поставлю.
Анюта направилась к табурету, на котором стояла электроплитка, и Дарья проводила ее пристальным взглядом, словно отыскивая в ее фигуре какие-то новые приметы. Худенькая фигурка дочери показалась ей привычной, прежней, но в походке уловила Дарья какую-то особенную легкость, словно Анюте хотелось бежать или даже лететь на невидимых крыльях, и она лишь усилием воли заставляла себя идти играющим нетерпеливым шагом.
Дарья подошла к Галиной кроватке, на которой когда-то спал Митя. Девочка лежала на спине, закинув на подушку руки, рубашонка задралась до пояса, скомканное одеяло горбилось в ногах. Дарья одернула рубашку, поправила одеяло.
– Что ж не укрыла ее? – тихо спросила она, услыхав шаги Анюты.
– Я укрывала. Она раскидывается. Жарко... От Мити письмо.
– Распечатала?
– Распечатала. Ничего, все благополучно. Там оно, у меня.
Дарья прошла в Анютину клетушку. Курсовой проект был здесь хозяином и властелином. Лист ватмана с неоконченным чертежом белел на чертежной доске. Конспекты, учебники, справочники громоздились на столе и на подоконнике. Черная коробка готовальни пристроилась на самом краешке стола. Дарья отодвинула от края готовальню, чтоб не упала, и тут, возле чертежной доски, увидала голубой конверт с аккуратно срезанной кромкой.
Прежде чем вынуть письмо, Дарья по привычке внимательно оглядела конверт. Крупным невыработанным почерком накарябал Митя адрес, а внизу, под чертой, стояли цифры, обозначающие номер почтового ящика, как, бывало, на фронтовых треугольниках Василия. Этот конверт с цифрами внизу всегда вызывал в Дарье чувство горечи. Отец на фронте воевал, а этот вон куда угодил...
Письма Мити были похожи одно на другое, как похожи были и проходившие от письма до письма месяцы его жизни. «Живу все так же, обо мне не думайте. Работаю, а по вечерам читаю книги, есть у нас клуб, и два раза в месяц показывают кино...» Начало этого письма было такое же, как у других. Но на обратной стороне листка Митя сообщал, что хорошо работает и что подал прошение о помиловании, к которому начальник колонии обещал приложить положительную характеристику. У Дарьи туманом застлало глаза. Господи, хоть бы помиловали!
Пять лет минуло с тех пор, как Митю под конвоем увезли из Серебровска. Дарье казалось, что время летит стремительно, вон Галя-то растет – что тесто на свежих дрожжах, и Нюра – гляди – уж скоро техникум кончит. Но когда она думала о Мите, о его тесном, скупом на радости, суровом обиталище, время словно останавливалось, и каждый год представлялся бесконечным.
– Мама, чай вскипел, – сказала Анюта.
Дарья прямо глянула дочери в глаза, спросила просто и устало:
–С кем это ты сегодня по городу гуляла?
Анюта опустила длинные ресницы.
– С Костей Вяткиным. Мы с ним в одной группе учимся.
И опять почувствовала Дарья в дочери что-то новое, что-то такое, чего нет и не было в ней самой. Лицом похожа была Анюта на мать, а душою и мыслями – иная, иным временем взращенная, иной жизнью. Не повторением Дарьи была она, а словно бы продолжением, со своим характером, своими взглядами и своей неведомой пока судьбой.
***
Дарья вышла с завода усталая и сосредоточенная. В детсад за Галей было еще рано – прежде надо было завернуть в магазин за хлебом да макарон купить и пачку маргарина. У Дарьи в кармане лежала авоська, она сразу, как только приходила из магазина и вынимала продукты, опять клала авоську в карман, чтобы было в чем завтра принести покупки. Анюта много сидела за книгами и в магазин ходила редко, Дарья жалела отрывать ее от занятий и оберегала от хозяйственных хлопот.
Обычные дела, какими всегда приходилось заниматься после работы, ждали Дарью, и она не торопилась, инстинктивно выработав размеренность, сохраняющую силы. Этим размеренным, не быстрым и не медленным шагом, точно бы нехотя отрывая ноги от земли, шла Дарья среди других рабочих, никого, впрочем, не замечая вокруг себя и никем не интересуясь. Она миновала Дворец культуры и свернула в переулок к продуктовому магазину. И тут вдруг Дарье почудился откуда-то сзади Митин голос:
– Мама!
Дарья невольно оглянулась. По улице с завода шло много людей, сплошной густой поток, и кто-то среди этих людей голосом, похожим на Митин, окликнул свою мать. Дарья не стала доискиваться – кто, неторопливо двинулась своей дорогой.
Дробный тяжелый стук ботинок об асфальт послышался позади. И опять, громче и ближе, раздался похожий на Митин... нет, не похожий, а его, родной, Митин голос:
– Мама!
Дарья вздрогнула и невольным жестом прижала руки к груди, точно защищая сердце от слишком большой для него радости, такой большой, что от нее может сделаться больно.
– Мама... – в третий раз уже совсем рядом сказал Митя.
Дарья обернулась и увидела сына.
Первое, что поразило ее, был его рост. Митя был теперь выше матери, ей как-то никогда не приходило в голову, что сын может перерасти ее. Он стал мужчиной, ранние морщинки прочертили след в углах губ. «Какой он стал... незнакомый», – подумала Дарья, но тут же эта мысль затмилась другой, главной. «Сын вернулся. Мой сын вернулся!» – осознала Дарья, и все на свете потеряло для нее смысл в эту счастливую минуту, все, кроме Мити. Не стыдясь людей, совсем позабыв о них, она обняла Митю и прильнула щекой к его колючему пиджаку.
– Идем, мама! – звал Митя.
Но она стояла, крепко обняв сына, точно он мог исчезнуть, как только она разомкнет руки. Тогда он сам взял ее за руки и осторожным, но настойчивым движением отстранил от себя.
– Сын вернулся?
Женщина, спросившая об этом, работала в цехе конденсации. Дарья не знала ее имени, просто иногда встречала по пути на завод. Дарье было приятно, что женщина заметила ее радость.
– Вернулся, – глядя на женщину счастливыми влажными глазами, сказала она. – Вернулся...
Митя был чисто выбрит. Ее сын уже брился! Это вызвало у Дарьи новый прилив гордости. Серая рубашка была на нем и черный суконный костюм. Одна пуговица привлекла Дарьино внимание. Две пуговицы на пиджаке были, как положено, черные, а одна – синяя. В последний год перед войной, заторопившись на работу и не найдя черной пуговицы, Дарья пришила к пиджаку Василия синюю. И теперь...








