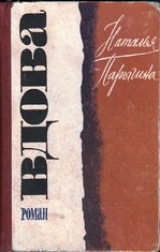
Текст книги "Вдова"
Автор книги: Наталья Парыгина
сообщить о нарушении
Текущая страница: 20 (всего у книги 29 страниц)
– Не на три же стакана у меня всего ума... Сидим. Разговариваем. Хозяин и говорит: «У меня жена все расходы записывает в особую книгу с самого дня свадьбы». «Что ж, – спрашиваю его, – и сегодняшнее угощение будет записано в книге?» – «Непременно, – говорит. – Через сорок лет мой внук будет знать, что был у деда русский солдат и выпил три стакана водки». Ах, черт... Лучше бы я эту водку не пил. Не знал про книгу...
– Нет уж, – сказала Ефросинья Никитична, – бог с ним, с таким порядком.
– Верно, – сказала Даша. – У кого рубль плачет, а у нас грош скачет. Хоть богатства меньше, да жизнь веселей.
На улице совсем стемнело. Мальчишки, набегавшись со змеем, улеглись в маленькой комнате спать. Квартиранты вскоре после победы уехали в Ленинград, и Угрюмовы опять занимали всю квартиру.
– Пойду я, – сказала Дарья. – Погостила без хозяйки.
И тут дзенькнул звонок.
– Вот тебе и хозяйка, – улыбнулся Угрюмов, отворяя дверь.
– Не сердись, Дашенька, – сказала Дора, переступив порог. Глаза ее запали от усталости, лицо было бледно. – Сердцем рвусь домой, а дело не пускает. Все в райкоме чуть не до полночи работают. В кабинете секретаря и сейчас свет горит.
– Напрасно ты с завода ушла, – сказала Дарья.
– Не сама я ушла, – вздохнула Дора. – Люблю я завод...
– Понимаю, – кивнула Дарья. – И мой Василий так...
– Ну, что ж мы в передней стоим? Пошли чай пить.
– Поздно, – возразила Дарья. – Домой пора.
– Дом без тебя не соскучится. А я соскучилась. Пойдем, посидим.
И увела Дарью обратно в комнату. Ефросинья Никитична поставила на электроплитку эмалированный чайник.
Однажды по пути с завода Дарью нагнал Яков Петрович. Он работал в механическом цехе, Дарья изредка случайно встречала его – одного или с женой, рыхлой белобрысой бабой, здоровалась и проходила мимо. Но в этот раз Яков Петрович, опередив Дарью на полшага, заглянул ей в лицо и участливо спросил:
– Что, Даша? Устала?
Дарья удивилась его вниманию.
– Ничего. Как всегда.
– Гляжу – еле шагаешь. А то все замечал – чуть не бегом бегала.
– Ребятишки в лагере, вот и не тороплюсь.
– Вон какое дело. Тогда понятно.
Дарью тронуло внимание Чеснокова. Теперь редко кто интересовался, устала Дарья или не устала, больна ли, здорова ли, печальна или весела.
– Что ж, не скучно одной?
– Когда скучать? Кручусь без роздыху. Хоть высплюсь, пока ребят нету. Сейчас вот приду, поем – да в постель.
– В этакую рань?
– Кому рань, а мне самое время.
Любопытство Якова Петровича становилось назойливым, и голос Дарьи сделался грубее и резче. «Кобель ненасытный, – подумала она, – так и выглядывает, что близко лежит. Своей бабы не хватает ему, что ли?»
Яков Петрович точно не заметил Дарьиной суровости.
– Да-а... У всякого своя беда. Ты с мужиком хорошо жила – одна осталась. Мы с Полиной с виду поглядеть – лад да покой, а поглубже копнуть – без радости живем.
– Чего ж вам не хватает для радости? – с насмешкой осведомилась Дарья.
– Одна беда – детей не хватает. Дом без детей – что праздник без песен. Другие родят да клянут, а нас судьба наказывает неведомо за какие грехи.
«Ну, грехов-то на твоей совести, небось, хватит», – подумала Дарья.
– А другое, – продолжал Яков Петрович, – не люба мне Полина.
– На что ты мне это говоришь-то? – неприязненно спросила Дарья. – Врешь ведь, Яков Петрович, все врешь. Не люба была бы – ушел бы от нее да на той женился, какая люба. Теперь баб и девок бездольных полно, хоть на троих сразу женись. А ты с Полиной живешь. Да еще мне, одинокой, на судьбу плачешься.
– Не так оно просто, – вздохнул Яков Петрович. – Миром Полина не отпустит. А за скандал мне дорогая расплата выйдет. С мастеров могут сбросить.
– Трус ты, – сказала Дарья. – Все вы трусы.
– Ну вот... Я к тебе – по-человечески, а ты оскорбления кидаешь.
– Ладно, – оборвала Дарья. – Ты за мной дальше не ходи. И то люди видели, наплетут небылиц.
– Меня трусостью коришь, – приглушенным жарким голосом проговорил Яков Петрович, – а сама не трусишь? Разговоров боишься. Меня боишься. А ты не бойся. Ты смелей живи.
– Смелей? Это как же?
– В монашки тебе рано записываться. Красивая ты. И без мужской ласки тоскуешь. Тоскуешь ведь?
Дарья остановилась, резко повернулась к Якову Петровичу, так что оказались они лицом к лицу. Темно-карие Дарьины глаза глянули с укором и злостью.
– Отстань ты от меня. Отстань, слышишь? Не лезь ты ко мне, Яков Петрович!
И спешным шагом рванула прочь.
Когда Дарья поужинала, было еще светло. Долог летний день. Из окна виделся лазоревый закат. Разлилось по краю неба многоцветное диво, от синего до золотого чередовались цвета, но лазоревые полосы были особенно ярки, и Дарья долго сидела за столом, бездумно глядя на вечернюю зарю. Глядела в открытое окно и успокаивалась, смирялась сердцем, и вроде даже какая-то светлая струйка пробивалась сквозь застарелую печаль, смутная надежда на счастье.
И тотчас Дарья подумала о детях. Для себя не ждала она счастья, но если детям будет хорошо – и на нее падут отблески их радости. Выучить бы Митю с Нюркой. Митю бы – на инженера. Нюрку – на доктора. И не зря, считай, была бы прожита жизнь.
Дарья представила себе Нюрку в белом халате, как вылезает она с докторским чемоданчиком из машины, приехав к больному. Захлопывает дверцу и идет к подъезду со своим чемоданчиком, и все во дворе – и взрослые и дети – глядят на нее, и из окон глядят, дивясь чудесному превращению. Нюрка Костромина, что бегала босиком в линялых платьишках, поцарапанная в драках с мальчишками, что грубила старшим и умела без очереди протиснуться в магазин, – эта самая Нюрка, Дарьина дочь, стала доктором.
По справедливости следовало бы Дарье и Митю вообразить в роли инженера. Но едва подумала она о Мите, как сердце опять заныло. И не поверилось, что станет Митя инженером. Куда – инженером, хоть бы школу дотянул кончить.
Дарья встала и принялась прибирать со стола. Вымыла посуду – еще с утра стояла кастрюля из-под каши, доверху залитая водой, ложка в ней и эмалированная чашка, – вымыла посуду, мокрой тряпкой клеенку протерла, с плиты смахнула мусор. Хотела пол подмести, да поглядела – больно грязен. Налила в ведро воды, принялась мыть.
Она домывала уже у порога, когда кто-то постучал в дверь. Стук был негромкий, но и не робкий, упрямый стук, и Дарья стояла и глядела на дверь, не спеша открывать. С мокрой тряпки на пол стекала грязная струйка. «Кто бы это?» – думала Дарья, а у самой смятенно колотилось сердце, словно кто-то желанный стоял за дверью.
Не Люба это была – Люба не так стучит. И не Алена. Не Дора. Незнакомый кто тоже вряд ли мог забрести к Дарье. Знакомый это был. Настырный. Незваный. Чужой.
«Не открою», – подумала Дарья.
Человек за дверью, помедлив, постучал опять – все так же негромко, но твердо, почти по-хозяйски, и Дарья вздрогнула, хоть и ждала, что стук повторится. «Постучит да уйдет», – подумала она, а сама бросила тряпку на пол и сделала шаг к двери. «Не надо его пускать, не надо!» – с отчаянием, словно там, за дверью, стоял вор, сказала себе Дарья.
До двери оставался один шаг. Дарья не делала этого шага, стояла, боясь пошевельнуться, задерживая дыхание. И там, за дверью, безмолвно стоял человек. Дарье казалось, что он видит ее через толстую, обитую войлоком дверь. Видит, знает, что она здесь, и все равно придется его впустить, не спрячешься от него, не спрячешься от себя в собственном доме. И когда в третий раз раздался стук, Дарья, босая, бесшумно шагнула к двери и повернула ключ.
– А я думал – ты спишь. Сказала, спать ляжешь.
Дарья стояла по одну сторону двери, Яков Петрович – по другую, низенький порог, крашеная деревянная планочка разделяла их. И еще что-то – невидимое, тайное, непонятное мешало Дарье отступить и впустить Якова Петровича в квартиру.
– Думал – спишь, а ты, вишь, моешь. Решил: дай, зайду, погляжу. И разговор у нас дорогой вышел неоконченный, обиделась ты, что ли, убежала от меня. Ты впусти меня в дом-то, Даша.
Дарья слегка отодвинулась в сторону. Яков Петрович поспешно шагнул через порог и захлопнул дверь.
– Кого бог любит, тому гостя пошлет, – сказал он, сняв фуражку и вешая ее на гвоздик.
– Про это и другая пословица есть, – напомнила Дарья.
– Надо ту вспоминать, которая к месту, – наставительно проговорил Яков Петрович. – Ну, ты домывай, Даша, а я посижу. Сюда, что ль, пройти?
– Проходи.
Дарья подняла тряпку и, макнув ее в ведро, стала домывать пол.
Она мыла ровно, не спеша и не медля, как будто никто не сидел тут рядом, у стола, а про себя бессмысленно повторяла два слова, засевшие как топор в сыром полене: все равно, все равно, все равно... Может, она нарочно твердила эти два слова, чтобы отогнать мысли, ненужные, бесполезные мысли о том, что произойдет сегодня вечером. Она понимала, зачем пришел Яков Петрович. Понимала и не выгнала его. Знала, что он придет. И не того ли ради принялась мыть пол?
Покончив, наконец, с полом, Дарья вылила воду и умылась. Над раковиной висело небольшое зеркало. Дарья расчесывала волосы, а сама все смотрелась в зеркало, и слегка помутневшее от времени стекло говорило ей, что она еще молодая, что впереди еще много жизни, и счастливой могла бы она быть и другого могла бы осчастливить, кабы только судьба.
Обернувшись к гостю, Дарья увидала на столе бутылку с прозрачной жидкостью, заткнутую самодельной бумажной пробкой. «Самогонка», – подумала она. Два крупных свежих огурца лежали рядом с бутылкой.
– Гостинцы принес, – сказал Яков Петрович, – давай выпьем да побеседуем.
Дарья достала с полочки стаканы, соль, хлеб. Сало у нее было. Огурцы помыла.
Яков Петрович вынул из бутылки бумажную пробочку. Самогонка, булькая, потекла в стакан.
– Хватит!
Дарья схватилась за бутылку. Яков Петрович свободной рукой отвел ее руку.
– Ничего, выпей. Работа да работа – сколько можно одной работой жить? Человеку праздник нужен.
Он налил Дарье больше полстакана. Себе полный. Поднял свой стакан, потянулся чокнуться:
– Будь здорова, Даша.
– И ты будь здоров, – сказала Дарья.
Яков Петрович держался просто, как домой пришел, и с Дарьи тоже спадала скованность. Она сама себе подивилась, что так легко чувствовала себя с человеком, который был старше ее по годам и по должности, хоть и работал в другом цехе.
– Выпей, Даша, выпей...
«А вдруг сейчас жена постучит», – подумала Дарья и с опаской поглядела на дверь. Яков Петрович ждал, когда она выпьет. Дарья поднесла стакан к губам и большими глотками выпила самогонку.
– Вот это по-нашему, – одобрил Яков Петрович. – Зло оставлять ни к чему.
Теперь он стал пить, самогонка булькала у него в горле, и на шее неприятно шевелился кадык. Вытерев губы тыльной стороной ладони, Яков Петрович разрезал пополам огурец, посолил и, потерев половинки друг о друга, протянул одну Дарье. «Ну и черт с ней, пусть приходит», – подумала Дарья о жене Якова Петровича.
Приятный туман заволакивал Дашину голову, веселая отчаянность напала на нее. «Да что я, в самом деле, прокаженная разве, что и гость ко мне не смей прийти? Не боюсь я никого! Сплетничать станут – и сплетен не боюсь».
– Вишь платье-то на тебе какое ладненькое, – сказал Яков Петрович, прищурив и без того узкие глазки и потянувшись рукой к Дарьиному плечу.
– Сиди ты, – отстранилась Дарья, – на что руки распускать?
– Руки? Ай не знаешь, на что у мужика руки годны?
– Не охальничай, – обрезала Дарья.
Она подосадовала, что надела это платье. Надо было другое. Сильно села ткань после стирки и обтягивала грудь так, словно Дарья прямо в платье только что искупалась. Яков Петрович нахально глядел на Дарьину грудь и ухмылялся.
– Вот жена-то узнает, что ты ко мне приходил, – повыдергает тебе волосы.
– Не узнает, – не согнав с лица ухмылки, возразил Яков Петрович. – Ты не станешь ей докладывать. И я не стану. Прошел я тихо, тайно. Назад и вовсе – ночью пойду.
– Уж, небось, рыщет по всему городу.
– Не рыщет. В больнице она.
– Она в больнице, а ты по гостям ходишь?
– Самая пора, – сказал Яков Петрович. – Судьба нам с тобой свидание подстроила. У тебя ребятишки в лагере, у меня баба в больнице...
– С чем в больнице-то?
– Язва желудка. От скупости. Хлеб да картошка, картошка да хлеб... По нашим заработкам можно получше кормиться, так она все копит, все копит. Подыхает, а копит.
– На что ты так о ней... Не надо, – сказала Дарья.
– Ладно. Давай допьем.
На этот раз он не дожидался, пока она выпьет, – первым поднес ко рту стакан.
«Уйди!» – мысленно приказала Дарья незваному гостю. Но вслух так и не произнесла этого слова.
Не было сейчас у Дарьи над собой власти. Не могла она выгнать Якова Петровича. И не мил он был, никто ей не был мил и не будет после Василия, а здоровое бабье тело требовало своего. Как в эвакуации рада была от голода черствой корке, так теперь, натосковавшись в одиночестве, и страшилась и ждала чего-то.
Будто щепку в половодье, подхватил Дарью бурливый мутный поток. Весь день, работая у своих аппаратов, жила она ожиданием. Не вспоминала Василия. Не думала о детях. Своему короткому и обманному, как бабье лето, отдалась счастью.
Яков Петрович приходил всегда в сумерках, когда вечерняя мгла еще не успевала загустеть. Дарья приучилась узнавать его шаги на лестнице, кидалась к двери прежде, чем успевал он постучать в нее согнутым пальцем. Впускала гостя, прижималась бездумной своей головой к его груди, без вина пьяная, с чужим мужем счастливая. Он гладил жесткой рукой ее пушистые волосы, со вздохом говорил...
– Славная ты баба, Дарья.
В этих словах чудилась ей жалость и ласка. Никакого другого смысла она им не придавала. А Яков Петрович имел в виду близкую разлуку. Скоро у Дарьи ребята приедут из лагеря. А у него Полина выпишется из больницы. И на том – конец.
Удивлялась себе Дарья, но с каждым разом милее и дороже становился для нее Яков Петрович. И лицо его широкое ей нравилось, и толстая губа больше не казалась противной, и во взгляде не улавливала прежнего нахальства. То ли в самом деле переменился человек, то ли добрело Дарьино сердце от ласковых слов. И казалось ей, что навсегда останется с ней Яков Петрович. Бросит Полину, ведь сам же говорил – не любит. Вот только выпишется она из больницы, и все решится.
Яков Петрович о будущем не говорил. Приходил в сумерках, уходил на рассвете, обнимал-миловал Дарью, будто только и было их на свете двое: ни у него жены, ни у нее детей.
От этой тайной любви Дарья почувствовала себя помолодевшей. И казалось ей, что не один Яков Петрович, а всякий мужик, какой ни повстречается в городе ли, на заводе ли, глядит на нее, как на красавицу, и мечтает о свидании с ней. Похорошела Дарья. Чаще мыла пышные свои волосы. Не выходила из дому, как бывало, в неглаженной кофте. А из получки купила себе на толкучке новые туфли.
После выходного работала Дарья во вторую смену. И Яков Петрович тоже – смены у них совпадали. В полночь, когда выходили с завода, встречались неподалеку от проходной. И в ночном мраке под руку вместе шли к Дарье домой.
За короткий этот путь всегда успевала Дарья вспомнить Василия. Странно, там, дома, не вспоминала. Может, потому, что не похож был Яков Петрович в грубой своей страсти на Василия. И в минуты самой большой близости все-таки оставался чужим, случайным. А тут, когда во тьме шли рядом с завода, совсем так же держал ее Яков Петрович за локоть, как, бывало, Василий. И, как Василий, говорил о заводских делах.
Он говорил, а Дарья молчала, мрачнела сердцем, и слышала и не слышала ровный хрипловатый голос. «На что ж я,– думала с горечью,– связалась с ним,– на что ж перед Васей, перед детьми совесть свою не соблюла...» Иногда просила Якова Петровича:
– Не ходи ты ко мне сегодня, не надо...
– Ладно, ладно, – небрежно отмахивался он. – Аль надоел?
Дарья молчала. Мудрено волка прогнать, когда он уж в овчарне. И Яков Петрович шел с ней рядом, держал ее за жесткий неподатливый локоть, поднимался на лестницу, брал из ее руки ключ и сам открывал квартиру.
Однажды, когда они так, ночью возвращаясь с завода, подошли к дому, из темного подъезда вышел им навстречу человек. Был он худой, невысок ростом, черен в ночи, и Яков Петрович не обратил на него внимания и хотел пройти мимо. Но Дарья выдернула локоть из его руки, кинулась к щуплой черной фигурке:
– Митя, что ты?
– Ничего. Приехал из лагеря. Ждал тебя.
– Ну хорошо... Хорошо. Пойдем.
Дарья спохватилась, обернулась к Якову Петровичу, неестественным голосом сказала:
– До свиданья, Яков Петрович. Спасибо, что проводили.
– До свиданья.
Дарья взяла за руку сына, не оглядываясь нырнула в подъезд. Митя вырвал руку. Молча поднялись по лестнице. Дарья пропустила сына вперед, захлопнула дверь, включила свет. Строго взглянула на Митю:
– Ну, рассказывай, что натворил.
– Сбежал, – угрюмо ответил Митя. – Ничего не натворил, просто сбежал из лагеря.
– Та-ак... Сбежал. Я добивалась путевки, чтобы ты хорошо отдохнул, а ты – сбежал. Это почему же? Что тебя не устраивает в лагере?
– Скучно там, мам...
В голосе Мити звучала искренняя взрослая грусть. Если б Дарья думала сейчас о сыне и старалась понять его, она почувствовала бы его одиночество и тягу к дому. Но она не о сыне думала. Ей было стыдно, что Митя увидал ее с Яковом Петровичем. Ей было досадно, что пришлось так, у крыльца фальшивым голосом проститься с Яковом Петровичем, в то время как они могли бы вместе провести ночь. И этот стыд и досада слились в одно раздражительное состояние, и Дарья, ощущая свою вину перед сыном, сама спешила его обвинить.
– Скучно тебе? Другие не скучают, а ты скучаешь? Подумаешь, принц какой отыскался из погорелого именья. Что ж я тебя за границу, что ли, должна отправить? А? Ну, отвечай! Что молчишь?
– Я тебе говорил, что не хочу в лагерь, – угрюмо заметил Митя.
– Мало что ты мне говорил. Много чести – с таких лет станешь командовать. Погоди пока. Подрасти. Работать пойдешь – тогда по-своему живи. А пока по-моему будешь. Ну, чего стал у порога? Разжигай керосинку. Жрать, поди, хочешь.
И вдруг вспомнилось ей, как первый раз пришел Яков Петрович, самогонка вспомнилась и огурцы, и как он говорил: «Пей! Пей, Даша». И все недавнее показалось ей унизительным и грязным: самогонка, платье, обтянувшее грудь, тайная, ворованная любовь и это сегодняшнее прощание с Яковом Петровичем при сыне. «До свидания. Спасибо, что проводили». А Мите пятнадцатый год, он все понимает, может, он обо всем догадался и теперь молчит.
– Может, к дяде в деревню поедете? – спросила Дарья за чаем.
Егор вернулся с войны инвалидом – с одной ногой, звал Дарью приехать в отпуск с ребятами или хоть одних ребят прислать.
– Нюрка вернется из лагеря и отправлю вас. Звал Егор погостить.
– Никуда я не поеду, – буркнул Митя.
– Ох, горе ты мое... Ну, ступай, спи.
Митя лег. Дарья выключила свет. Стихло все. В доме стояла тишина, и за окнами не слышалось ни звука.
К Дарье не шел сон, хоть глаза зашивай. Лежала, глядела в пустую голую стену. Об Якове Петровиче думала. Казался он сейчас чужим и далеким, и будто давным-давно это было, что лежал он рядом, большой, жаркий, сильный. То ли было, то ли приснилось.
«И хорошо, что Митя приехал, – подумала Дарья. – А еще бы лучше, кабы вовсе не уезжал. На беду свою я ребят в лагерь отправила...»
4
В окна с тоскливой однотонностью колотили дождевые капли. Нюрка сидела за уроками. Митя опять куда-то убежал. Нюрка и Митя в этом году учились в первую смену, но Дарья редко видела сына дома. Он уходил, не спрашивая у матери разрешения, и возвращался, когда хотел.
Тишина стояла в квартире – Нюрка, когда учила уроки, выключала радио. Только дождь все стучал в стекло, все стучал... Третий день льет без передыху. Дарье тоскливо сделалось дома.
– Нюра, я к Алене пойду, посижу.
– Ладно, мама, – сказала Нюрка, не отрывая взгляда от тетрадки, в которой что-то писала.
Плаща у Дарьи не было – надела старое пальто. Пока прошла два квартала, пальто намокло, отяжелело, на ботинки комьями налипла глина.
Алена оказалась дома. Толстая книга лежала на круглом столе, накрытом самодельной вязаной скатертью. Саня, Нюркин ровесник, сидел тут же, рисовал в тетрадке войну: танк, самолеты, черный веер взрыва.
– Солдатом, что ль, собираешься стать? – спросила Дарья.
– Нет, – серьезно ответил Саня. – Я на заводе стану работать, вместо папки. А солдатом – если война.
– Пойди, Саня, в кухню, – сказала Алена, – включи там свет и рисуй.
Мальчик ушел, забрав тетрадку и карандаши. Дарья взяла со стола книгу, глянула на обложку.
– Про войну?
– Про войну. Читаю все... Читаю – и будто с Андреем вместе по тяжкой фронтовой дороге иду. Бой описывают – его в бою вижу. А, может... Надеюсь все... Может, где его имя встречу. Не убит ведь он – без вести канул. Вдруг след отыщется.
Дарья и Алена за большим столом в просторной комнате казались странно маленькими и одинокими. Неяркая лампочка свисала с потолка. Дождь бился в окно. Толстая книга лежала на столе.
– Хороший у тебя парнишка, послушный, – сказала Дарья.
– Одна моя радость. Для него живу.
– И для ребят живем. И для себя пожить хочется. Горько одиночество.
– Что сделаешь? – прямо глянула на Дарью печальными синими глазами Алена. – Замуж в другой раз выйти надежды мало, война мужиков забрала, девкам женихов не хватает. А с женатым путаться... В темноте по тайности он тебя целует, а завтра с женой под ручку пройдет, и ты на них из-за угла с завистью глядеть будешь. Какая радость от такой любви, если за нее гордостью платить надо?
Дарья сидела, плотно сжав рот, глядела вниз, на вязаную из красных и черных ниток скатерть.
– Пускай без мужа, пускай одна, а тоже хочу я ходить гордо, чтоб никто меня ворованными поцелуями не укорил.
«Неужто знает Алена?» – подумала Дарья. Тихо приходил Яков Петрович, а может, и попался кому на глаза. Может, все знают? И вдруг тошно сделалось Дарье за свою боязнь перед людьми.
– А я чужому мужу двери отворяла.
– Знаю я, – тихо, стесненно проговорила Алена.
– Знаешь?
– Огонь в соломе не спрячешь.
– Не ходит он ко мне, – сказала Дарья. – Так, дурь напала.
– Мне после Андрея никто мил не будет.
– И я так думала...
Звонок тоненько дзенькнул. Алена вышла узнать, кто пришел. Оказалось, Нюрка позвонила.
– Мама у вас? – спросила она. – К нам Митина классная руководительница пришла.
У Мити теперь была другая классная руководительница. Примерно одних лет с Дарьей, стройная, моложавая, синий костюм сидел на ней аккуратно, белая кофточка виднелась между отворотами жакета. Она уже не первый раз приходила к Дарье поговорить и в разговоре была приветлива, но Дарья все-таки не любила встречаться с Лидией Егоровной, потому что ничего хорошего о Мите не говорила учительница, а худое слушать о сыне – кому приятно.
Вот и сейчас.
– ...Разболтанный паренек. Курит чуть не в открытую. А вчера один наш преподаватель видел, как Митя покупал водку. Вы не поручали ему купить водки?
– Сроду я ее не покупаю, а то бы еще малого стала посылать.
– Значит, для приятелей покупал. Говорят, связался он с дурной компанией.
– Я за ним не хожу, – угрюмо заявила Дарья. – Я работаю, у меня времени нету за ним ходить. Он себе сам приятелей выбирает.
– Мальчик еще несознательный, рано ему давать полную самостоятельность.
– Рано? – вскинув на Лидию Егоровну угрюмый взгляд, резко переспросила Дарья. – Рано? А что я могу сделать? Я – на заводе. Митька целый день один. Няньку для него нанимать? У меня не на что. Отец на войне погиб. Чего вы с меня спрашиваете?
– Какая бы жизнь ни была, а с матери всегда первый спрос за детей, – потемнев лицом, проговорила Лидия Егоровна. – И если с Митей случится беда, вы больше всех будете в той беде виноваты.
– Я? – гневно переспросила Дарья. – Я? А может, война виновата, которая моего парня сиротой оставила?
– Нет, – сурово отрезала Лидия Егоровна. – не война. При матери сын только тогда сирота, когда мать от него отвертывается, забывает о нем.
– Хорошо вам говорить тут разные слова, – с упреком сказала Дарья. – Мою судьбу война колесом переехала. Вы горя моего не поймете: у кого жизнь ладится, тем все просто кажется. А кабы самой довелось без отца детей растить...
Лидия Егоровна отвела лицо от Дарьи, глядела в окно неподвижным взглядом. Дарья замолчала. И учительница молчала. Дарье видна была ее отчего-то покрасневшая щека, в глазу Лидии Егоровны дрожала слеза.
– Коли обидела, простите, – виновато проговорила Дарья.
Лидия Егоровна достала из кармана платок, вытерла глаза.
– Судьба у нас одинаковая, – негромким отрешенным голосом сказала она, по-прежнему глядя в окно. – Мой тоже на войне погиб. Осталась одна с троими ребятами. Двое мальчишек. Девочка в бомбежку напугалась, заикается.
– Господи, – выдохнула Дарья растерянно, – что ж это я... Не знала. Жизнь у нас одинаковая, да сами мы, стало быть, разные.
Лидия Егоровна долго пробыла у Дарьи. Разговаривали дружески, не учительница с матерью нерадивого ученика – две вдовы, две женщины одной судьбы. В первый раз, кажется, благожелательно выслушивала Дарья советы Лидии Егоровны и сама, не таясь, рассказывала ей про свои нелады с Митей.
Проводив учительницу, Дарья вернулась на прежнее место и долго сидела, подперев рукою голову. Страшно ей сделалось за Митю. Ну-ка в колонию попадет? У Садыковой один парнишка уж побывал в колонии. «С матери всегда первый спрос за детей...»
– Нюра, – окликнула Дарья, – ты не знаешь, где Митя?
Нюрка подняла голову от книжки.
– Нет. Опять, поди, где-нибудь с Хмелем.
– С каким Хмелем?
– Ну, с Федькой Хмелевым, который из заключения вернулся.
– Из заключения? И ты знаешь этого Хмеля?
– Видела. Его все знают.
– А почему мне не сказала?
Нюрка по-взрослому пожала плечами.
– Зачем?
– Погубит он Митьку, этот проклятый Хмель. В беду втянет.
– Митя все равно тебя не слушает, – заметила Нюрка.
– Не слушает? – выкрикнула Дарья. С ней это случалось – Нюрка знала: говорит-говорит нормальным голосом и вдруг начинает орать. – Не слушает? Вы оба не слушаете. А я вот заставлю, будете слушать, выбью дурь-то из вас, пускай он только явится, проклятый...
Нюрка молчала. Если попытаться уговорить мать, она еще хуже распалится. Лучше уж молчать. Только бы Митя сейчас не пришел. Достанется ему, если сейчас придет.
Но Митя домой не спешил. Поужинали с Нюркой – его все не было.
Дарья работала в третью смену, в полночь – выходить. Надо хоть немного поспать. Она набросила на кровать поверх одеяла старый халат, не раздеваясь, легла, накрылась Нюркиным пальтишком.
Приснилось ей лето. Оказалась Дарья в лесу. Шла по густой траве меж высоких старых деревьев. Вдруг над самой головой громко зловеще каркнул ворон – огромный, словно орел. И опять: «Карр! Карр!» Дарья побежала. Но уже не было травы под ногами, густой кустарник, сплетаясь ветвями, преграждал ей путь. Дарья продиралась через этот кустарник, ветви цеплялись за ее платье, боярышник своими колючками царапал лицо, а ноги словно кто опутывал веревками. «Это же хмель. Хмель!» – с ужасом думала
Дарья. И какие-то крики долетали издали. Ворон? Нет, не ворон. Чей это голос? Господи, да это же Митин голос! «Мама! Ма-ма!» Она раздирает руками ветки кустарника, с неимоверным усилием высвобождает одну ногу, делает шаг, а другая, словно змеиными жгутами, опутана хмелем. В отчаянии Дарья пытается крикнуть, но из горла вырываются только беспомощные хрипы.
Резкий звонок будильника прервал Дарьип мучительный сон. Дарья вскинула голову. Пришел ли Митя? При свете луны она увидала на спинке стула Митины брюки.
Нюрка лежала на диване, до подбородка укрытая одеялом – она и во сне оставалась аккуратной. Скользнув по ней беглым взглядом, Дарья долго глядела на сына.
Митя на своей узкой койке вовсе сдвинулся на край, лежал на животе, руками обхватил подушку, будто оберегая от кого-то. Одеяло одним углом прикрывало ноги, а до пояса – вовсе голый. Худой, узкоплечий был Митя. Давно не испытанное чувство жалости и нежности к сыну охватило Дарью. «И что я на него все злоблюсь, – с досадой на себя подумала она. – Вовсе без ласки растет. Может, в том я перед детьми и виновата, что без ласки растут...» На подушке, возле Митиной головы, свернувшись клубочком, спал серый котенок. Митя сам принес его, брошенного кем-то, с улицы и назвал Стенькой. Дарья осторожно погладила котенка.
Спохватившись, она заспешила на работу. Воздух после дождя был прохладен и чист, тучи рассеялись, яркий серп месяца стоял в вышине. Дарья осторожно ступала по грязной скользкой дороге, и странное, давно не испытанное спокойствие владело ею.
Дарья сама не могла понять, отчего ей сделалось так хорошо. Оттого ли, что страшное, недавно пережитое, оказалось сном. Или оставила в душе светлый след та тихая минута, когда стояла возле Митиной кровати, глядя на его худое, смуглое тело – без зла, без раздражения, с теплым материнским чувством, как-то притупившимся после гибели Василия. Или еще отчего.
Может, оттого, что зародилась в Дарье новая жизнь, опять сделав ее молодой, опять сделав ее женщиной. Новое существо, тайно от всех, набирало силы, и тело Дарьи бессознательно отзывалось на это событие тихой, чуть расслабляющей удовлетворенностью.
Митя пришел из школы первым. Схватил ломоть хлеба, посыпал солью, откусил.
– Ты для кого это водку покупал? – в упор глядя на сына, спросила Дарья.
Митя перестал жевать, лицо его вытянулось, глаза испуганно метнулись в сторону. Он что-то попытался сказать, но получилось невнятно из-за непрожеванного хлеба, Дарья вырвала хлеб у него и рук, швырнула на стол.
– Ну, для кого?
– Ни для кого я не покупал...
– Не ври! – крикнула Дарья. – Люди видели. Покупал. Позоришь меня. Только дурное про тебя от людей слышу. От людей слышу, а сам таишься. Чего ты от меня скрываешь? Мать ведь я тебе. Всю жизнь я честно прожила, для вас стараюсь, о себе не думаю. И никаких тайностей у меня нету, а ты...
Злые огоньки вспыхнули в Митиных глазах, весь он как-то напружинился, словно стал худее и выше ростом, и двинулся ей навстречу.
– Никаких тайностей? – крикнул Митя прямо в лицо матери, так, что она почувствовала теплоту его дыхания. – Честно прожила? А Чесноков у тебя ночевал – это честно? Нас в лагерь отправила, а сама с ним спала! Думаешь, не знаю? Я все про тебя знаю. Все! Все! И Нюрка знает...
– Сволочь! – крикнула Дарья, ощутив острый приступ бешенства.
Она размахнулась и изо всей силы ударила Митю по щеке.
Митя схватился за щеку, отступил назад, угрожающе проговорил:
– Ну, погоди...
И вдруг новый, незнакомый, взрослый и жестокий человек проглянул в нем.
Дарья не посмела тронуть этого человека. Смутная угроза отрезвила ее, гнев пропал, она почувствовала себя жалкой, униженной и беспомощной. Они стояли друг против друга, два или три шага разделяли их, но малое это расстояние было непреодолимо. Ощущение тяжкой безысходности наполняло Дарью, комната казалась ей клеткой, накрепко запертой со всех сторон, и скверное враждебное чувство к сыну все отчетливее вызревало в ней.








