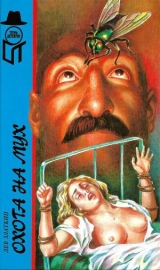
Текст книги "Охота на мух. Вновь распятый"
Автор книги: Лев Златкин
Жанр:
Политические детективы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 37 (всего у книги 43 страниц)
19
Старый Мотя, после разговора со старым Пинхасом, сам постучался в комнату Сережи и пригласил юношу обедать.
Серега уже выплакался и опустошенный лежал, размышляя: сказать матери об открытии, сделанном старым Пинхасом, или нет. После долгого раздумья решил, что говорить не будет.
«Она и так достаточно свободно себя ведет, – подумал он горько, – что ей до смерти отца? Только снимет чувство вины! нет, пусть помучается!»
– Сережа, вылезай из норки! – не отставал старый Мотя. – «Слезами горю не поможешь!» Отца этим не вернешь!
Серега и сам это понял, а потому не стал упрямиться. Встал с постели, вышел из комнаты и пошел в ванную мыть холодной водой не только грязные руки перед обедом, но и опухшие от слез глаза.
Старый Пинхас тоже получил приглашение отобедать. Обед прошел в полном молчании. Даже маленькая внучка, почувствовав общее настроение, царящее за столом, старалась не слишком стучать ложкой.
После обеда Серега хотел поблагодарить хозяев и уйти, но, раскрыв рот, неожиданно для себя, вместо слов благодарности, спросил другое:
– Отчего так: люди проливали кровь за революцию, а потом оказались ее врагами?
Старый Мотя не удивился вопросу. Он давно ничему не удивлялся.
– Ты слышал лозунг Маркса: «Пролетариату нечего терять, кроме своих цепей»? Марксисты считали, что стоит им лишь совершить революцию, избавиться от гнета капиталиста и помещика, как настанет царство свободы. Большая ошибка считать, что люди в основном добры! Понимаете, считают так, несмотря на то, что в детстве им читали Библию, если и не всю, то два предания наверняка. Я имею в виду, что одно из них о двух первых людях на земле после Адама и Евы, о Каине и Авеле. И уже один из первых двух людей оказался убийцей. «Каин убил Авеля». К тому же Каин оказался и лжецом. На вопрос Бога: «Где брат твой, Каин?» – ответил без тени смущения: «Я не сторож брату своему!» А позже, когда Бог разгневался на людей, и тридцать дней и тридцать ночей лил сильный ливень, который вызвал потоп, кто оказался достойным спасения? Один Ной со своей семьей. Так что у марксистов и не могло получиться царства свободы. А почему? Да потому, что человек порабощен двумя видами несвободы: внешней и внутренней. И как только он с помощью революции освободил себя от внешних цепей, ему надо было сразу приступить к освобождению от внутренних: рабства, невежества, эгоизма, жадности, нетерпимости, национальной в том числе, неуравновешенных страстей и эмоций. «Человек не свободен до тех пор, пока он не принял Тору!» Так сказано в Талмуде. «В человеке заложен яд, и Тора есть противоядие!» А раз «царства свободы» не получилось, то кто виноват? Только враги. Хорошо, что пока их много, до евреев руки не дошли. Неумехи ломают станки. Вместо того, чтобы их обучить, этих неграмотных неумех, опять ищут врагов. А кто сейчас посмеет сказать слово против великого вождя? Только враги… Ты никогда не видел камнепада? Так вот: наверху приходит в движение всего лишь один камень, а внизу уже десятки тысяч камней могут снести с лица земли поселок со всеми людьми, живущими в нем. Да и сможет ли быть иначе, если по Марксу: «Не индивидуумы, но только и всегда социальные классы имеют объективную реальность». Там, где мыслят категориями «человечество», не замечают человека. Марксисты считают, что человек должен изменить общество. Евреи считают, что человек должен изменить себя. Революция не решает проблемы, а лишь дает возможность для ее решения. Я, наверное, очень сухо излагаю и непонятно?..
– Все мы способны стать Каинами, – тихо произнес старый Пинхас. – Стоит только нам перестать бороться со своими слабостями… Гриша это доказал. Он всегда смеялся над моральным контролем, над духовным самоконтролем…
– «Предрасположенность сердца человека – зло с раннего детства», – согласился старый Мотя. – Вера в человека, «сущностью которого является свобода», привела к тому, что создано общество куда менее свободное, чем до «обретения свободы». Свобода – это не панацея от всех бед. Еще в прошлом веке прозвучали пророческие слова Алексиса де Торквилла: «Тот, кто ищет в свободе нечто иное, чем саму свободу, обречен на зависимость и рабство».
– Мотя! – испуганно воскликнул старый Пинхас.
– Что, Мотя? – спокойно откликнулся старый Мотя. – Отец мальчика разделил судьбу твоего сына, а моя внучка еще слишком мала, чтобы стать Павликом Морозовым.
– Бог мой! – опять прослезился старый Пинхас. – За что ты лишил их разума?
– Много крови они пролили, Пинхас! – пояснил старый Мотя. – Слишком много: и своей, и чужой! Убивая людей лишь за то, что они имели несчастье родиться в «классе эксплуататоров», они тем самым сняли все мыслимые и немыслимые запреты, среди которых главный – «Не убий!» Отвергли эту заповедь, а чтобы не каяться, перебили почти всех священнослужителей. Нет Бога – значит, все можно! Ты же знаешь, что разум нейтрален, образование нейтрально, да и природа самого человека нейтральна. Когда считается, что мораль – относительна, любой человек может истолковать добро и зло так, как ему заблагорассудится. Отрицать существование Бога и приписывать одному человеку понятие о морали. И где, скажите мне, это понятие записано? Еврей всегда может сказать: «Я нарушил Закон и поступил вопреки воле Его!» И указать четко и конкретно: какой Закон он нарушил. Может ли марксист указать на это? И захочет ли? Когда главенствует мораль: «А почему нельзя?»
Старый Пинхас достал свой платок в красную клетку и вытер слезы.
– Еврей несет на себе тяжесть Божьей миссии через века и народы. Вот за это его никогда не прощают. И всегда находились евреи, которые забывали о божественной миссии и ассимилировались.
– Ты все о Грише! – вздохнул печально старый Мотя.
– Разве могу я забыть, – опять прослезился старый Пинхас, – как он в хедере не разлучался с моим сыном? Они были больше чем братья!
– «Где брат твой, Каин?» «Я не сторож брату своему!» – печально нахмурился старый Мотя. – Не так уж и давно Ницше заявил: «Бог умер!»
– Бог умер! – как эхо, повторил старый Пинхас.
– Неужели Бог есть Бог Иудеев? – хрипло спросил Серега.
– А не язычников? – взглянул на юношу старый Мотя. – Конечно, и язычников!..
И тихий Ангел пролетел, осенив их своим крылом. Нет мира на земле и не может его быть, если нет мира в душе Человеческой.
20
Отец Сарвара вернулся из заключения в тот день, когда Чингизу разбили мениск вместе с коленной чашечкой.
После уроков два десятых класса решили сыграть в футбол, помериться еще раз силами, кто кого, тем более что скоро выпускные экзамены, доведется ли найти и свободное время. Силы были приблизительно равны, игра потому проходила интересно, как всегда, зрителей хватало. Основу зрителей составляли, естественно, девочки, а поскольку у каждого из игроков было за кем подсматривать, отчего еще сильнее билось сердце, и взаимно ощущать чей-то взгляд, то каждый старался за двоих.
Играли до «шести». Счет был хоть и равный, но уже пять – пять. Мяч беспорядочно метался от ноги к ноге, и не всегда можно было понять, чья команда им владеет. Болельщики свистом, воплями, криками подбадривали «своих». Удачный пас, и мяч попал к Сарвару, он с ходу обвел защитника и, заметив открывшегося Чингиза, точно передал ему мяч прямо в ноги. Ударь Чингиз с ходу по воротам, остался бы цел и невредим. Но Чингиз почему-то думал, что у него получаются красивые финты. И решил обвести вратаря, чтобы красиво послать мяч в пустые ворота. Но, пока он изображал финт, подбежали двое из команды противника, а Чингиз так увлекся, что не заметил. От кого он получил удар по коленке, трудно было сказать в той возникшей сутолоке ног. Но удар поверг его на асфальт, где он и остался лежать. Игра не остановилась, потому что мяч от чьей-то ноги попал к Сарвару, и он не стал ждать защитников, а, воспользовавшись счастливым моментом, сильным ударом послал мяч мимо вратаря, точно в «шестерку», рядом со «штангой», которую изображала горка портфелей, сложенных друг на друга.
Сарвар забил единственный мяч в этой игре, но этот мяч был решающим. И большая часть приветственных воплей и дружеских похлопываний, после которых наутро мог появиться синяк, досталась Сарвару. От других чествований, как-то от подбрасывания в воздух, не «качали» его лишь только потому, что кто-то заметил, что Чингиз продолжает лежать на асфальте и не может встать, как ни пытается. Никто тогда не мог и предположить, что дело дрянь и кончится больницей и операцией, мало ли ушибов получают во время игры, Сарвар как-то раз поскользнулся на песке, скапливающемся ветром возле бордюра, и приложился с размаха подбородком об этот каменный бордюр тротуара, да так, что искры из глаз посыпались вместе с брызгами влаги, и передний зуб чуть не выскочил. И ничего: поднялся, вставил зуб на место, помассировал подбородок и продолжил игру. Все как на собаке зажило. Чингиза подхватили двое одноклассников, каждое движение причиняло такую боль ему, что лицо сразу же становилось похожим на белую маску, и унесли в школу, чтобы вызвать «скорую помощь».
Илюша, сам забивший два очень красивых гола, подошел к Сарвару и предложил:
– Идем вместе домой, по дороге поболтаем. Ты – молодец, хороший мяч заколотил.
– Повезло! – признался Сарвар. – А Чингизу нет.
– Кто ему приложил? – поинтересовался Илья.
– Аллах знает! – усмехнулся Сарвар. – Разве кто теперь признается? Отец Чингиза – судья, э! И не на футбольном поле, пенальти не отделаешься.
И здесь Сарвар увидел Соню. Она старалась попасть ему на глаза, привлечь его внимание чем-нибудь, было видно, что что-то ей мешает подойти. Сарвар вспомнил, что Соня стеснялась Илюши, очень смущалась, когда он приходил к Сарвару домой.
– Сарвар! Смотри, Соня! – заметил Илюша.
– Что-то случилось, – недовольно ответил Сарвар, – иначе она бы не пришла. Я ей запретил близко подходить к школе…
– Подойди к ней! – предложил Илья. – Я подожду. Если что, махни рукой…
– Хорошо!
И Сарвар подбежал к Соне.
– Я тебе сколько раз говорил… – начал он заводиться.
Но Соня его прервала.
– Отец вернулся! – сказала она почему-то тихо.
Сарвар испугался и застыл на месте. Он сам удивился своей реакции. Много раз представлял он себе тот день, когда вернется отец, надеялся, что выяснят, не виноват он, не враг народа, произошла чудовищная по своей несправедливости ошибка. Все вернется на свои места, и он не будет так страдать от осознания, что он – сын врага народа.
– Хорошо, ты иди! – велел Сарвар женщине. – Я скоро приду!
– Пойдем вместе! – умоляюще сказала Соня. – Я пришла за тобой.
Хотелось побыть одному, но Соня смотрела, что Сарвар от ее жалобного взгляда, так она смотрела, махнул рукой Илье, чтобы не ждал, и пошел вместе с теткой домой, где уже ждал прихода сына вернувшийся отец.
Шли они молча, правда, Соня порывалась все что-то сказать, но не решалась.
А Сарвар впервые признался себе, что он отца ненавидит. И стыдится. Казалось, причин для этого не было, ему никто никогда не напоминал, что его отец «сидит», не устраивал над ним судилища, как над Никитой, не попрекали, как Серегу, за каждый пустяк: «яблоко от яблони не далеко падает». Почему? Да потому, что все вокруг всегда делилось и делится на «своих» и «чужих». Это как свет и тьма. Сегодня ты на свету, радуешься солнцу, цветам, морю, зеленой траве и желтому песку пляжа. А завтра ты уже брошен во тьму, и пусть на первый взгляд ничего не изменилось: все так же светит солнце, искрится море алмазными блестками, трава не потеряла изумрудного цвета, а цветы ярких красок, и небо столь голубое и бездонное, а на душе тьма, ночь, черная бездна разверзлась, в которую ты вот-вот сорвешься и… в бесконечность. Словно невидимую черту переходишь, и стеклянная прочная стена отгораживает тебя от жизни, все видишь, и все уже не для тебя.
А таких, как Сарвар, и воспитывали по-другому. Для них одного чувства страха было мало, выращивали чувство вины, всепоглощающее чувство стыда, что ты уже другой, пусть это и не твоя вина, но «грехи отцов падают на детей до седьмого колена». От такого воспитания начинаешь ненавидеть не власть, а себя самого, что ты не такой, как все. Возможность быть как все, возможность слиться с незапятнанной массой людей, серой и безграмотной, безжалостно ревнивой, становилась заменой счастья. А ненависть к себе очень скоро перерастает в ненависть к тем, кто не только поставили себя вне общества своими мнимыми провинностями, вне этой серой, безликой массы, но и своих детей поставили в безвыходное положение, пусть им и повезло жить на юге, где к женщинам и детям все же относились не так жестоко, как в России и на Украине, пусть им и «повезло», и они не попали в детский распределитель НКВД, а затем в спецдома для детей «врагов народа», чей режим мало чем отличался от тюремного, где так же морили голодом, а издевательства, может, и превышали меру издевательства, испитую их отцами и матерями.
«Аллах акбар!»
Что может быть страшнее ненависти к отцу? Что может быть преступнее? Сарвар не задавал себе этих вопросов. Как-то он зашел к Илье и случайно услышал, как тот читал младшему братику Библию, и Сарвара смутила, врезалась в мозг навсегда одна мысль оттуда: «Проклят злословящий отца своего или матерь свою! И весь народ скажет: „Аминь!“ Но каких проклятий заслуживают те, кто калечат детям души, воспитывая в них раба, стыдящегося самого себя и проклинающего родителей своих? Трижды прокляты будут!»
Не радовала Сарвара предстоящая встреча. Пеплом было отмечено то место в сердце, которое по праву всегда, во все времена, у всех народов занимала любовь к родителям. И пепел был давно холодным, не тлел под ним даже маленький уголек, чтобы из него можно было раздуть хотя бы маленькое пламя любви к отцу, сочувствия к его страданиям и мукам. Холод в груди и страх перед неведомым будущим – вот и все, что испытывал Сарвар, и дорога домой стала казаться дорогой на Голгофу.
Сарвар не узнал отца. Даже предположить было трудно, чтобы так мог измениться человек за семь лет отсутствия. Отец и до ареста не был Геркулесом, но теперь он стал похож на живые мощи, вместо густой черной шевелюры – серебристый редкий ежик едва покрывал желтую кожу черепа, веселые горящие и умные глаза потухли, и жизнь в них едва теплилась. Отец сидел на низеньком табурете у двери и курил. Заметив сына, он не встал, только улыбнулся, но так виновато и жалко, что у любого дрогнуло бы сердце от простой человеческой жалости. Но не у Сарвара.
– А, сын! – голос отца звучал хрипло, дребезжал, словно лопнул при отливке колокол. – Салам алейкум! Ты так изменился. Стал совсем уже взрослым. А я изменился? А то раньше все шутили, что я похож на сына моей жены. Тридцать шесть мне дашь?
«Не то ты говоришь, отец!» – хотелось закричать Сарвару, но он предпочел промолчать. Что тут скажешь? Какие там тридцать шесть лет? Отцу можно было дать теперь все шестьдесят, особенно, когда он заговорил и стало видно отсутствие у него половины зубов, а черные провалы на месте зубов не омолаживают.
«Совсем старик!» – подумал Сарвар.
Но и тут его сердце не дрогнуло, а еще больше ожесточилось.
– Здравствуй, отец! – процедил Сарвар еле слышно. – С возвращением.
– Ты рад? – ощерился опять отец черными провалами на месте зубов. – Понимаешь, я уже совсем концы отдавал, вдруг в контору вызывают и говорят: «Все. Ты свободен!» Представляешь?.. Денег на дорогу дали, сухой паек: четыре селедки и буханку черного хлеба… Берия приказ издал!
– Хорошие люди! – сухо отметил Сарвар.
– Хорошие? – взвился яростью отец. – Ты бы посмотрел, что эти «хорошие» делают в лагерях.
– В пионерских? – неожиданно для себя снагличал Сарвар.
– В партийно-комсомольских! – усмехнулся отец, давая понять, что ценит шутку.
Но он скоро убедился, что это была не шутка.
– Впредь будешь умнее и не попрешь против народа! – громко, как на митинге, сказал Сарвар. – Народ – жесток, но справедлив! Если тебя простили, то это еще не значит, что тебя оправдали. Неустанным трудом ты обязан будешь доказывать каждый день, каждый час, что достоин прощения.
Отец, широко раскрыв глаза, смотрел на сына, и впервые в них вспыхнули живые искорки интереса.
– Перед моим освобождением пришла в Норильск партия заключенных, очередной этап, – грустно сказал отец. – Встретил Ниязова их Наркоминдела, студентом был у меня, персидский и арабский изучал. Угостил меня сигаретой, какая-то иностранная, пахнет, как лекарство, легко курить, не наша махра. Вот он мне и рассказал, как вас воспитывают. Я не поверил.
– Нормально воспитывают! – сердито буркнул Сарвар.
Ему стало немного стыдно.
«Чего это я „выступаю“? – подумал он. – Никогда раньше так не говорил и не думал. Вот Илюшка бы посмеялся! Дураком бы обозвал, точно, и за дело!»
– Ладно, отец, – примирительно сказал Сарвар. – Чего это мы? Давай обнимемся!
Отец неуклюже встал, нога у него плохо сгибалась. Сарвар обнял его и замер. Как он любил в детстве, когда отец крепко прижимал его к себе. И даже запах мужского пота не раздражал, а казался родным. А теперь этот же запах стал отталкивающим, противным до тошноты.
«Ненавижу!» – чуть было не вырвался наружу крик Сарвара.
Он неловко, но несколько демонстративно высвободился из объятий отца и ушел в комнату, где в прохладном полумраке был накрыт стол.
Увидев его, Сарвар обомлел. Дело в том, что Соня страшно боялась включать газ, который только-только провели в их район, ей от его запаха становилось не по себе, откровенно страшно, и руки леденели, что, впрочем, указывало на больное сердце. Но Соня ходила часто лишь к одному врачу: гинекологу, что и определяло ее ненависть и к другим врачам. Нелюбовь к газу служила часто причиной тому, что Сарвар и ходил полуголодным. Ведь для того, чтобы приготовить обед, необходимо зажечь газовую конфорку, а Соня панически боялась, что произойдет взрыв. Поэтому и питались они в основном салатами да бутербродами. Но сегодня Соня превзошла все ожидания, саму себя, приготовила и шурпу, и плов с молодым барашком, не поленилась сходить в шашлычную за бараниной, да сладостей понакупала. Праздник! Пир горой! Первый праздник за семь долгих лет. Даже с вином и фруктами. Это весной-то!
Но невеселый был этот праздник. Отец жадно ел, как и подобает голодавшему несколько лет взрослому мужчине, а Сарвар смотрел на это и злился.
«Как голодный волк, глотает все подряд. Зубов почти нет, как он умудряется так быстро разжевывать?»
И неведомо ему было, что у отца уже был такой желудок, когда автоматически наедаются впрок, не зная, когда еще придется поесть и придется ли. Сарвару было невдомек, что желудок голодного человека справится и с полуразжеванной пищей, если, конечно, голод длился не очень долго, тогда может наступить смерть от еды до насыщения.
Соня смотрела на Анвара, мужа сестры умершей, и не могла избавиться от ощущения ужаса, который охватил ее, когда она увидела его в дверях дома. Муж старшей сестры всегда нравился младшей сестре. Обычная детская зависть. И Соня влюбилась в Анвара. Когда сестру с мужем арестовали, она носила им нехитрые передачи в тюрьму. И как-то раз попалась на глаза старшему майору Джебраилову. Он ее вежливо обо всем расспросил, выслушал, а затем предложил устроить ей свидание с сестрой, но привел ее не в комнату для свиданий, а в дальнюю камеру, где грубо и нагло сорвал с нее одежду и изнасиловал. Ошеломленная столь низменным вероломством, она и не сопротивлялась, и не кричала, да и бесполезно это было. Джебраилов ее сразу же предупредил с издевкой: «Здесь ты можешь кричать сколько твоей душе угодно!»
Она еще долго ходила к нему домой, около полугода. Это был просто фантастический, громадный срок для Джебраилова, живущего по песенке: «Менял я женщин, трум-три-ям-ти, как перчатки…» Старший майор щедро ей платил, так что она могла и не работать, и посылки в тюрьму таскать. Но скоро все это закончилось. Ее сестру вместе с мужем отправили в один и тот же лагерь в Норильске, но разными этапами, а Соня надоела старшему майору своей покорностью и незлобивостью. На прощанье он сделал ей дорогой подарок, а в «довесок» сообщил, что ее сестра заболела в пути, на пересылке, и умерла.
Это и подкосило Соню. Не выдержала она стольких «подарков» судьбы и покатилась по наклонной. Это подниматься долго и трудно, а скатиться можно в один миг. А охотников помочь, а то и подтолкнуть, хоть отбавляй. Спаситель один в жизни бывает, если повезет поверить в спасителя, а губителей – великое множество. Да и профессиональных поставщиков «живого товара» во дворцы и дачи власть держащих хватает с лихвой. И Соня «пошла по рукам»! Когда она впервые «кольнулась», ей уже трудно было сказать, казалось, что всегда, не было другого времени, не было чистоты, не было девичьих грез о любви и единственном любимом.
Соня очень переживала, что не может в достаточной мере заботиться о племяннике, но она себе уже не принадлежала, наркотики стали ее всепоглощающей страстью, иногда просто невыносимой.
Соня много зарабатывала, клиентура у нее была из самых верхов, один раз даже Тагирова обслуживала, но она оказалась не в его вкусе, Мир-Джавад Аббасович любил рослых и пышных девочек, они, очевидно, компенсировали его маленький рост. Тагирову очень понравилась фраза Наполеона: «Генерал, вы длиннее меня на целую голову, но я могу быстро лишить вас этого преимущества». И он всюду ее повторял. И странно: те люди, которым он это говорил, лишались и головы и тела сразу, вместе, и до захода солнца мулла уже провожал их бренные останки, завернутые в белое покрывало, в могилу.
Сарвар почему-то потерял аппетит. Такой стол, как сегодня, он мог видеть лишь у Илюши, почему ему так нравилось бывать у него на праздниках.
– Что не ешь? – спросил отец, переводя дух и тайком расстегивая верхнюю пуговицу на брюках. – Это тебе не баланду хлебать! Хотя и баланда – это вещь, горячая если. В шахте намерзнешься, горячее хлебаешь, ложку за ложкой жизнь в себя вливаешь. Пайку хлеба маленькими кусочками колупаешь и жуешь. Рай!.. А здесь – царская еда. Султану только так подают.
– Смотри, не лопни! – схамил откровенно Сарвар.
Все большее и большее раздражение вызывал в нем его родной отец.
Тихая и кроткая Соня не выдержала и влепила племяннику подзатыльник.
– Не смей так разговаривать с отцом!
Сарвара настолько ошеломил этот подзатыльник, что он не нашелся, что ответить, и промолчал.
«Надо же, овца боднулась!» – незлобиво подумал он, даже раздражение исчезло, аппетит даже появился.
И он стал есть, подражая отцу, жадно глотая, изредка посматривая, мол, как это тебе нравится. Но отца это не раздражало, напротив, забавляло.
Но это неожиданно стало раздражать Соню.
– Не боишься лопнуть от жадности? – зло спросила она, так непохоже на нее.
Но Сарвара ее злость только позабавила.
После обеда они долго пили чай со сладостями. Отец до ареста очень любил пахлаву, мог съесть если не целый «лист» или противень, то половину умять для него ничего не стоило. И теперь, вялый от сытости, он с благоговением и со слезами на глазах отламывал маленькие кусочки пахлавы и бережно отправлял в рот, запивая таким крепким чаем, что он больше смахивал на чифирь.
– Вы не представляете себе, сколько раз мне снился сон: я ем пахлаву, – растроганно рассказывал отец. – И во сне я съедал целый «лист», а мне несут второй, и я судорожно соображаю: как я справлюсь с этим, вторым. А утром проснешься, кишки от голода сводит, тут и тарелка «шрапнели» чудом кажется. Работа в шахте каторжная, еды хватает на час работы. Вечное чувство голода. Меня один умный человек научил растягивать пайку и еду. Я утреннюю пайку суну за пазуху, а кашу ем маленькими глотками, крошечными порциями, долго жую, все время завтрака. Надо умудриться так рассчитать, чтобы, когда погонят из столовой на работу, последнюю ложку каши забросить в рот и сосать медленно, с наслаждением до самой шахты…
– Давай только не врать! – взорвался ненавистью Сарвар. – Голодом вас там никто не морил. Я это точно знаю. Конечно, тебя не на курорт посылали, только…
– Только, только! – прервал его гнев отец, с исказившимся лицом. – Что вы здесь можете знать? Нам тоже показывали фильм о перевоспитании на Соловках. А четверть работяг среди нашего брата, заключенного, там побывали. Так они рассказывали совершенно другое.
– Не удивляюсь! – постарался скрыть рвущуюся ненависть Сарвар. – Когда это враги революции правду говорили? Клевета врагов всем хорошо известна. Но ты теперь не враг, раз тебя освободили, поэтому нечего мне повторять ложь, которой я все равно не поверю.
Боль исказила лицо отца.
– Это не ложь! – устало и тихо произнес он, закрывая глаза.
– Тебе надо отдохнуть! – забеспокоилась Соня. – А ты иди делай уроки к Илюше! – добавила она Сарвару.
Сарвар злобно сверкнул на нее глазами, молча оделся и ушел.
Навстречу ему попался старый друг отца. Он явно торопился к ним. Сарвара он, конечно, не узнал, столько лет прошло.




![Книга Убийство в морге [Ликвидатор. Убить Ликвидатора. Изолятор временного содержания. Убийство в морге] автора Лев Златкин](http://itexts.net/files/books/110/oblozhka-knigi-ubiystvo-v-morge-likvidator.-ubit-likvidatora.-izolyator-vremennogo-soderzhaniya.-ubiystvo-v-morge-250833.jpg)



