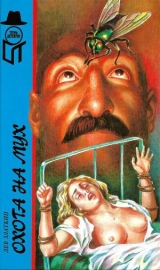
Текст книги "Охота на мух. Вновь распятый"
Автор книги: Лев Златкин
Жанр:
Политические детективы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 35 (всего у книги 43 страниц)
Нина Александровна ждала сына, волнуясь необычайно. Она так никогда не волновалась в жизни, даже когда ей отец Илюши сделал предложение. Шутка ли: сын неожиданно объявил, что приведет в дом знакомить свою невесту. Нина Александровна сразу же почувствовала себя старой, хотя до сорока еще несколько лет, да и ни единого седого волоса. Она даже втихомолку всплакнула: только, казалось, еще вчера ее малыш делал свои первые шаги, и вот пожалуйста… Невеста!.. Нина Александровна уже давно, где-то с пятого класса сына, обратила внимание на худенькую девочку с неправдоподобными большими синими глазами, скорее куклы, чем человека живого, из плоти и крови. Но эти глаза неотступно следили за ее сыном куда бы он ни шел, где бы ни стоял, что бы ни делал. Нина Александровна уже тогда ощутила укол ревности: на ее сына претендовала уже другая женщина. Пусть пока в этой женщине и было женского лишь в глазах. Но ничто не бежит так быстро, как время. Нина Александровна каждый год видела Валю на дне рождения сына и все было по-прежнему. Но в прошлом году Нина Александровна впервые заметила, что и ее сын ловил взгляды Вали, а когда они танцуют вдвоем, мир перестает для них существовать. И женское в этой девочке было уже не только в глазах. И, странно, Нина Александровна испытала не ревность, а грусть.
Когда Илюша заговорил с ней о своих планах на будущее, Нина Александровна поначалу воспротивилась, но потом вдруг успокоилась и согласилась, только выдвинула единственное условие: жить они должны у них. В ту семью она Илюшу не пустит. На том и договорились.
«И правильно! – подумала она. – Никто не знает, чем жизнь обернется. Время страшное теперь, мало того, что неподвластное, так еще абсолютно непредсказуемое: останешься ли ты завтра на свобода, не сшибет ли тебя ненароком редкая машина, не разорвет ли инфаркт твое сердце, и оно, измученное, перестанет на тебя работать, как каторжное»…
Фатализм Нины Александровны поддерживало одно происшествие, случившееся лично с ней в редакции. В незабываемом тридцать седьмом году, в один из ясных дней весны, ее вызвал главный редактор и, ни капельки не смущаясь, заявил: «Уважаемая Нина Александровна! Я давно слежу за вами, наблюдая, так сказать. Вы очень сдержанный и неболтливый человек. Хороший работник и – честный коммунист. Я хочу, чтобы вы стали моей любовницей. Лучше мне не найти».
Так как до этого момента ни единого слова не было сказано, ни одного взгляда не брошено, не было ни тени ухаживания, Нина Александровна, естественно, опешила.
«Тенгиз Ахмедович! – воскликнула она в гневе. – Неужели, после стольких лет знакомства, вы могли подумать, что я способна изменить мужу?»
«Что вы, моя дорогая, ни в коем случае никогда не изменяйте! – обиделся на что-то главный редактор газеты. – Когда он здесь, вы будете только с ним, когда он уезжает, а он так часто и надолго уезжает… Я буду вашим вторым мужем, а вы моей второй женой. Я так решил, иначе мы не сработаемся, и вам придется искать другое место службы»…
Нина Александровна молча повернулась и вышла из кабинета шефа. Всю ночь она проплакала, а когда утром пришла на работу с готовым заявлением об увольнении, чтобы взять документы, выяснилось, что Тенгиза Ахмедовича на рассвете арестовали. И новый шеф держался с ней предупредительно, подозревая, что это ее рук дело. А потому, только она заикнулась, что «нельзя ли устроить на работу сына после окончания школы», как согласие было не только дано, но и свободное место разъездного корреспондента стали держать до окончания учебного года…
Услышав шум отпираемой двери, Нина Александровна встала, чтобы встретить сына с его невестой, но не смогла сделать ни шагу, так и застыла, не сводя глаз с двери, ведущей из коридора в комнату. Влюбленные с сияющими лицами вошли в комнату, и Илюша сразу же заметил, что с матерью что-то неладное, но не знал, чем ей помочь.
А Валя сразу же все поняла. Женщина часто ошибается в мужчине, но в женщине никогда. И решила все сразу и единственно верным путем: подошла к Нине Александровне, обняла будущую свекровь и крепко прижалась к ней. Нина Александровна почувствовала, как тревога и сомнения оставили ее душу, будто и не было, она поняла, что эта девочка – не «разлучница», а дочь, ее дочь, которая до этого знала так мало ласки, тепла и заботы. И слезы сами хлынули у нее из глаз.
Илюша не любил, когда у матери текли слезы по щекам.
– Пойду, поставлю чайник подогреть, – сказал он. – А то у вас без чая запаса влаги не хватит.
И ушел на кухню.
17
Серега Шпанов проснулся рано утром. Так рано, что трудно понять, ночь еще или пора уже вставать в школу. Но сегодня было воскресенье, можно было и не просыпаться так рано.
«Неужели я столько проспал? – удивленно подумал Серега. – Ну, молоток! Нажрался, как удав, и спал так же… Да, вспомнил! Сегодня же меня обещали устроить на работу учеником. Буду сапожником! Хватит сидеть на шее матери и ходить голодным. Меньше буду гонять по улицам, меньше учить уроки, все одно, в институт не примут, да и на хороший завод не устроишься… Сапожник! До сих пор я слышал это слово только как ругательство, когда в кино, во время сеанса, что-нибудь случается: лента рвется, звук пропадает. Тогда все свистят, топают ногами и кричат: „Сапожник!“»
Рассвет блеклой медузой вплывал в окно. Все равно вставать не хотелось. Когда настоящее и будущее страшит, хочется забраться под одеяло и смотреть прекрасные сны, и, согревшись, мечтать, мечтать, мечтать… Придумывать себе сцены, в которых ты один самый смелый, самый умный, самый благородный, самый… И красавицы, одна за другой, предлагают наперебой свое сердце, а ты в растерянности, не зная, кого и выбрать.
Встать все равно пришлось. Елизавета Израилевна тихо постучалась к нему.
– Сережа, ты спишь? Пора вставать. Изя собирается к старому Пинхасу. Умывайся и иди завтракать. Я пирожков напекла. Вставай, я знаю, что ты не спишь!
Оказалось, вкусно пахло так из кухни, а не в том дремотном сне, из которого так не хотелось выходить. Осознав этот факт, Серега мгновенно выскочил из-под одеяла, молодой здоровый организм опять требовал еды, как будто не он вчера получил недельную норму. Но желудок, как дети, сколько ни дай, все будет мало да еще может и взвыть нахально: «Это когда еще было?»
На завтрак Серега получил, как и все, четыре пирожка с мясом и рисом.
«Да! – вздохнул он про себя. – После вчерашнего изобилия… „Сытый голодного не разумеет“».
Однако пирожки умял и выпил с удовольствием чашку какао, после чего пошел одеваться…
Старый Пинхас оказался маленьким юрким человечком лет пятидесяти. Несмотря на свой возраст, он был почти черноволосым, седина тронула чуть-чуть его виски, и Серега был уверен, что только арест и осуждение сына окрасили его виски. У Сереги был очень хороший слух, и он кое-что слышал из разговора за столом, который вели мать с сыном.
Из черных печальных глаз старого Пинхаса рвалось наружу огромное горе, без конца и края.
– Хороший мальчик! – старый Пинхас внимательно посмотрел на Серегу. – Гиюр ему не помешал бы, конечно, но что делать… Садись, мальчик. Как тебя зовут?
– Сережа! – буркнул Серега, старый Пинхас на него не произвел никакого впечатления: ни хорошего, ни плохого.
Израиль обменялся со старым Пинхасом набором непонятных Сереге фраз, потому что они были сказаны на идиш, и ушел, прихватив с собой большой баул, набитый, судя по резкому запаху кожи, обувью.
– Садись, Сережа, рядом со мной, смотри и учись! – пригласил старый Пинхас. – Я тебе покажу, для чего ты будешь учиться.
Серега сел рядом с мастером и здесь впервые обратил внимание, какие у маленького ростом человека большие натруженные рабочие руки, ладони в бугристых мозолях.
Старый Пинхас взял колодку и стал демонстрировать Сергею свое умение, не закрывая ни на минуту рта, засыпая его словами:
– Учись, пока я жив! Я – хороший мастер, и у меня не зазорно учиться. Кем евреи только не работали в своих скитаниях? А почему? Потому что мы занимались обычно только тем, чем коренное население брезговало заниматься. Еще в книге Бытия рассказывается, как Иосиф, представляя фараону братьев и отца, посоветовал им назваться пастухами. «Ибо мерзость для египтян всякий пастух». В те давние времена заниматься пастушеством у египтян считалось непристойным, но творог и масло они любили есть и молоко пили за милую душу. Фараон и обрадовался, что пришли пастухи, и отдал им стада и табуны. Хитрый был Иосиф, настоящий сын своего отца Иакова. Это тот самый Иаков, которого антисемиты называют «первым жидом» на земле. Он сумел перехитрить и своего отца, и старшего брата, купив у него за чечевичную похлебку первородство, и тестя, уведя большую часть его овец. Но этот Иаков и с Богом самим боролся и остался непобежденным, и за любимую девушку, дочь Лавана, служил тестю целых четырнадцать лет… Хитрый мальчик был Иосиф… Но прошло много лет и пришел фараон другой династии. А египтяне уже научились у евреев, как обращаться со скотом. И новый фараон сказал: «Давайте ухитримся против него, чтобы он не умножился». И еврейский народ стали угнетать, убивать его новорожденных сыновей. Пришлось бежать из Египта. С тех пор так и пошло-поехало. В Европе был другой вкус. Европейцам не нравилась торговля. Крестьяне пахали, а знать пьянствовала и грабила на больших дорогах или в дальних странах. Грабеж считался вполне приличным занятием. Торговать, видите ли, неприлично, а грабить – самое джентльменское занятие. «Мерзость для египтян» – торговля перешла в руки евреев. Владыки получали миллионы от торговли, поэтому давали привилегии, защищали от дворян своих и от черни, всегда готовых грабить, кого им разрешат и отдадут. Правда, время от времени нас все же грабили и жгли, но потом опять давали привилегии. Вместе с евреями по Европе шел и прогресс, мы дали миру международную торговлю, развили кредит и банковское дело, мы снарядили Колумба на открытие Америки. Без торговли все столицы мира остались бы по сей день грязными деревнями и селениями… Но европейцы быстро научились этому делу, и нас опять изгнали: из Англии, из Испании, из Франции. Мы перебрались в Германию, Польшу, а после раздела Польши оказались в России.
И здесь нас ждали самые тяжкие испытания, самые страшные погромы. Не только черносотенные, о которых ты, наверное, слышал. Ты знаешь, например, что гайдуки Хмельницкого, да, да, того самого Богдана Хмельницкого, освободителя Украины, вырезали треть всего еврейского населения Польши и Украины, более двухсот тысяч человек. Они одни уничтожили больше евреев, чем римляне, инквизиция и крестоносцы вместе взятые. Смешно, но Богдан Хмельницкий в детстве звался Борух Хмель, а потом его один бездетный вельможа крестил в Богдана Хмельницкого, и он всю жизнь стирался быть святее папы римского. Как и Великий Инквизитор Торквемада, был обрезан на восьмой день жизни, что не помешало ему и обрезанным резать обрезанных… Конформисты – беда еврейского народа. Мы, конечно, не без предрассудков, иные могут и не нравиться. Но разве лучше, когда предрассудки начисто ликвидированы, душа человека превращается в пустое место, где и трава не растет, и нет даже надписи: «Воспрещается! По газонам не ходить!» Попробуй напомнить тому же Грише, что есть на свете, должно быть, во всяком случае, нечто воспрещенное, что делать ни в коем случае нельзя, от чего сама рука должна отдергиваться, словно ее бьет током. А он тебе в ответ: «А почему нельзя?» И он никогда не поймет, что есть вещи, которые доказать невозможно. Но эти-то вещи и составляют разницу между порядочным человеком и покладистым. Раньше нравственная ответственность ощущалась повсюду. И даже тот, кто шел на нравственное преступление, старался стушеваться, а не выпячивать свое уродство и не кричал: «А почему бы и нет? Почему нельзя?» И страдал и каялся.
– «Бога нет – тогда все можно!» – щегольнул услышанной от старого Моти фразой Серега.
– Не только! – уточнил старый Пинхас. – Нравственность лопнула, и молодежь пустилась в погоню за своей долей счастья, перепрыгивая через какие угодно препятствия к светлому будущему. И при этом они уверены в своей правоте, держат голову высоко и гордо. Как им доказать, что на человеке висит моральный долг, и тот, кто осознает это, знает – «почему нельзя»! А от таких, как Гриша, распространяется нестерпимая вонь деморализации. Диалектика диалектикой, но есть вещи недозволенные, должна быть в человеке внутренняя брезгливость. Без этого ощущения внутренней брезгливости человек – калека! Лейба приходил извиняться за своего сына, и мы обрыдались за своих потерянных сыновей.
– Сколько получил ваш сын? – спросил Серега, из-за сонливости прослушавший главное во вчерашнем разговоре.
– Десять лет без права переписки! – глухо ответил старый Пинхас.
Он оставил недошитый башмак и достал большой носовой платок в крупную красную клетку, потому что слезы градом полились из его глаз.
– Ну не переживайте так! – попробовал его утешить Серега. – Говорят, там день за два засчитывают тем, кто по-ударному трудится. Через пять лет вернется!
Серега утешал не только старого Пинхаса, но и себя, он высказывал свои тайные надежды на скорое возвращение отца, исчезнувшего в тридцать шестом году с тем же сроком и формулировкой.
– Нет, Сережа! – обреченно вздохнул старый Пинхас, комкая мокрый платок в руке. – Я шил сапоги одному «энкеведешнику». И я спросил его: очень ли большой этот срок. И он мне ответил, что больше некуда. Я удивился и спросил: неужели десять лет может быть больше двадцати, а я слышал, что и двадцать пять дают. А он мне ответил, что эти десять лет дают в такое место, откуда пока еще ни один человек не возвращался. И он показал пальцем вот в этот потолок…
– Он врет! Врет! – закричал отчаянно Серега и раздетый бросился прочь из комнаты старого Пинхаса на улицу.
Он бежал, не замечая холода, странных взглядов прохожих, не ощущая, как ветер срывает слезы с его щек. Только в своей комнате, бросившись на кровать и дав себе волю в слезах, он впервые осознал и понял, что осиротел.
Через полчаса старый Пинхас принес одежду Сереги и о чем-то долго говорил с Елизаветой Израилевной.
18
Счастье Варвары с Игорем длилось недолго. Плод единственного посещения комиссара, когда она ждала сына, а лишил ее девственности его отец, рос незаметно лишь до поры до времени. Затем приступы тошноты стали столь частыми, что однажды и Елена Владимировна стала невольным свидетелем.
– Милочка, ты, кажется, подзалетела! – насмешливо-участливо спросила она. – Ты, надеюсь, понимаешь, что рожать тебе ни в коем случае нельзя.
– Почему? – враждебно спросила Варвара, измученная постоянной рвотой.
– Хотя бы потому, что я еще слишком молода для роли бабушки! – усмехнулась Елена Владимировна. – Ясно?
– Нет, не ясно! – озлобилась Варя. – Я от вас, по-моему, ничего не требую. Рассчитайте меня. Устроюсь на работу и буду воспитывать ребенка.
Елена Владимировна поначалу даже онемела от такой неслыханной дерзости и неподчинения своей «рабыни», как она ее про себя называла.
– Дура! – она сразу превратилась в бешеную фурию, разъяренную донельзя. – Шантаж со мной не пройдет! Знаем мы эти: «Я от вас ничего не требую! вы мне не нужны!» В гробу видела, в белых тапочках.
– Что вы еще хотите от меня? – взмолилась Варвара и заплакала, продолжая выкрикивать сквозь слезы: – Вы и так меня эксплуатируете бесплатно. Я работаю по двенадцать часов в сутки: убираю, мою, готовлю, стираю, штопаю, по магазинам хожу. Я для вас и кухарка, и прачка, и уборщица. Еще к сыну своему в любовницы определили, обещали платить и ни копейки не заплатили…
Елена Владимировна влепила ей звонкую пощечину и мгновенно прекратила истерику.
– Для чего тебе деньги? – сухо заметила Елена Владимировна. – Я плачу тебе самым дорогим, что есть только у человека: жизнью! Подумай сама: если бы не я, ты уже сдохла бы с голода. Вспомни, какая ты была дохлятина, когда я тебя подобрала в тридцать первом году? Неблагодарная. Я тебе специально не плачу денег, чтобы ты не смогла никуда уехать от меня… Она будет работать! А документы у тебя есть? Твой паспорт у меня лежит. Я тебе его выправила, я его могу и уничтожить. И куда ты денешься тогда? Знаешь? В Сибирь, на Магадан, в Норильск, на Колыму. Твоя жизнь в моих руках, беглая.
– Я не беглая! – возмутилась Варвара. – Сколько мне было лет, когда вы меня подобрали? Забыли?..
– А сколько лет тебе теперь? – ехидно спросила Елена Владимировна. – Охрана на всех этапах обожает именно такой возраст.
– А вы не боитесь, что и вас привлекут за укрывательство? – «укусила» Варвара.
Сразу же последовала новая пощечина.
– Дрянь! Еще угрожает! – изумилась дерзостью служанки Елена Владимировна. – В общем, так: я договорюсь с врачом и отведу тебя к нему. И попробуй откажись! – закончила она с угрозой в голосе.
Варвара убежала в свою комнату, это она так привыкла говорить: «в свою». Но она могла только так думать, потому что в этом доме у нее ничего своего не было, даже собственное тело хозяева считали не ее и распоряжались им как хотели. И плакала она горько от невыносимого одиночества. Игорь тоже только пользовался ее телом, ей это, правда, нравилось, она, по-своему, любила этого «барчука», но он ни о чем с ней не говорил, считав, очевидно, что «о чем же можно говорить с прислугой». Удовлетворив свои естественные потребности, он на прощанье целовал ее, говорил «спасибо» и шел заниматься своими делами, нисколько не интересуясь тем, что она чувствует, оставаясь одна.
Одна злобная мысль пришла ей в голову так неожиданно, что Варвара испугалась. И постаралась поначалу прогнать ее прочь. Только с этой минуты, что бы она ни делала, чем бы ни занималась, эта мысль возвращалась к ней, овладевая всем ее существом, соблазняла и совращала. И где-то всего через час Варвара перестала страшиться ее и ничего плохого не находила в этой мысли.
«И никакой это не шантаж! – уговаривала она себя. – Я поговорю с ним по-человечески! Неужели не поймет? Его, между прочим, ребенок. О, боже! Грех-то какой! Игорьку он будет братиком, а я…»
Ничего лучшего не придумала Варвара, как только «взять за горло» самого комиссара. Человека, перед которым трепетали все, в стольном городе и во всей республике, так же как и перед свирепым руководителем партии Тагировым, а может, даже и больше. Человека, о чьей храбрости и решительности ходили легенды, а о жестокости предпочитали помалкивать, себе дороже. Человека, который не гнушался, когда было особенно много работы, самолично допрашивать и пытать арестованных, и не было ни одного, кто бы сумел выстоять и не оговорить не только себя, но и еще пару десятков человек.
Достойного соперника нашла себе Варвара, впервые в жизни решив взбунтоваться. Но эта мысль овладела ею полностью, подчинила, и Варвара себе уже не принадлежала. Да и не было у нее других мыслей. Откуда? Может, в детстве и были какие, да от голода умерли раньше нее. Только и помнила тот злосчастный день, когда их семью, в числе прочих раскулаченных, везли на подводах на ближайшую железнодорожную станцию, мать сунула Варьке узелок с нехитрой снедью: кусок хлеба, пяток вареных яиц, столько же вареных картофелин, естественно, в два раза крупнее, и кусок нежно-розового сала, да и не кусок, скорее, кусочек. Сунула узелок и шепнула: «Беги, доча! Может, хоть тебя Господь спасет! На смерть нас везут!» И столкнула Варьку с подводы на повороте дороги, когда стали подъезжать к железнодорожной станции. Конвойные не заметили побега маленькой девочки, сколько ей тогда было, лет десять, а может, и заметили, так не стрелять же в ребенка, а бежать тем более не хотелось им. Это только через несколько лет выйдет указ, по которому начнут стрелять и детей. А в той гражданской войне с крестьянством детей не стреляли. Их просто обрекали на смерть от голода и холода. Сколько трупиков видела Варька за время своего недолгого скитания, не сосчитать. Столько лет прошло с тех пор, а она нет-нет да и просыпается, крича от ужаса, вся в поту. Варвара сама уже не помнила, каким образом ей удалось залезть в товарный состав, на платформах которого стояли какие-то машины, покрытые брезентом, под который Варька и спряталась. Села и поехала, не пытаясь разгадать великую премудрость, почему машины столь тщательно прикрыли брезентом. И поехала в этот южный город, где у нее никого не было, ни одного родственника, да и где жили теперь все ее родственники, трудно было ей понять. Изголодавшись, она решилась на кражу и залезла в сумочку красивой дамы, как впоследствии выяснилось, жены ответственного работника НКВД. Елена Владимировна цепко схватила заморыша, а так ловко поймав, привела к себе домой, крепко держа ее за руку всю дорогу, вымыла в кадушке, тогда у нее не было столь прекрасной квартиры, и накормила. С тех пор Варька была у нее в беспросветном рабстве.
Одно дело придумать что-то, а совсем другое – это что-то сделать. Комиссара не так просто было застать одного, чисто физически, не говоря уж о том, чтобы решительно переговорить с ним. Дома он был под неусыпной охраной Елены Владимировны, а пойти к нему на его работу… Даже подойти было страшно к этому зданию, не то чтобы войти туда. Да и шансов на то, что комиссар примет ее, не было никаких. У него и часов приема-то не было.
«На ловца и зверь бежит!»
Варвара несколько дней подряд вставала ни свет ни заря и уходила из дому будто на рынок, а на самом деле караулила в подъезде дома приезд комиссара.
Укараулила! Как только комиссар появился в подъезде, Варвара собрала все силы, все свое мужество и смело преградила дорогу своему насильнику. Тот, занятый своими мыслями и устав от бессонной напряженной ночи, в городе активизировались германские агенты, до которых руки не доходили последние годы, вздрогнул от неожиданности и схватился за пистолет, правда, признав сразу Варвару, устыдился своего испуга.
– Мне надо поговорить с вами, Викентий Петрович! – решительно заявила Варя.
Комиссар усмехнулся. Глядя на ее ладное тело, он сразу вспомнил ту хмельную ночь, когда он забрался к этой почти что девочке в постель и насильно лишил ее невинности.
«Как это я забыл о ней? – удивился себе комиссар. – „Назвался груздем, полезай в кузов!“ – подумал он самодовольно. – Видно, понравилось. Жаль, что придется с ней расстаться…»
Дело в том, что накануне вечером к нему пришел старший майор Джебраилов и, вроде бы смущаясь, это с горящими-то от возбуждения глазами, положил на стол донесение капитана, имя которого комиссар уже успел позабыть. Главное, в этом донесении была отражена вся подноготная Варвары: и когда родилась, кто родители, когда раскулачили, куда высланы и где похоронены.
«Отличная работа! – отметил про себя комиссар. – Так бы шпионов разоблачали, цены бы тебе не было!» – подумал он с непонятной горечью. Откуда появилась эта непонятная горечь, он и сам не смог понять, комиссар был плоть от плоти сложившейся административной системы, верным ее слугой, и сам не раз пользовался такими же подлыми методами, а иначе как бы он сумел взобраться на столь высокий пост?
«Шустришь, Джебраилов? – усмехнулся комиссар, чувствующий себя среди интриг как рыба в воде. – За глотку меня хочешь взять? А я тебя сейчас „умою“»!
– Если я не ошибаюсь, – доброжелательно спросил комиссар, – именно ты, старший майор, был тогда ответствен за проверку всей прислуги ответственных работников?
Джебраилов побледнел настолько, насколько ему позволила его смуглая кожа, и хотел спрятать обратно в папку донесение капитана.
– Нет, нет! Ты уж мне оставь это донесение! – приказал очень довольный комиссар, произведенный эффект убедил его, что он на правильном пути, если разработать Джебраилова, может, что-нибудь путное получится. – И через час чтобы у меня на столе лежала твоя объяснительная записка. Через час, не позже.
Джебраилов ушел, проклиная свою оплошность и несообразительность. Он никогда бы не посмел шантажировать своего шефа, так он его боялся и трепетал перед ним, но личный секретарь Тагирова Морданов настоятельно рекомендовал ему это сделать. Тагирову мешал русский ставленник Москвы. Тагиров страшно пил, и пьяная болтовня его не была тайной для комиссара. Тагиров мечтал стать самостоятельным от Москвы и полностью распоряжаться богатствами республики. Для этого он через своих эмиссаров заигрывал с соседней мусульманской страной, на треть которой он тоже претендовал. А его все заигрывания и высказывания переводились на сухой язык сводок и донесений. Однако комиссар знал прекрасно о крепкой и старинной дружбе Тагирова с Берией, поэтому все свои реляции он и посылал лишь на имя государственного комиссара НКВД Лаврентия Павловича Берии, подавая дело так, что пьяный «бред» оценит лишь такой светлый ум, каким считал себя неизвестно почему народный комиссар. Берия его ценил. Эти донесения уравновешивали донесения Тагирова, в которых он грязно «поливал» комиссара и требовал его либо ликвидировать, либо отозвать в центральный аппарат, а на его место поставить «фанатически преданного идеям великого вождя товарища Сталина старшего майора Джебраилова». Берия весь этот материал обеих сторон держал в одной папке, в своем личном сейфе, но ходу донесениям не давал, как-никак вместе с Тагировым он работал в гражданскую войну еще в дашнакской и муссаватской контрразведках, а о жене комиссара у него сохранились самые светлые и нежные воспоминания…
– Вы меня не слушаете! – вернул комиссара к действительности голос Варвары. – У меня будет от вас ребенок! Неужели непонятно?
Комиссар вздохнул от невеселых мыслей:
«В домино так дети играют: выстроят костяшки друг за другом, последний толкнут, и все падают по очереди, чинно, покорно, ни одна не устоит, не покачнется, раздумывая: „а стоит ли?“ Кто-то мне сказал: „Принцип домино!“»
– Викентий Петрович! – испуганно воскликнула Варвара, недоумевая и пугаясь выражению лица комиссара.
«Нет, как все-таки события соединяются, цепляются: звено к звену, и цепочка готова, – думал комиссар печально. – Или цепи? А носить мне их вовсе не хочется, с детства ненавидел бездельников с веригами. Страдальцы чертовы!»
– Викентий Петрович! Что мне делать? – послышался голосок Варвары.
– А что ты сама хочешь? – очнулся от невеселых дум комиссар. – У тебя есть какие-нибудь планы или желания?
Варвара несказанно обрадовалась. Она ожидала, что комиссар начнет на нее орать, ждала, что он может ее и ударить. Но столь благожелательный вопрос всколыхнул в ней надежду на освобождение. Что может делать с людьми ласковое слово!
– Я просила Елену Владимировну рассчитать меня, но она мне не хочет ни копейки платить. А я хотела бы снять комнату, устроиться куда-нибудь на работу и воспитывать ребенка. Мне много не надо. Неужели такую малость трудно мне дать?
– Я переговорю с Еленой Владимировной! – успокоил Варвару комиссар. – Она тебя отпустит и расплатится с тобой, по-честному расплатится, не бойся! – добавил он, заметив испуг и недоверие на лице Варвары. – А я помогу тебе с квартирой!
И комиссар дружески улыбнулся потрясенной Варваре. Она ко всему себя подготовила: к ругани и мату, к угрозам, даже к побоям, но не к обычному ласковому человеческому тону, такому доброжелательному. И она потому разрыдалась так, как, наверное, не плакала даже в раннем детстве.
– Успокойся, глупышка! – комиссар достал носовой платок и лично вытер слезы с лица Варвары. – Я тебе устрою уютное гнездышко, где ты будешь счастлива… со мной! Я тебя буду там навещать.
Это было уже объяснимо и понятно. Варвара сразу успокоилась.
«Все они, мужики, одним миром мазаны, через постель на все согласны, – подумала она. – Там они на все согласны, как воск, податливы»…
И улыбнулась комиссару так обворожительно и завлекательно, что у того заныло не только сердце, но и значительно ниже.
«И что это я про нее забыл? – с досадой подумал комиссар. – Да нет, опасно! Елена Владимировна враз усечет. Один раз получилось, и то – подарок! Где живешь, там не…» И комиссар, как обычно, завершил матерщиной.
Варвара отправилась на рынок, а Викентий Петрович поднялся в свою квартиру. В переговорах с женой обычный, человеческий тон был бы непонятным и тяжелым.
«Елена Владимировна заведется с пол-оборота и тогда ее ничем не остановишь и ничем не образумишь».
Поэтому комиссар решил действовать по-другому.
– Большие неприятности! – сразу заявил он после традиционного обмена поцелуем. – Мир-Джавад под меня копает.
– Тагиров? – удивилась жена. – Что нужно этому мерзкому карлику? – брезгливо спросила Елена Владимировна. – Если он лично пытает и убивает своих подчиненных, это еще не значит, что он может и НКВД прикарманить…
– Джебраилова тащит! – перебил жену комиссар.
– Любого идиота, лишь бы был нацмен! – вспыхнула жена.
– Идиот, не идиот, но он мне чуть было не подсуропил пилюлю! – пояснил Викентий Петрович. – И знаешь, какую?
– Какая-нибудь клевета насчет меня? – заранее обиделась Елена Владимировна, у которой рыльце всегда было в пушку.
– Ну, что ты! – снисходительно ответил комиссар, привыкший к вольному поведению своей половины, правда, ничем не отличающейся от второй половины, его собственной. – «Жена Цезаря вне подозрений!» Кстати, кто такой был этот Цезарь? А то употребляем пословицы и поговорки, а четкого представления нет. А вдруг кто спросит?
– Кто спросит? Тагиров? – насмешливо протянула жена. – Мир-Джавад Аббас-оглы? Так у него никакого образования нет. В детстве, может, и посещал медресе, ходил в мечеть, да боюсь, что ни одной суры Корана не помнит… А Цезарь – император Древнего Рима! Сам понимаешь, о женах простых смертных такое не сочинят. Бедные жены простых людей не только всегда под подозрением, но и в синяках.
– За дело, за дело! – добродушно пробасил комиссар. – А кому не по делу, тем для профилактики, в счет будущих прегрешений.
Он весело рассмеялся. Елена Владимировна подозрительно посмотрела на мужа.
– Что-то у тебя не слишком большие неприятности, как я вижу! – заметила она. – Веселый очень.
– Этот идиот Джебраилов собрал все компрометирующие сведения о Варваре, – сказал очень серьезно комиссар, – да забыл, дурак, что сам занимался тогда проверкой. Я его поймал и «уел». Объяснительную написал.
– О Варваре собрал? – поразилась Елена Владимировна. – Как же он раскопал?
– Ну, мы умеем работать, когда захотим! – гордо произнес Викентий Петрович. – Пулат уже выяснил: Варвара кое-что ляпнула, когда паспорт получала.
– Я же рядом стояла и сразу отобрала его у нее! – удивилась жена.
– Вот, когда отобрала, тогда и расслабилась! – усмехнулся муж. – А она и ляпнула.




![Книга Убийство в морге [Ликвидатор. Убить Ликвидатора. Изолятор временного содержания. Убийство в морге] автора Лев Златкин](http://itexts.net/files/books/110/oblozhka-knigi-ubiystvo-v-morge-likvidator.-ubit-likvidatora.-izolyator-vremennogo-soderzhaniya.-ubiystvo-v-morge-250833.jpg)



