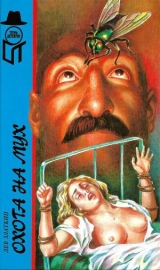
Текст книги "Охота на мух. Вновь распятый"
Автор книги: Лев Златкин
Жанр:
Политические детективы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 25 (всего у книги 43 страниц)
Когда через несколько часов Мир-Джаваду доложили о случившемся, он, как ни страшно это звучит, а выглядело еще более отвратительно, улыбнулся и почувствовал, что огромная тяжесть ноши, невыносимо давившая на него последнее время, исчезла, не надо было выполнять свое обещание, а только за этим и приходила к нему Гюли, женить сына на Нигяр, эта мысль приводила Мир-Джавада в такое состояние, что он начинал желать смерти своему сыну.
И его желание было услышано на небесах или в аду. Теперь ничто не мешало Мир-Джаваду быть со своей последней любовью, а может, и с первой, с единственной…
Нигяр, узнав о смерти матери, примчалась к любовнику, бросилась к нему на грудь и горько заплакала, с трудом выговаривая слова:
– Это я во всем виновата, она из-за меня покончила с собой…
А Мир-Джавад ее утешал:
– Глупенькая! Твоя маменька – заядлая наркоманка! Ей на все наплевать, кроме «дозы», а от волнения и злости, что я с ней не живу, она, видно, не рассчитала, вкатила себе двойную. Рано или поздно, но они все так кончают. – Он нежно поцеловал Нигяр. – Что ни делается, делается к лучшему. Я теперь свободен и смогу через год жениться на тебе…
– Я твоя официальная дочь. Тебе не разрешат.
– У меня есть такие документы, что разрешат. А не разрешат, бог с ними!
– А это? – и Нигяр погладила свой живот.
– Поживешь на даче, вдали от любопытных глаз, я буду тебя часто навещать. – Мир-Джавад утешал Нигяр, как маленького ребенка, гладя ее по голове. – Там и родишь, а мы потом усыновим или удочерим малыша, как уж получится.
И Мир-Джавад уговорил Нигяр отправиться с ним в спальню, закончить прерванное появлением Лейлы дело…
Так и теперь, получив известие о смерти сына и его матери, он помчался к Нигяр, но не поплакаться, а утешиться в том же смысле. Ей он и слова о происшедшем не сказал, а по его виду она и догадаться не могла, что этот веселый и влюбленный человек только что потерял единственного сына, ее предполагаемого жениха.
И провидица тщетно искала следы переживаний на лице Мир-Джавада, следы горя, слез. И поняла, что ее усилия были затрачены зря, даже чем-то она ему угодила и обрадовала. Провидица на время затаилась, но мысли о мести не оставила, тем более что убийцу Иосифа никто и не искал.
Бабур-Гани перестала жить. Нет, физически она еще жила: ела, пила, оправляла естественные надобности. Но жизнь протекала отдельно, вне ее, так, притаилась у окна, смотрит, смотрит, смотрит, но не живет.
Каждое утро она просыпалась, вернее, приходила в себя, так как без сильного снотворного не засыпала, и оглядывалась, словно желая убедиться: продолжается страшный сон или уже кончился, и она вновь ощутит горячее упругое тело молодого мужа. Рука ее привычно скользила, желая убедиться, но пустота холодным равнодушием встречала ее, и Бабур-Гани вновь ощущала холодное дыхание смерти.
И опять мучительный крик, вырвавшись из спальни, заставлял вздрагивать евнухов и прислугу и будил утомленных ночным бдением девочек.
Распутные девчонки, пользуясь тем, что Бабур-Гани, «хозяйка», как они почтительно ее называли, находится в прострации, нагло присваивали часть выручки, помимо подарков, и евнухи с прислугой также тащили все, что плохо лежит. Доходы Бабур-Гани упали вдвое, но она, словно и не видела, ничем не интересовалась, не только доходами, но и лицами, окружавшими ее, она их просто не замечала.
Единственное, чем занималась Бабур-Гани, это – раздача милостыни нищим у главной мечети. Бабур-Гани вставала вместе с солнцем и, едва ополоснув холодной водой лицо, садилась в свой белый «мерседес» и отправлялась к мечети. Ее появления уже ждали, и, как только машина подъезжала, толпа «слепых», «хромых», «парализованных», «безногих», с «язвами» окружала ее, и начиналась торжественная церемония вручения денег на молитву. Один за другим мимо Бабур-Гани проходили нищие, мелькали уродливые лица, лживые глаза, наглые в своей униженности. Те, кому удавалось получать милостыню первыми, меняли немного внешность и шли получать милостыню по второму кругу. Но по второму заходу денег на всех не хватало, и, как только Бабур-Гани уезжала, начинались свары, ругань, а то и драки…
Шло время, а Бабур-Гани не могла забыть Бабека. Как ни молила она аллаха, не было ей освобождения, и несла она дальше свой страшный груз воспоминаний.
Когда ей, желая помочь, хоть немного отвлечь от мрачных дум, сообщили о гибели прекрасного Иосифа и о смерти его матери, Бабур-Гани побледнела, словно смерть шла ей навстречу, и прошептала:
– Мертвые хватают живых, чаша терпения переполнена, и хлынет поток возмездия за грехи наши, и нет спасения от него…
Старший евнух, принесший, как ему казалось, благую весть, испуганно отшатнулся после этих слов и решил добровольно вернуть похищенное.
«С Гулямом ли мне заключить союз, или с чертом, мне все равно. „Один черт“! – как говорится… Он мне многое порассказал, с Мир-Джавадом его связывает давняя вражда, он его кровник, оказывается, Гулям выдал Ренку убежище Гаджу-сана, за что отец Мир-Джавада и поплатился головой, а бедный Гулям с тех пор не знает покоя и не будет знать, такова уж у него судьба… А у меня?.. А у меня уже ничего не будет. Ничего!.. Гулям мне все же помог: рассказал о Бабур-Гани, он с ней в прошлом имел одни интересы, но на чем-то она его, как он говорит: „наколола“… Что ж: его ненависть я обращу в свою пользу, присоединю и эти капли яда в напиток мести. А цену за исполнение мести я плачу самую высокую, какую только можно заплатить: своей жизнью согласна оплатить этот счет, но все силы ада, все силы неба я соединю в одну силу, и я верю, что она сметет с лица земли хоть частицу зла».
В тот день все было как всегда: вновь нищие устроили мерзопакостную карусель, потешаясь в душе над сумасшедшей миллионершей, и, казалось, ничто не нарушит установленный порядок.
Но когда иссякли деньги и нищие, ворча и переругиваясь, отошли от машины, перед Бабур-Гани предстал странник, закутанный, несмотря на жару, в плащ с капюшоном, закрывшим почти все его лицо. Он молча протянул руку и застыл в ожидании милостыни изваянием.
– Нет больше денег со мной! – хрипло проговорила Бабур-Гани, угадывая в ужасе знакомые очертания любимого тела погибшего супруга. – Приходи завтра утром, пораньше, я тебе и за сегодня дам монеты.
Странник, не слушая, пятился и пятился от нее, а когда отошел на пять-шесть метров, внезапно сбросил с головы капюшон, и перед ошеломленной Бабур-Гани предстал живой и невредимый Бабек, такой, каким она увидела его в первый раз, юный и цветущий, и лишь петля шелкового шнура на шее виднелась символом происшедшей трагедии.
«Бабек» вновь набросил на голову капюшон и стал быстро удаляться в сторону старого города, а Бабур-Гани, не в силах крикнуть, комок перекрыл горло, завороженно смотрела ему вслед.
Отойдя метров на сто, закутанный в плащ «Бабек» остановился, обернулся к Бабур-Гани и махнул рукой, приглашая ее следовать за собой. Бабур-Гани, словно загипнотизированная, села за руль «мерседеса» и медленно покатила, не приближаясь и не отставая, за позвавшим ее человеком.
Так они, не торопясь, и двигались. Но, въехав в старый город, Бабур-Гани застряла. Узкие улочки были в прошлом построены с таким расчетом, чтобы с трудом могли здесь разминуться два путника верхом на ишаках, а на скакунах уже было бы невозможно разъехаться.
Бабур-Гани бросила машину и засеменила за удаляющимся «Бабеком». Ноги плохо ее слушались, а сердце билось так, что, казалось, выскочит вот-вот из груди. Губы шептали:
– Бабек, остановись! Бабек, подожди! Дай объяснить тебе: я не знала, что у вас такая любовь, думала, присосалась, стерва, к деньгам. Прости!.. Остановись, умоляю тебя!
«Бабек» внезапно исчез, нырнув в глухую стену, но когда Бабур-Гани подбежала к тому месту, она увидела в стене приоткрытую калитку. То ли закрыть забыли, то ли специально оставили открытой.
Бабур-Гани, ни секунды не сомневаясь, рванулась в калитку. Но, как только она вошла в полутемный двор, сильные руки схватили ее, вогнали в рот кляп, а веревкой туго запеленали тело. Бабур-Гани не оказала ни малейшего сопротивления, даже ни разу не вскрикнула, только глаза ее все искали того, за кем она пошла бы и на край света, искали и не находили.
Бабур-Гани поволокли в дом, в большой комнате вдоль стен сидели мужчины и женщины, сплошь все в черном, и черная ненависть светилась в их глазах, и полумрак от небольшого количества света, попадавшего в комнату через маленькие окна, выходящие во двор-колодец, где свет самого солнца уже исчезал, словно замурованный четырьмя стенами, казалось, тоже чернел, давая больше мрака, чем света.
Бабур-Гани оглядела людей, смотревших на нее с такой ненавистью, так люто ее ненавидевших, и, наконец, увидела того, кого приняла за Бабека: он был похож, так похож, очевидно, младший брат или ближайший родственник, что не спутать его с умершим мужем Бабур-Гани никак не могла. Сейчас, когда он сидел без шелкового шнура на шее, он скорее походил на фотографию Бабека в юности, живую, но фотографию. А рядом с ним сидела девушка, очень похожая на Сол.
И, странно, Бабур-Гани ни разу не пришла в голову мысль, что ее заманили в ловушку, поймали на «подсадную утку». Она вдруг почувствовала облегчение, успокоение от того, что скоро все закончится, и муки совести перестанут терзать ее помутившийся ум.
На возвышении у центральной стены, сплошь завешанной коврами ручной работы, сидел седой мужчина, отец Бабека, а рядом с ним провидица. Бабур-Гани долго и пристально смотрела на нее, пытаясь вспомнить, где она могла с этой красавицей столкнуться, что она могла ей такого плохого сделать, но поняла, что не встречались они в этой жизни, но эта красавица – главное орудие судьбы.
Мужчина подал знак, и тотчас же у Бабур-Гани был вынут кляп изо рта, и она наконец-то вздохнула полной грудью.
– Признаешь ли ты себя виновной в смерти мужа и его возлюбленной? – глухо, едва сдерживаясь, чтобы не закричать, не сорваться, спросил отец Бабека, играющий роль председательствующего на этом импровизированном суде.
– Кто вы? – удивленно воскликнула Бабур-Гани.
– Мы – суд, собравшийся по воле неба, чтобы судить тебя и приговорить к лютой казни.
– Нет казни страшнее, чем воспоминания, мучащие, жгущие меня каждый божий день. Какая боль может сравниться с той болью, что каждую секунду испытывает мое сердце? – Бабур-Гани с трудом перевела дыхание. – Я любила!.. Я безумно любила, первый раз в жизни. И боролась за свою любовь, как могла. Боролась… но ошиблась, и ваша месть лишь прервет мои страдания… И не говорите мне об угрызениях совести. Во имя любви всегда творили больше преступлений, чем подвигов… Решайте! Мне безразлично ваше решение…
И Бабур-Гани закрыла глаза.
– Ты все сказала? – услышала она голос председательствующего и кивнула в ответ.
Тут же ей в рот вновь вогнали кляп, но Бабур-Гани действительно было уже все равно.
Председательствующий обратился к собравшимся:
– Какой смертью должна умереть эта… Я не могу назвать ее светлым именем женщины. Это – демон, дочь зла, порождение геенны, пусть туда она и уйдет. Я предлагаю сжечь ее!
Но, прежде чем собравшиеся успели проголосовать, заговорила провидица:
– Ей после смерти гореть в вечном пламени, зачем нам брать на себя обязанности подручных сатаны? Это существо всю свою жизнь плодила грязь, в грязи и смраде она и должна закончить свою жизнь. Костер – дело хлопотное к тому же, а выгребная яма во дворе полна. Пусть это менее мучительная смерть, но она более унизительная и больше всего подходит к этой совратительнице и насильнице. В ней олицетворение строя, и пусть казнь будет символом гибели бесчеловечного строя.
Бабур-Гани открыла глаза и встретилась взглядом с провидицей, прочла в ее глазах книгу ненависти и презрения и отвела свой взор, но всюду, куда бы она ни направляла свой взгляд, ее встречали та же ненависть и презрение.
Все молчали, ожидая решения председательствующего. А он долго размышлял над словами провидицы.
– Ты нам очень помогла! – сказал он наконец. – И мы тебе признательны за эту помощь, но не кажется ли тебе, что злодеяния будут несоизмеримы с нашей местью. Нет, быстрая смерть не для нее!
– Мы не можем брать на себя смелость соизмерять. Это – дело Бога! А мы, имея право мстить, не имеем права опускаться до тех, кому мы мстим, я это поняла только теперь, что орудием мести не могут служить невинные, иначе мы так же служим злу, как и они, считая, что творим добро, множим зло.
– Тогда мы должны ее пощадить, попросить у нее прощения и проводить домой, – возмутился отец Бабека.
– Ты обещал выполнить мою просьбу!
– Обещал! – согласился председательствующий.
– Так выполни!
– Только после того, как она узнает муки ада на земле! – уперся на своем отец Бабека.
Провидица поняла, что он не уступит, а большинство было на его стороне, с ней были только двое, правда, эти двое по силе и ловкости превосходили всех остальных, но при подсчете голосов они будут в значительном меньшинстве, и провидица это хорошо уяснила. А потому она быстро и решительно подошла к Бабур-Гани и, молниеносно выхватив острый, как бритва, кинжал, вонзила его ей прямо в сердце.
Бабур-Гани, шевельнув губами, словно хотела сказать ей «спасибо», – обмякнув, рухнула на пол. А провидица, на глазах у ошеломленных зрителей, свидетелей, безмолвных от ужаса, выдернула из тела Бабур-Гани кинжал и хладнокровно отрезала ей голову. Кровь потоком хлынула на пол. Мать и сестра Сол упали в обмороке, да и мужчинам: отцам и братьям погубленных влюбленных стало не по себе. Даже в полутьме было видно, как они покрылись мертвенной бледностью. Оцепенелые, они замерли, не в силах произнести ни единого слова.
Соплеменники провидицы невозмутимо встали и подошли к провидице с намерением защитить ее, если возмущенные тем, что желанная жертва ускользнула от них таким простым способом, несостоявшиеся родственники бросятся на провидицу.
Но их опасения были напрасны. Потрясенные мужчины замерли на своих местах, не в силах раскрыть рта.
А провидица, держа за волосы голову Бабур-Гани, раскрытыми глазами невидяще уставившейся на своих судей, сказала:
– Я вас не в силах переубедить. Мне нужна была ее голова, я ее получила. А вам оставляю обезглавленное тело, делайте с ним, что хотите: сжигайте, вешайте, топите, придумывайте какие угодно виды мук и казней… Только учтите, я уже говорила вам: казня другого, мы казним и самого себя, сеем зло в своей душе, пожнем бурю в сердцах своих. Добро никогда не приносит столь высокие урожаи. Зло быстрее вытесняет добро из души, быстрее растет и обильнее плодоносит. Ненависть более липкая, чем смола и клей, прочнее, чем сталь, бывает вечной, как вселенная… Я ухожу! Прощайте навсегда! Больше мы не увидимся…
Мужчины молчали, словно загипнотизированные, глядя, как из головы капает кровь, а образованная ею лужица все растет и ширится, стремясь слиться с другой, огромной.
Провидица посмотрела на каждого из присутствующих, словно впитывая навечно их образы в сердце своем, повернулась и ушла, а оставшиеся, все так же молча, смотрели на бегущие цепочкой вслед за молодой и красивой девушкой капли крови.
Соплеменники провидицы, убедившись, что нападения ждать не следует, слишком уж ошеломлены все собравшиеся, медленно, постоянно оглядываясь, вышли следом…
«И стал я на песке морском и увидел выходящего из моря зверя с семью головами и десятью рогами: на рогах его было десять диадем, а на головах имена богохульные. Зверь, которого я видел, был подобен барсу; ноги у него, как у медведя, а пасть у него, как пасть у льва; и дал ему дракон силу свою и престол свой и великую власть. И видел я, что одна из голов его как бы смертельно была ранена, но эта смертельная рана исцелена. И дивилась вся земля, следя за зверем; и поклонились дракону, который дал власть зверю, и поклонились зверю, говоря: кто подобен зверю сему и кто может сразиться с ним? И даны были ему уста, говорящие гордо и богохульно, и дана ему власть действовать сорок два месяца. И отверз он уста свои для хулы на Бога, чтобы хулить имя Его и жилище Его и живущих на небе. И дано было ему вести войну со святыми и победить их; и дана была ему власть над всяким коленом и народом, и языком, и племенем. И поклонятся ему все живущие на земле, которых имена не написаны в книге жизни у агнца, закланного от создания мира. Кто имеет ухо, да слышит. Кто ведет в плен, тот и сам пойдет в плен; кто мечом убивает, тому самому надлежит быть убиту мечом. Здесь терпение и вера святых. И увидел я другого зверя, выходящего из земли; он имел два рога, подобных агнчим, и говорил, как дракон. Он действует пред ним со всею властью первого зверя и заставляет всю землю и живущих на ней поклоняться первому зверю, у которого смертельная рана исцелена; и творит великие знамения, так что и огонь низводит с неба на землю перед людьми. И чудесами, которые дано было ему творить перед зверем, он обольщает живущих на земле, чтобы они сделали образ зверя, который имеет рану от меча и жив. И дано ему было вложить дух в образ зверя, чтобы образ зверя и говорил и действовал так, чтоб убиваем был всякий, кто не будет поклоняться образу зверя. И он сделал то, что всем – малым и великим, богатым и нищим, свободным и рабам – положено будет начертание на правую руку их или на чело их»…
Никогда еще Мир-Джавад не испытывал такого удовольствия от жизни, как в это утро, когда он открыл глаза. Он всегда просыпался рано, а летом старался встать с первыми лучами солнца, единственное время, когда можно было поработать, потому что уже в полдень солнце так раскаляло землю, что воздух начинал кипеть, подобно воде, и струиться в небо, а выхлопные газы от проехавшей машины долго висели серым облачком, да так ощутимо, потрогать рукой можно было, и медленно, зримо опускались на землю.
Мир-Джавад нежно посмотрел на безмятежно спящую детским сном Нигяр, осторожно поцеловал ее раздавшийся, округлившийся живот, чтобы не разбудить спящую, и встал с постели, ощущая силу и энергию, испытываемую, пожалуй, лишь в далекой юности.
Стараясь не шуметь, он оделся и, выйдя из спальни, побежал, как мальчишка, наперегонки с собственной тенью, в ванную. Быстро умылся, вылил на себя заранее приготовленное ведро с водой комнатной температуры, последнее время изучал систему йогов, до ведра с холодной водой оставалось несколько дней, промыл морской водой носоглотку и, бодрый, довольный, побрился, причесался и отправился в столовую.
Завтрак был обычный. По расписанию у него был рыбный день: семга, белуга, красная и черная икра, осетрина на вертеле. Маслины и трюфели несколько скрашивали скромный завтрак, а на десерт Мир-Джавад позволил себе даже миндальное пирожное с чашечкой кофе по-турецки, завтрак он обычно запивал гранатным и мандариновым соками.
Аппетит был, как у путника с дороги, не евшего целые сутки. Вообще, отсутствием аппетита Мир-Джавад не страдал даже тогда, когда жизнь его висела на волоске и были вызваны уже суперубийцы, чтобы убрать его с дороги Атабека. Дрожал тогда Мир-Джавад как осиновый лист, но единственным местом, где он чувствовал себя в безопасности, где он отдыхал от тяжелых мыслей и от страха, – это был обеденный стол, отравить его могли с тем же равным успехом, как и всадить пулю между лопатками или расплющить внезапно потерявшим управление автомобилем, однако, поглощая пищу, он ощущал равновесие духа, уверенность в победе, а чем больше волновался перед едой, тем больше съедал. За столом Мир-Джавад примирялся с жизнью, вернее, с ее черной стороной, ибо жизнь, как и мир, состоит из своего дня и своей ночи, правда, многие живут, как на севере: у них то полярная ночь, то солнце не сходит с неба, а если и заходит, то на такой короткий срок, что не стоит об этом и говорить…
Два часа Мир-Джавад работал, ощущая радость от труда, рождалось даже некоторое самодовольство от своих успехов: еще один из ближайшего окружения Гаджу-сана, Каган, стал сторонником Мир-Джавада и намекнул ему, что он, пожалуй, отдаст свой голос за него, когда будут вновь избирать преемника Великого.
Мельком просмотрел списки врагов: тех, кого на рассвете следующего дня расстреляют, и тех, кому предстоял нелегкий путь к еще более трудным местам заключения в лагерях на острове Бибирь, подписал, практически не читая, каждого обсуждать – жизни не хватит, а инквизиция никогда не ошибается.
Но что-то осталось непонятное, и Мир-Джавад вновь придвинул к себе списки приговоренных к расстрелу. Да, он не обманулся: в списке казнимых он прочел с огромным удивлением знакомую фамилию: «Эйшен»…
– Ну, этот, по моим понятиям, должен быть последним, о ком я сказал бы, что его рано или поздно расстреляют! – подумал Мир-Джавад. – Интересно, за что этого слизняка собираются шлепнуть?
Любопытство так разобрало Мир-Джавада, что он не вытерпел и позвонил начальнику инквизиции:
– Слушай, мальчик! Посмотри, за какие грехи собираемся отправить в ад некоего Эйшена?.. Ах, ты в курсе!.. За что, за что? Антиправительственный рассказ об усах Гаджу-сана? – Мир-Джавад странно хмыкнул, но сдержался и спросил: – Кто показал?.. Девушка рукопись принесла? Фамилию не сказала?..
Мир-Джавад резко бросил трубку телефона, даже не попрощавшись, и расхохотался. До слез смеялся, не мог остановиться. Всхлипывая, бил себя ладонями по ляжкам и со стоном повторял:
– Рукописи не сгорают, рукописи не сгорают, ах, писатель, а врал, что потерял. Кто-то теряет, а кто-то находит.
И опять смех до судорог рвался из груди. Хотел было Мир-Джавад вычеркнуть фамилию Эйшена из списка смертников, но занесенная было над списком рука замерла при мысли: а почему?., могут спросить?., могут, и еще как!.. Ниточка потянется, а куда она приведет, один аллах знает. Одним писателем больше на земле, одним меньше, какая разница… У нас их уже и так тысяч десять одних членов, а в душе каждый – писатель, пишут и пишут, особенно в инквизицию, как будто там одни редакторы сидят.
И Мир-Джавад отбросил от себя ручку на стол и отодвинул списки. «Странно, глядя на этого пышущего здоровьем счастливчика, я всегда ловил себя на мысли, что вот этот уж непременно меня переживет… Эта рукопись обернулась для него бумерангом, смешно. Одно и то же произведение третьего „автора“ отправляет на смерть… Бог троицу любит?.. Первый, истинный автор, получил меньше всех, жил в заключении дольше всех, не заболей он так тяжело, не отправили б его на баржу. Касым, менее виноватый, собирался лишь читать, получил больше, а жил меньше, зарезали беднягу. Неудачник, э!.. Но этот, третий: донес на первого, спровоцировал второго, а третьим попался сам. Кто-то его очень ловко подставил. Хорошая работа: ведь какой срок выдержал, когда все уже забыли об истинном авторе этого произведения. Молодец! Жаль не узнали, кто это, приблизил бы к себе. Голова!»
Мир-Джавад так развеселился, что ему расхотелось работать. Он встал из-за стола и отправился в спальню, посмотреть, не проснулась ли уже его тайная женушка. Посидел несколько минут возле спящей, сдерживая себя, очень ему хотелось разбудить ее и ласкать, ласкать, пока оба они не откинутся на постели в изнеможении. Но он не осмелился это сделать. Безумно любил он эту маленькую девочку, которую он совратил, сделал женщиной, а теперь и матерью. Сидел только рядом с ней и смотрел на ее родное, любимое лицо, гася усилием воли страсть и желание схватить ее в свои объятия…
Пора было ехать в президиум. Мир-Джавад старался быть во всем точным и пунктуальным, особенно с тех пор, когда услышал поговорку: «точность – вежливость королей»!
И он выгонял с работы тех шоферов, которые не могли рассчитать путь с такой точностью, чтобы без пяти минут десять им быть у главного подъезда здания президиума, а пяти минут ему хватало, чтобы выйти из машины и подняться на второй этаж, где был расположен его кабинет.
Мир-Джавад неторопливо оделся, сегодня собирались все начальники вилайятов, и надо было одеться скромно, что Мир-Джавад и сделал. Только маленькую уступку себе он все же позволил: платиновые запонки с четырьмя пятикаратовыми бриллиантами.
Одеваясь, Мир-Джавад еще раз быстро пробежал глазами текст речи, написанной для него профессором международного права. Речь Мир-Джаваду понравилась, особенно то место: «акулы, ненавидящие нашу страну, только и ждут удобного момента, чтобы напасть и откусить какой-нибудь кусочек»… И то место, где говорилось о том, что внутренний враг не дремлет, только и ждет, как бы подставить страну под эти акульи зубы.
Мир-Джавад усмехнулся, представив себе: с каким трепетом будут слушать его всесильные в своих вилайятах ставленники и как молить аллаха, чтобы им самим не попасть в этот черный список внутренних врагов.
– Пусть дрожат! – подумал Мир-Джавад. – Страх должны знать! Человека мягче глины делает страх, все что угодно можно вылепить из него: и предателя, и убийцу, и покорного раба… А я, в свою очередь, буду прощать им злоупотребления властью и прочие мелкие гадости, которым охотно предаются власть имущие, как бы ни была мизерна эта власть. Но раз власть, то использовать ее не в свое благо считается если не идиотизмом, то уж несоответствием занимаемой должности – точно, со всеми вытекающими из этого обстоятельствами. И правильно: разве не подозрителен честный человек на руководящей должности, на ответственной работе? Чистая капля дистиллированной воды в океане горько-соленой. Сколько времени она может просуществовать в чистом виде? Мгновенье? Меньше! Величина столь ничтожна, что не стоит об этом и говорить. А почему он подозрителен? Первая мысль, которая приходит, глядя на такого уникума: чужак, инопланетянин, ошибка природы, жертва аборта, недоносок… Да разве мало эпитетов у нас придумали, чтобы унизить, оскорбить человека, хоть чем-нибудь непохожего на нас и наше окружение, имеющего другие интересы, желания, мысли. Он, очевидно, и мечтает о другом. А так как увидеть его мечты нет возможности, то легче предположить то, что тебе кажется, чем то, что, может быть, есть на самом деле… Вторая мысль: если человек отказывается от малого, что он может взять без всякого труда, значит, он хочет большего, если не все сразу. Следовательно, он не хочет подниматься со ступеньки на ступеньку служебной лестницы, а пытается подняться сразу на лифте, причем на последний этаж, обогнав всех, медленно идущих по крутой лестнице. А такое не прощается даже родному брату!.. И третья мысль: а вдруг действительно он – честный! Это что же будет такое, если сегодня один станет честным, завтра – другой, послезавтра третий, до чего мы можем тогда дойти? Не замкнется ли таким образом круг, и не окажемся ли мы снова в раю, из которого с таким трудом нас вывел Великий Змей… А потом, что такое: честный человек?.. Категория далеко не вечная. Наше восстание столько наштамповало таких «честных», что куда ни плюнь, попадешь в такого «честного». Как упрочили власть, так стали под себя грести, что любо-дорого смотреть. За срок вдвое короче миллионеров стало вдвое больше, а если посчитать и тех, кто пока еще боится признаваться в том, что они миллионеры, то втрое, а может быть, и вчетверо. Поэтому, мне кажется, будет честнее, если каждому будет ясно, а в особенности вышестоящим: этот – негодяй, этот – подонок, этот – развратник, этот – взяточник… Впрочем, взяточники они все: и негодяй, и подонок, и развратник, и маньяк, и убийца… В «чистом» виде никого не бывает на свете, от каждого понемножку, «коктейль»… У каждой игры свои правила. И в игре правила не меняют, скорее, меняют игроков…
Мир-Джавад взглянул на часы и заторопился. У входа во дворец его уже ждала бронированная машина, сделанная на заказ: пуленепробиваемый корпус, стальное днище выдерживало взрыв мин, кроме противотанковых, в крыльях спереди два замаскированных пулемета, один в багажнике, рядом с установкой для разбрызгивания масла, радиостанция, вмонтированная в переднюю панель, мгновенно связывала с войсками и с инквизицией. А салон был: красное дерево, инкрустированное золотом и платиной, пышные ковры, бар с холодильником, магнитофон… Одним словом, царский выезд!..
Спереди и сзади стояли точно такие же с виду машины, один к одному, только штамповка, не бронированные и с полным отсутствием комфорта в салонах, но зато нашпигованные оружием, как пудинг изюмом…
Лишь только Мир-Джавад сел в машину, как через несколько секунд они рванулись с места и помчались к зданию президиума, перестраиваясь каждые пять минут, будто играя в салочки.
Ехать было недалеко. Но с последней перестройкой произошла «накладка»: автомобиль, следовавший последним, почему-то не выехал, как положено, вперед, и перед зданием президиума автомобиль Мир-Джавада встал первым, ровно без пяти минут десять застыл как вкопанный у главного, парадного входа в здание.
Начальник охраны, сидевший рядом с шофером в машине Мир-Джавада, чертыхнулся про себя и мысленно пообещал влепить проштрафившемуся шоферу пять суток гауптвахты, затем мгновенно выскочил из машины и, привычно оглядев пустынную улицу, величественно, с чувством исполненного долга открыл дверцу машины и помог выйти светлейшему.
У входа в президиум живым коридором стояли, вытянув руки для приветствия, начальники вилайятов…
Мир-Джавад первым увидел его. Белый «мерседес», вынырнув из-за угла здания президиума, на огромной скорости мчался навстречу, прямо на Мир-Джавада. Но для него машина чуть двигалась, плавно плыла в океане уже ощущающейся удушающей жары, и аура сияла над ней.
Мир-Джавад застыл на месте, и в глазах его появился даже не страх, а, скорее, удивление, «вот оно как случается, всегда неожиданно и не так, как это себе представляешь»…
Охрана тоже, наконец, заметила мчащийся автомобиль, но на их лицах появился даже не страх, но ужас, и они тоже застыли неподвижно, подобно своему владыке, на которого до этого и смотрели с удовольствием, так важно он всегда выходил из машины, словно Феб из своей колесницы. А начальники вилайятов повернулись все лицом к появившейся машине, забыв опустить вскинутые в приветствии руки.
Мир-Джавад еще издали узнал ту, кто сидела за рулем «мерседеса». Узнал с первого взгляда и понял, что спасения нет. Грядет возмездие, не всегда торжествует зло.
За рулем была провидица, и взгляд, которым она приковала к месту Мир-Джавада, не сулил тому ничего хорошего. Ее глазами смотрела Смерть.
На эмблеме радиатора была закреплена голова, мертвая, но с широко раскрытыми глазами и замершим в последнем крике ртом. Мир-Джавад, увидев то, что осталось от Бабур-Гани, вспомнил их первый разговор, положивший начало тесному сотрудничеству: «я раскинула на картах, и вышло, что наши линии переплетаются, мы оба возвысимся и оба упадем, ты проживешь недолго после моей смерти»… «Ведьма»! – подумал он тогда злобно.




![Книга Убийство в морге [Ликвидатор. Убить Ликвидатора. Изолятор временного содержания. Убийство в морге] автора Лев Златкин](http://itexts.net/files/books/110/oblozhka-knigi-ubiystvo-v-morge-likvidator.-ubit-likvidatora.-izolyator-vremennogo-soderzhaniya.-ubiystvo-v-morge-250833.jpg)



