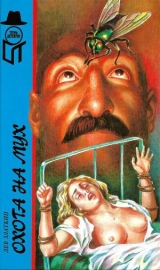
Текст книги "Охота на мух. Вновь распятый"
Автор книги: Лев Златкин
Жанр:
Политические детективы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 33 (всего у книги 43 страниц)
Чтобы Ариф не тратил их драгоценного времени, его сразу же раздели догола и многозначительно показали большой коробок спичек, даже зажгли одну для наглядности.
У Арифа с детства было сильно развито чувство воображения, он сразу представил себе горящую спичку у себя в паху и даже почувствовал запах паленого волоса, от которого мог потерять сознание.
А потому, не тратя чужое драгоценное время, он все рассказал, подробно и почти в лицах. Единственное, о чем он умолчал, это – как он испачкал собственной спермой дверь камеры. Но он был уверен, что такие мелочи отца Акифа не интересуют. Тем более что он постарался сдать не только главного виновника – Насруллу, но и лейтенанта, и дежурного старшину, который сам решил наказать мальчишку.
Амбал Ариф, изображая почти в лицах главных виновников трагедии Акифа, рассчитывал заработать. Но отцу Акифа не нужен был потенциальный шантажист. А потому милиционера упрятали в большой мешок и подержали в море до тех пор, пока он перестал бурно выражать свое несогласие с решением утопить его. А после аккуратно уложили всю его одежду на берегу, и очередное дело о несчастном случае при ночном купании кануло в Лету, покрываясь пылью весь положенный срок хранения.
Месть отца Акифа была ужасной. Три четверти работников гастронома были его родственниками, ближними и дальними, и те два мясника, что держали в страхе не только поставщиков и оптовых покупателей, тоже были его родственниками и мстили за честь своего рода.
Одетые в черные маски, они навестили ночью дежурного старшину у него дома и на глазах в секунду поседевшего от ужаса отца и мужа, привязанного к спинке кровати, изнасиловали не только его жену, но и трех несовершеннолетних дочерей, после чего профессионально вскрыли живот старшины и его кишки намотали ему на шею.
Охранник Насруллы мог поменяться на время и за большие деньги своим постом лишь с одним из них, а потому Насрулла счастливо избегнул насилия, ему сонному просто перерезали глотку.
Хуже всего пришлось лейтенанту. Награда нашла своего героя, но вряд ли сам герой мечтал о такой награде: его голым приковали в подвале гастронома и неделю, насилуя беспрерывно, морили голодом, жаждой и холодом, а затем, уже полумертвого, закопали в заброшенной могиле на кладбище, где он промучался еще несколько дней.
14
Внезапная болезнь Акифа, естественно, стала темой номер один в разговорах класса, в этом городе трудно было что-нибудь скрыть друг от друга, если это не преступление, от которого все бегут и которого боятся.
Деля Агабекова, после трех дней отсутствия, появилась в классе, как будто ничего не случилось, и предъявила справку от родителей, что она плохо себя чувствовала. Действительно, почему она должна была чувствовать себя виноватой там, где ее вины не было ни на йоту.
Игорь, как всегда, не удержался, чтобы не съязвить:
– Здравствуй, Лейли!
– Ты уже забыл за три дня, как меня зовут? – удивилась Деля.
– Раз у тебя есть собственный Меджнун, значит, ты – Лейли! – ехидничал Игорь. – И не спорь со мной, пожалуйста.
– Не понимаю, о чем ты? – искренно удивилась Деля. – Может, пока я болела, вы все здесь с ума посходили?
– Так это не твоя работа? – удивился Игорь.
– Не понимаю! Серьезно тебе говорю! – нахмурилась Деля.
– Ха! – вмешалась самая ярая поклонница Акифа. – Акиф из-за нее с ума сошел, а она: «не понимаю».
– Придурки! Я-то тут при чем? – новость потрясла Делю, и она даже побледнела, но упрямо продолжала делать вид, что она здесь ни при чем, и ее это не касается.
Так они договорились с Анной Абрамовной.
«Глупенькая, – наставляла ее друг семьи. – Женщина должна, просто обязана, научиться все отрицать, даже все очевидное, даже если тебя застанут в постели с любовником».
Опасные уроки будущим женам.
Класс был разочарован. Так всем хотелось стать живыми свидетелями романтической истории, где от любви сходят с ума.
Никита улучил момент, когда возле Дели никого не оказалось, подошел к ней и ревниво спросил:
– Между вами действительно ничего не было?
– Никита! – взмолилась рассиявшая было Деля. – Ты хоть меня не мучай! Ты ведь знаешь, как я… – и она смущенно умолкла.
– Ты можешь доказать это! – Никита решил больше не ходить вокруг да около.
– Как? – испугалась Деля, испугалась по-настоящему, так как поняла, что жизнь ставит ее перед серьезным выбором.
– Для такого доказательства существует лишь один способ! – настаивал Никита.
– Быть твоей? – зарделась Деля.
– Да! – подтвердил Никита.
– Не торопи меня! – взмолилась Деля. – Я умоляю! Я решусь на это, только ты не торопи меня. Хорошо?
И Деля серьезно посмотрела в глаза Никите, так посмотрела, словно хотела заглянуть в самую бездну души. Но так ничего и не увидела. Все влюбленные слепы…
Илюша не принимал участия в шумных дебатах и дискуссиях на тему: «Лейли и Меджнун». У него была своя Лейли, хотя его самого Меджнуном назвать никак нельзя было, он сам был по уши влюблен в Валю и решительно не понимал, как это можно сойти с ума от любви, правда, он справедливо признавался себе, что неразделенной любви он пока не изведал.
Валя, преодолев природную женскую стыдливость, девичью застенчивость, стала выше пересуда: «что люди скажут», – и пригласила Илюшу сходить после уроков в кино. Она очень хотела побыть с ним наедине, вдвоем, а ждать, когда Илюша решится сделать это, первый шаг, пригласит хотя бы в кино, можно очень долго, может вся жизнь пройти так, в ожидании.
Они договорились встретиться у касс. На этом настояла Валя, ей от своего братца еще необходимо было улизнуть. Но она знала, как это лучше сделать: стоило ей начать учить Костю жизни, «пилить» его, как тот ровно через минуту словно включал третью скорость и уносился от своей попечительницы вдаль, не оглядываясь.
Так случилось и на этот раз. Только Валя пошла не домой, а свернула сразу в переулок, чтобы быстрее исчезнуть из поля зрения братца, если ему вдруг вздумается вернуться и сказать какую-нибудь гадость. Да и переулком можно было быстрее выйти к кинотеатру.
Илюша уже ждал ее с билетами в руке. Валя взглянула на него, и лицо ее окрасилось легким румянцем, щеки вспыхнули не иначе как от грешных мыслей. И она нежно, совсем по-женски, улыбнулась своему избраннику.
Как только погас свет в зале, Илюша, сам дивясь своей смелости, положил руку на руку Вали, а она лежала на ее ноге… О чем был фильм? Они не могли потом вспомнить даже названия, не говоря уж о более сложном, например, о содержании. Жар двух сплетенных рук наверняка повысил температуру в зале на пару градусов.
Первое прикосновение. Первое ощущение жгучей потребности в чьей-то любви, в ласках. Настоятельная необходимость видеть любимого человека, столь внезапно ставшего близким и родным, вызывает удивление, а где же ты был раньше, не проходит иногда это ощущение очень долго, иногда всю жизнь.
Выйдя из кинотеатра, они, не сговариваясь, выбрали окольный, самый дальний путь домой, через бульвар. Море уже штормило, и холодный ветер рвал ветки деревьев, сбивая с них почти что зеленую листву. Безлюдье было почти полным. Кому еще взбредет в голову, кроме влюбленных, которые греются от прикосновения и взглядов друг друга, гулять при пронизывающем северном норде, всосавшем в себя к тому же всю сырость Каспия.
Они шли молча, но молчат ведь не только оттого, что нечего сказать, но и оттого, что бывает очень хорошо.
– Илюша! – прервала молчание Валя. – Старая карга сегодня утром внука своего ругала: «хитрый жиденок». Жид – это то же, что и еврей?
Старой каргой Валя называла свою соседку по коммунальной квартире, злющую старуху, злее не бывает.
Илюша усмехнулся:
– Это вообще-то по-польски, но в России стало употребляться в оскорбительном смысле, – пояснил Илюша. – Искаженное, как и немецкое «юде» от «иудей». Знаешь, когда несколько лет назад ввели паспорта, а в них графу «национальность», пятый пункт, один мой очень хороший знакомый, друг отца, решил пошутить и в анкете, в пятом пункте, написал «иудей» вместо «еврей». Получает паспорт, а в нем, в графе национальность, написано – «индей». Он на дыбы, что это за «индей» такой? Объяснил безграмотной паспортистке, что «иудей» – это то же самое, что «еврей». Та велела ему прийти на следующий день. Он пришел, и его увезли на карете «скорой помощи». В паспорте он прочел: «индей еврейский». Кто над кем пошутил?
Валя смеялась несколько минут, не могла остановиться, аж до слез. А Илюша любовался ею, и благодать владела его душою. Отсмеявшись, Валя неожиданно для себя спросила:
– А ты – еврей? Или – русский?
– Я так и знал, что ты спросишь об этом! – усмехнулся горько Илюша.
– Ну, правда! – извинительным тоном продолжила Валя. – Это из чисто женского любопытства. Мне же все равно, ты знаешь.
И она приблизилась так к Илюше, что взяла и неумело поцеловала его.
Молча они смотрели друг на друга, словно впереди у них была вечность. Чтобы скрыть смущение, Илюша стал рассуждать о том, к какому народу он принадлежит.
– Я сам давно думаю над этой проблемой: «Кто же я?» По еврейским законам я – русский, ибо «еврей» – ребенок, рожденный еврейской матерью и прошедший гиюр.
– А что это такое? – поинтересовалась Валя.
Илюше пришлось призадуматься: как пояснить Вале некоторые физиологические подробности.
– Соответствующий обряд! – пояснил Илюша, найдя благовоспитанную форму.
Но Валя кое-что слышала и об обрезании, почему и покраснела до цвета малины.
– А по русским? – спросила она, чтобы скрыть смущение.
– И по русским законам я – русский, – охотно пояснил Илюша, – потому что бабушка, мамина мама, меня тайком крестила во младенчестве, я очень сильно болел, она боялась, что умру нехристем и не попаду в рай.
– А почему тайком? – не поняла Валя.
– Родители партийные! – удивился ее вопросу Илья. – Оба… Но по обывательским законам я – еврей!
– Говорят, в Германии евреев преследуют… – тихо сказала Валя.
– Да, я слышал! – поддержал ее Илья. – Может, врут? У власти там социалистическая рабочая партия, флаг у них тоже красный, лишь в середине белый круг со свастикой…
– Ты мне так и не ответил, – вернулась к своему вопросу Валя, – кем ты себя считаешь? Меня обыватели не интересуют.
Илюша задумался.
– Я как-то написал стихотворение… – начал он.
– Как твой тезка, Эренбург? – перебила его Валя, вспомнив прочитанное Ильей стихотворение на одном из уроков.
– Тогда я его стихотворение не читал, – смутился Илья, – но получилось на ту же тему. Почти…
– Прочти! – сказала в рифму Валя и вновь радостно и весело рассмеялась.
Илья вызвал в памяти стихотворение и начал его читать:
– Я – не еврей! Не чувствую душою
Двух тысяч лет окровавленный путь,
Когда зерно смешалось с половою,
И мощный вихрь разнес, чтоб не вернуть.
Не ощущаю сердцем страшной раны,
Оборвана нетлеющая связь,
В одну страну все превратились страны,
Мне «Пятикнижья» неподвластна вязь.
Желанья нет к истокам возвратиться.
Песком засыпан высохший родник,
В нем нет воды, чтоб путнику напиться,
Разрушен храм, где можно помолиться,
И пепел улетел священных книг.
Но я – еврей! Когда хулу возводят
На непреклонный, гордый мой народ
И на грабеж толпу с собой приводят,
Причиной выдвигая «недород».
Но я – еврей! Когда потоком злобы
Пытаются с собой меня увлечь,
Когда во имя низменной утробы
Слова стреляют, словно в них картечь.
В тот горький час, в час боли, испытанья,
Где не спасет и царственный елей,
Не убоюсь в последнее свиданье
Со смертью крикнуть гордо: «Я – еврей!»
Валя обвила руками шею Илюши и восторженно посмотрела ему прямо в глаза. Ей действительно понравилось стихотворение, и она искренне радовалась.
– Слушай, здорово как! – восхитилась она. – Не хуже, чем у твоего тезки, Эренбурга.
– Не хуже? – улыбнулся Илья и неожиданно для себя сам поцеловал Валю. – А нужно, чтобы было лучше!
Они пошли дальше, совершенно не чувствуя холода.
– Ты хочешь стать поэтом? – спросила Валя.
– Хочу!.. – согласился Илья и добавил, горько усмехнувшись: – Если дадут…
– То есть, как это, «дадут»? – удивилась Валя. – Ты где живешь? «Я другой такой страны не знаю, где так вольно жил бы человек…» – спела она довольно приятным голосом.
Но Илья прервал ее пение долгим поцелуем, и несколько минут они ни о чем не могли говорить, слившись в одно, единое целое.
Когда же они вновь двинулись в долгий путь домой, Илья вспомнил о ее последнем вопросе и пояснил, как он это понимает:
– Я знаю другие слова, не из песни, а Маркса: «Органическая система как совокупное целое имеет свои предпосылки, и ее развитие в направлении целостности состоит именно в том, чтобы подчинить себе все элементы общества или создать из него недостающие ей органы. Таким путем система в ходе исторического развития превращается в целостность».
– Умный какой! – почему-то обиделась Валя. – Я ничего не поняла!
– Проще простого: я стану тем, кем мне разрешит стать общество, органическая система, – стал пояснять Илья. – Сейчас надо писать не хуже, чем: «Сталин – наша слава боевая…» А я так не умею писать, следовательно, для системы не подхожу, и мне нужно проявить себя в чем-то другом…
– А ты посылал куда-нибудь свои стихи? – полюбопытствовала Валя, которой до смерти хотелось, чтобы ее возлюбленный прославился на всю страну.
– Посылал! – нехотя признался Илья.
– Ответили? – загорелась Валя.
– Ответили: что я – не Пушкин! А о стихах ни слова. Как будто я сам не могу посмотреть в свой паспорт, тем более что недавно его получил. Не Пушкин, и все тут! А разве я когда-либо утверждал, что я – Пушкин? Тогда мне самое место рядом с Александром Македонским, Кай Юлием Цезарем и сразу с двумя Наполеонами…
– Это в дурдоме? – догадалась Валя.
– В одной палате! – уточнил Илюша.
– Вряд ли в одну палату поместят сразу двух Наполеонов, – пошутила Валя. – Один из них будет самозванцем.
Ветер подхватил и умчал в город беспечный смех двух влюбленных, а небо хмурилось от черной зависти, глядя, как они целуются до боли в губах.
15
Опять мать Сережки Шпанова ударилась в загул, не предупредив сына. Еды, правда, она оставила, но откуда Сережка мог знать, что мать исчезнет на несколько дней. Он все смолол в один день, у него такой возраст, организм растет, необходимо много еды.
– Сережа!
Легкий стук в дверь вывел Серегу из сонливого состояния, но зато чувство голода вспыхнуло с еще большей силой.
Голос с таким характерным акцентом мог принадлежать только Елизавете Израилевне. «Не было печали, так черти накачали!» – озлобился Серега, но дверь открыл, после случая с пирожками он почему-то стал стыдиться своей злобы.
Перед дверью действительно стояла Елизавета Израилевна.
– У меня к тебе просьба, Сережа! – торжественно начала она. – Сделай две любезности: во-первых, сбегай за хлебом, вот тебе деньги, – и она протянула мятую бумажку, в которой опытный взгляд Сергея сразу узнал трешку. – Во-вторых, я тебя хочу попросить пообедать с нами, за компанию, а то Беллочка совсем перестала есть, в-третьих, я скажу тебе спасибо.
«За компанию жид повесился!» – подумал Серега, но вслух постеснялся такое сказать.
Пообедать за компанию, как одолжение, можно, почему бы и нет. Особенно, если вторые сутки во рту не было даже маковой росинки, и у Игоря нечем разжиться, что-то у него там, дома, случилось, ходит хмурый, на машине больше не подъезжает с шиком, даже бутербродов никто ему не делает. Днем раньше Серега видел сам, как Игорь стрельнул у Светки Векиловой половину бублика. Но Игорь ничего не рассказывает, а спросить – себе дороже.
Серега согласно кивнул головой и побыстрее хапнул трешницу из рук Елизаветы Израилевны. Она посмотрела, как он легкомысленно накинул только легкую курточку и собрался на улицу даже без шапки, а на улице уже зима, пусть южная, но зима. И запротестовала:
– Потеплее оденься. Снег идет. Не пижонь!
– Да ну? – удивился Серега. – Неужели снег? Давно в снежки не играл.
– Ты не заиграйся, смотри! – предупредила Елизавета Израилевна. – Мы ждем тебя обедать.
– Я мигом! – пообещал Серега, но неожиданно для себя послушался соседки и одел под легкую куртку теплый свитер из собачьей шерсти.
Мать связала, когда два дня у нее выпали трезвые.
Но шапку надевать не стал. Густая копна волос могла с успехом заменить любую шапку. Да и сбегать-то недалеко: до угла дома, где в крошечном хлебном отделе крошечного магазинчика «Продукты» продавался очень вкусный чурек. Минута туда, минута обратно. А шапка столь стара да мала, едва держится на голове, что просто стыдно надевать.
Сергею повезло. В хлебный отдел только что привезли свежий чурек, еще горячий, издающий такой аромат, что желудок начинал не то чтобы пищать, а вопить, требуя своего. А его ублажать нужно каждый день, потому что он живет только сегодняшним днем, не вспоминая вчерашний и не думая о завтрашнем.
Серега купил на всю трешку три больших длинных чурека, мудро рассудив, что с одним он запросто управится сам, с двумя другими трое домочадцев Елизаветы Израилевны. Беллочка в счет не шла, хлеб она вообще не ела, почему ее бабушке часто приходилось печь пирожки и мясные рулеты, что она с удовольствием делала для внучки не только на Шабат.
Завернув хлеб в большой лист бумаги, выпрошенной в мясном отделе, Серега упрятал чурек за пазуху, чтобы на холоде не охладился. И побежал домой. Даже встретившиеся приятели с улицы не смогли его свернуть с пути, а они его уговаривали пойти поиграть в снежки с девчонками, повалять их в снегу и заодно потискать, что тоже им полезно, от прикосновения мужской руки у девушек все их прелести расцветают. Мнение девчонок, конечно, не учитывалось.
Большего соблазна трудно было найти, но Серега переборол и это искушение. Во-первых, он был голоден и рвался плотно пообедать, а готовила Елизавета Израилевна так, что запах еды сводил его с ума, во-вторых, было еще нечто, притягивающее Сережку сильнее магнита, что-то для него пока непонятное, хотя, при зрелом рассуждении, можно было догадаться, это – тепло дома, домашнего очага, которого Серега был лишен с детства, еще до ареста отца. Отец так часто бывал в командировках, что ему было не до воспитания сына. А мать любила танцы в клубе офицеров, там ей скучать не давали. Она забрасывала сына, когда он был еще совсем маленьким, к подружкам, у нее тогда было много подруг, это уже после ареста мужа, Серегиного отца, все разбежались, исчезли, словно всех ветром сдуло. Поэтому Серега никогда и не ощущал, что у него есть дом, семья, он просто этого никогда не знал.
У Елизаветы Израилевны все было уже готово, будто время рассчитала: приборы стояли на столе, а на плите аппетитно булькало и шипело.
Получив еще теплый чурек, Елизавета Израилевна ласково улыбнулась Сереге и предложила:
– Иди, мой руки! – и добавила: – Свитер можно снять, мы тебя не заморозим.
Вся семья Елизаветы Израилевны была в сборе. Ее муж был намного старше, совсем дряхлым, на взгляд Сереги, но пока служил где-то, кажется, в каком-то министерстве. Их сын и его жена, родители Беллочки, инженеры, тоже где-то работали, но оба получали меньше, чем старый Мотя, как его до столь почтенных лет все еще звала жена, но инженеры они были не где-нибудь, а в обувной промышленности, и имели солидный побочный доход, являясь негласными консультантами, через брата Моти, Арнольда, подпольного обувного синдиката, который имел для прикрытия две кустарные мастерские, но основной товар, который шел в районы, шился в семейных мастерских. Так они умудрились не платить девяносто процентов налога, за счет чего и образовывалась сверхприбыль.
Обед прошел в дружеской обстановке. Как ни был голоден Серега, глядя на окружающих, он старался есть так же медленно и степенно, как и члены семейства Елизаветы Израилевны. То, что она была главой семейства, признавалось безоговорочно всеми, несмотря на полное отсутствие у нее образования и квалификации, несмотря на то, что она не заработала ни рубля в своей жизни. Впрочем, не заработала своими руками, а чужими, так даже очень. Деньги водились в этой семье постоянно, это чувствовалось по обстановке красного дерева в обеих комнатах, лучших комнатах во всей квартире, по сервировке стола, Серега впервые ел с тарелок китайского сервиза, пользуясь серебряными вилкой и ножом, как и впервые он видел, чтобы возле прибора лежала туго накрахмаленная белоснежная салфетка, свернутая в трубочку и вставленная в колечко резной желтоватой слоновой кости. Да и в качестве обеда чувствовалось присутствие денег.
В центре стола стоял большой бронзовый семисвечник. Горели свечи, распространяя аромат удивительных райских, не иначе, благовоний. Все присутствующие за столом были так нарядно одеты, что Серега вдруг почувствовал себя бедным родственником.
– У вас чей-нибудь день рождения? – не удержался он от вопроса.
– Нет, мальчик! – певуче произнес старый Мотя. – У нас каждую субботу праздник. «Шабат – это Богу!» – говорится в Торе. Всю неделю мы занимаемся делами, в основном материальными, а в Шабат только духовными, путем молитвы и медитации.
– А что такое – «медитация»? – совсем невежливо перебил Серега.
– «Глубокое размышление!» – улыбнулся старик, сделав вид, что не заметил глупости мальчика. – Человек, соблюдающий Шабат, приходит к миру с самим собой, с людьми, с природой, с Богом. В Шабат мы должны быть в мире со всеми живущими на земле. Закон Шабата предписывает нам хотя бы один день в неделю не быть «царями природы», которым «нечего ждать милостей… – взять их – главная задача», может, я что-то путаю, но смысл верен, и не «править миром», а быть с ним в гармонии… В этот день мы исключаем применение внешней искусственной энергии и обращаемся к своим внутренним и творческим ресурсам и способностям, заложенным в нас Создателем.
– Поэтому свечи? – догадался Серега.
– Электричество – искусственная энергия! – согласился старый Мотя.
– Но у вас горит газовая конфорка! – съехидничал Серега.
– Что касается внешней природы, Шабат запрещает зажигать огонь, но он запрещает его и тушить. Готовить пищу нельзя, но подогреть готовую можно, не на самом огне, а рядом. Готовый обед грелся со вчерашнего вечера после захода солнца.
– А если закурить захочется? – с вызовом спросил юноша.
– Нельзя зажигать огонь или пользоваться пламенем, – отрицательно покачал головой старый Мотя. – Это – внешняя энергия. Никакими техническими приспособлениями пользоваться нельзя. Даже писать, потому что карандаш или ручка – технические приспособления.
– А что же можно? – удивился Серега.
– Читать, беседовать, обсуждать! – перечислил старый Мотя.
– И общаться с Богом? – вспомнил Серега.
– Да! – опять улыбнулся старик. – В Шабат дана такая возможность общения с Тем, Кто не имеет материального тела.
– Интересно! – неожиданно для себя произнес Серега.
– Если интересно, я могу дать тебе почитать кое-что об иудаизме, – предложил старый Мотя. – Как я понимаю, ты далек от любой религии?
– Я – атеист! – гордо назвался Серега. – И член кружка «Молодые безбожники».
Старый Мотя мудро улыбнулся.
– Старик Вольтер, противник официальной религии, писал: «На стороне верующих в Бога – масса трудностей, на противоположной стороне – масса абсурда». Атеизм – интеллектуально ленивая доктрина, притом весьма не гибкая. А Достоевский писал в «Братьях Карамазовых»: «Бога нет – тогда все можно…» Предупреждал!
– Достоевский – представитель реакционной царской интеллигенции, – презрительно вскинулся Серега. – Он был против Великой Октябрьской социалистической революции…
– Царизм его чуть не казнил за участие в революционном кружке Петрашевского, а умер Достоевский задолго до пролетарской революции, впрочем, как и до буржуазной, – и старый Мотя рассмеялся. – Что за педагог у вас по литературе?
– У нас хороший педагог! – грудью встал на защиту педагога Серега. – Он так интересно рассказывает о Маяковском, о Горьком, о Демьяне Бедном. Все познавательно и понятно. А Бога разве можно познать? Как можно познать то, чего нет?
Старый Мотя произнес какую-то фразу на непонятном языке, а потом перевел:
– Это изречение на арамейском языке звучит приблизительно так: «Если бы я познал Его, я уже был бы Им».
– А как зовут вашего Бога? – поинтересовался Серега.
– Три тысячи лет тому назад Моисей, слушая Бога на горе Синайской, полюбопытствовал: как зовут Бога? Бог ответил: «Я есть Тот, Кто Есть».
– А я знаю хорошего человека! – вспомнил Серега. – Он – атеист!
– Не спорю! – согласился старый Мотя. – И среди атеистов встречаются хорошие люди! Доброта дается природой так же, как гениальность или талант. Образованные люди были всегда. Ученые были и в древности. Но мы же ввели всеобщее образование, готовим кого угодно: математиков, физиков, химиков, инженеров. Но не менее необходимо всеобщее нравственное образование!.. А может, и более! – добавил он после небольшой паузы.
– Старый Мотя! – вмешалась Елизавета Израилевна. – Ты не в синагоге, дай мальчику попить чаю со штруделем.
И она положила перед наевшимся впрок на пару дней Серегой тарелку с таким огромным куском пирога, что Серега даже зажмурился, раздумывая, осилит ли он такую порцию. Но, подумав: «пусть лучше плохое брюхо лопнет, чем хорошее кушанье останется», – он впился зубами в штрудель, запивая каждый проглоченный кусок большим глотком крепкого чая из большой кружки, фарфоровой, украшенной неимоверным количеством «золота».
Старый Мотя умолк и о чем-то думал, улыбаясь. Он разглядел живой интерес в глазах молодого гоя и сожалел, что не сумел воспитать достойным образом своего собственного сына. Нет, тот соблюдал, хотя бы внешне, все четыре категории еврейских законов: интроспективные, что возвышают исполнителя этих законов; законы этики, что способствуют нравственному поведению всех людей вообще, независимо от вероисповедания; законы святости, что возвышают человеческие поступки от уровня примитивного существа до уровня разумного богоподобного творения Бога; национальные законы, что приближают к еврейскому народу и его прошлому. Но религиозного рвения не проявлял, и старый Мотя чувствовал, что, как только сын проводит отца в последний путь, он с каждым годом будет все более и более отходить от законов Торы. Как и многие евреи.
«Уже сейчас почти никто не носит „цицит“», – думал старый Мотя. – «И сказал Бог Моисею: пойди к детям Израилевым и вели им носить „цицит“ на краях одежды во всех грядущих поколениях… чтобы, видя их, вспоминали заповеди Божьи и соблюдали их…» Сотни мицвот определяют нравственность евреев. Многие заповеди были взяты христианами: почитай отца и мать, не убий, не прелюбодействуй, не давай ложных показаний, не завидуй. Но мало они им следовали. Да и советские евреи все меньше и меньше соблюдают все заповеди. Кто исполняет мицву отдавать десять процентов своего годового дохода на благотворительные дела? Это ведь не обычный призыв к благотворительности, а вполне конкретное указание, сколько давать, чтобы человек не отделывался малой лептой в своем стремлении выглядеть в глазах людей «хорошим». Правда, кому сейчас можно довериться? Попадешь на тайного агента НКВД, а там считать умеют.
И спросят: как это вы умудрились дать десять процентов на благотворительные цели, когда эти десять процентов равны вашей годовой зарплате?.. И сказал Господь Моисею: «Объяви сынам Израилевым и скажи им: святы будете, ибо свят Я, Господь Бог ваш»… Человек может есть и совокупляться, как животные. А можно жить и на более высоком уровне: не есть, как свиньи, все подряд, не совокупляться, как кролики и мартышки. Законы Кашрут ограничивают еврея малым числом съедобных существ, нельзя есть свинину, раков, рыбу без чешуи и плавников… Но разве в Талмуде не записано: «в будущем человек должен будет отчитаться за всякую вкусную пищу, позволенную Законом, которую он отказался попробовать». Значит Еврейский Закон не проповедует аскетизм, а рассматривает чувственные формы физических удовольствий как радость, дар Божий… В Десяти Заповедях осуждается супружеская неверность, но Законы Иудаизма запрещают предаваться и в супружестве близости в любое время, когда у одного из них возникает желание. Талмуд уже почти две тысячи лет тому назад запретил вступать в половые сношения, если другая сторона не выразит встречного желания. А несколько известных дней каждого месяца супруги должны полностью отказаться от половой близости… А разве все советские евреи соблюдают национальные законы иудаизма? Ну, мацу во время празднования Пасхи употребляют все. Знают, что у бежавших из египетского плена не было времени выпечь кислый хлеб, испекли опресноки. Уже три тысячи двести лет соблюдают этот обычай в память об Исходе. И горькие травы едят, как символ воспоминаний о горькой жизни в рабстве у фараонов. Но кто уже постится на девятый день месяца Ав в знак скорби по поводу разрушения двух еврейских государств и двух священных Храмов?..
Старый Мотя так углубился в свои размышления, что уже не слышал, как разговор стал нарушать одну из целей Шабата: достижение внутреннего душевного равновесия и спокойствия путем отстранения от любой работы или занятия, отвлекающего от святости Шабата.
Сын Елизаветы Израилевны, названный в честь ее отца Израилем, с почтением внимал своей матери.
– Изя, нужно устроить мальчика! – вполголоса, чтобы не услышал Серега, заявила мать сыну. – Ты же знаешь его положение!
– Лиза, ты не знаешь, что ты хочешь! – удивился Изя, звавший любовно мать по имени. – Он же – гой! Нас могут не понять!
– А если к Василию? – задумалась Елизавета Израилевна.
– Василий единственно, чему может его научить, – это пить водку, – усмехнулся Изя. – Но этому нынешнее молодое поколение учится с успехом само по себе, без помощи старших товарищей. Разве не так?
– У Иосифа сына забрали! – вспомнила мать. – Старик остался один. Определи мальчика к нему. Обоим будет хорошо.
– Попробую! – задумался сын. – Старик заговариваться стал. Ты знаешь, кто приехал арестовывать молодого Пинхаса?
– Нет! – перебила мать. – Я с этими аспидами не знакома.
– Знакома! – еще более понизил голос Изя. – Во всяком случае, с одним. Руководил ими Гриша, сын Лейбы. Вспомнила?
– Не может быть? – воскликнула пораженная Елизавета Израилевна. – Бедная мать, бедный отец! Как им тяжело, я думаю…
– Я думаю, старому Пинхасу все же немножко тяжелей! – совсем тихо зашептал Изя. – Его сын получил десять лет без права переписки.
– Говорят… – повысила голос мать.
– Мы не знаем, как есть на самом деле, – прервал ее сын, опасаясь Сереги. – И не будем придавать значения тому, что говорят.
– Хорошо! – вздохнула мать. – Не забудь о старом Пинхасе.
– Обязательно, Лиза! – уверил мать Израиль. – А сам юноша хочет того? Может, ему нравится босячество?




![Книга Убийство в морге [Ликвидатор. Убить Ликвидатора. Изолятор временного содержания. Убийство в морге] автора Лев Златкин](http://itexts.net/files/books/110/oblozhka-knigi-ubiystvo-v-morge-likvidator.-ubit-likvidatora.-izolyator-vremennogo-soderzhaniya.-ubiystvo-v-morge-250833.jpg)



