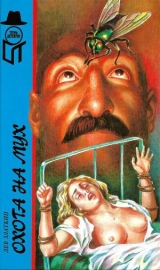
Текст книги "Охота на мух. Вновь распятый"
Автор книги: Лев Златкин
Жанр:
Политические детективы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 30 (всего у книги 43 страниц)
8
«Какой великий шум и гвалт…» Илюша с иронией наблюдал за поднявшейся в школе суматохой в связи с присуждением Александре Ивановне ордена Трудового Красного Знамени за… выслугу лет. Поразительно, но в общий стаж была включена и работа Александры Ивановны в гимназии, причем со слов самой юбилярши. Естественно, что та не упустила случая прибавить себе рабочих часов и лет, так что получалось, что она работает на ниве просвещения чуть ли не с четырнадцати лет. Но такие «мелочи» никого не смущали и никем не проверялись, это в условиях-то тотальной и всеобщей чистки. Советская власть все более и более устраивала Александру Ивановну, даже стала нравиться. Крикунов и бузотеров, которые разрушили столь привычный и приличный уклад жизни Александры Ивановны, что она до сих пор еще выла по ночам, вспоминая его, частично расстреляли, частично угнали в те края, «куда Макар телят гонял». Правда, Александру Ивановну раздражали евреи, еще мелькавшие на второстепенных постах в правительстве, однако некоторые из них, такие как Каганович, Мехлис и им подобные, стали вполне приличными людьми, с точки зрения Александры Ивановны. Впрочем, и до революции она знала двух очень симпатичных ей евреев, крещеных и хорошо воспитанных, которых отнюдь не устраивало всеобщее равенство и братство, делиться своими капиталами они не намеревались.
Награждение орденом Александра Ивановна восприняла как чудо, благость Христову за «великие муки», выпавшие на ее долю в революцию. Она до сих пор содрогалась, вспоминая черный беспощадный глаз маузера, смотревший неумолимо на нее, им смотрела сама Смерть. Но она тогда спаслась, тогда у нее был выбор. А выбор ей был предоставлен молодым худым и рыжим евреем, беспрестанно кашлявшим чахоточным кашлем: либо она выдает списки членов «Союза русского народа», что оставил ей на хранение в тайнике, где еще хранились и драгоценности с золотыми десятками, бежавший муж, либо расстрел на месте. Александра Ивановна выкупила свою жизнь очень дорогой ценой, где стоимость драгоценностей в сто пятьдесят тысяч золотых рублей была самой малой частью. Все, указанные в списке, кто не успел удрать или не догадался сделать этого, даже те, кто принял новую власть и отдавали все силы на службу ей, были арестованы и расстреляны без суда и следствия вместе с зарегистрировавшимися офицерами, поверившими, что победители пощадят побежденных, разоружившихся и раскаявшихся. Пощады не было. Александра Ивановна молчала о своей роли в этом неприглядном деле, но там, где знают все, знали и об этом деле и о ее роли в этом деле, но она не казалась им неприглядной, тем более что Александра Ивановна не остановилась на достигнутом и стольких еще отправила по этапу, что из них можно было составить еще один список, правда, в этом списке никто никогда не состоял в рядах «Союза русского народа».
До своего награждения Александра Ивановна всегда с завистью читала в титрах кинокартин: заслуженный орденоносец имярек. Теперь и она могла писать перед своей фамилией – «орденоносец». Грудь распирало от восторга и от предвкушения: что она теперь сможет сделать со своими немногими оставшимися еще на свободе врагами.
За день до торжества награждения всех школьников, от первого класса до последнего, от мала до велика, предупредили весьма сурово, что им следует явиться в парадной форме. И весь вечер перед торжеством мамы и бабушки стирали, крахмалили и гладили белые рубашки, фартуки, банты и красные галстуки, зубным порошком чистили зажимы для галстуков, на которых с фасада горел пионерский костер, а на языке зажима была выбита свастика, правда, не перевернутая свастика гималайской секты бон-по, ставшая государственным символом нацистской Германии, где к власти пришли социалисты с нацистским оттенком, национал-социалисты, чьи войска уже терзали многострадальную Польшу и готовились за пару недель расправиться с Францией и Англией. Но с Германией был заключен мирный дружеский договор, фотографии улыбающихся Молотова, Гитлера и Риббентропа с Гиммлером заполонили все газеты, а слово «мир» стало едва ли не самым употребительным словом. Два тоталитарных режима готовились разделить мир.
«Нам нужен мир! Весь!»
Естественно, что в торжественный день вручения ордена были отменены все занятия. Первоклашки репетировали стихи, срочно сочиненные местным школьным поэтом, учителем географии Аркадием Марковичем Шпейзманом, которого Александра Ивановна недолюбливала, это мягко говоря, по известным всем причинам. Последний раз каждый повторял, кто что должен делать, кто за кем выходить, кому какую фразу говорить, впрочем, большим разнообразием они не отличались, все как одна начинались со слов: «От имени…» Впрочем, имен членов правительства не было. «Каждый сверчок должен знать свой шесток». Любимая фраза новоявленного орденоносца.
Класс за классом, начиная с первоклашек, маршировал в актовый зал, из которого были вынесены заблаговременно все ряды кресел, а сцена разукрашена, как в праздник Первого Мая и Великого Октября. Первоклашек и вторые классы выстроили перед сценой, на их цветущих мордашках и в сияющих глазенках была столь явственно запечатлена огромная радость от внезапного праздника, какой-никакой, а все же лучше нудных занятий, на которых в них всеми силами пытались загасить искру божию, превратить в тупиц, в лучшем случае, в зубрил, а к выпускному балу – в манкуртов. И только влияние семьи спасало от всеобщей манкуртизации общества. Да и можно было радоваться, что квалификация педагогов, которым была доверена столь высокая миссия, была столь низкой, что брак в работе был огромен, не все светлые головы оболванивали. Природная лень и апатия выручали, если знаний не давали, то хотя бы не мешали получать их в другом месте: дома или в библиотеке. Но все же с каждым годом количество идиотов росло в геометрической прогрессии. Страх постепенно делал свое дело.
Вдоль стен актового зала выстроились старшеклассники, а в центре, за малышами, встали педагоги обеих школ, где трудилась на ниве просвещения Александра Ивановна, срезая, выламывая и вытаптывая «цветы жизни». Тут же находились и гости, приглашенные на столь торжественное мероприятие, как вручение ордена самой выдающейся человеконенавистнице.
Горнист, приглашенный из Дома пионеров, сыграл сигнал «торжественная линейка», затем зачем-то, не иначе со страха, продудел незапланированную «побудку». Сыграть «бери ложку, бери хлеб…» ему не дали, грубо отобрав трубу и для верности заткнув ее первой попавшейся под рукой тряпкой.
После незапланированной «побудки» сцена заполнилась президиумом из ответственных работников гороно и районо. Помощник президента республики скороговоркой, его ждали в одном, очень приличном доме, где муж уехал в однодневную командировку в район, прочел указ Президиума Верховного Совета СССР, сделал паузу, так как потерял в длинном списке награжденных фамилию Александры Ивановны, наконец, когда пауза уж слишком затянулась и раздались приглушенные смешки обрадованных мальчишек, к помощнику подскочил директор школы и, угодливо изогнувшись вопросительным знаком, шепнул ему на ушко искомую фамилию. Помощник обрадованно выкрикнул фамилию Александры Ивановны, поспешно вручил орден виновнице торжества и незаметно исчез.
Гром оваций и шквал аплодисментов обрушился в зале по незаметно отданному сигналу. Побежали один за другим, строго по списку, согласно репетиции, с букетами цветов. И у всех были слышны лишь первые слова: «От имени…» Остальные слова сливались в какую-то скороговорку, которую не слышали сами произносящие. А хорошенькая пятиклассница, видно, до того разволновалась, что звонко сказала: «Вот именно…» Засмущалась, торопливо сунула букет цветов и убежала плакать за кулисы. Правда, никто ничего не понял, все отупели от однообразных речей, от духоты, завхоз готовился к зиме и начал ее, как водится, законопатив все щели актового зала, от какой-то бессмыслицы, наполнившей зал до отказа. И лишь Илюша улыбнулся, да и то больше в душе, да Игорь по привычке ляпнул: «Именно так!»
Представители школ и другой общественности потащили на сцену многочисленные подарки, купленные на деньги школьников, родителей которых, под предлогом бесплатного обучения, обирали при любом удобном и неудобном случае, повод находили всегда. Правда, педагогам платили столько, что над ними постоянно дамокловым мечом висела проблема: умереть с голода или ходить оборванными и босыми. Может, поэтому и обкладывали данью каждого родителя. Дань несли в основном натурой. Ну, а щепетильные и честные жили впроголодь.
Александра Ивановна внимательно следила за тем, куда складывают подношения, зрение у нее было отличное, и делала записи в своем блокнотике, боялась, что половину сопрут. Занеся последнюю запись, она спрятала блокнотик в большой ридикюль и, тяжело топая, она издали была похожа на бегемота, пошла на трибуну, специально поставленную для нее.
На трибуне Александра Ивановна долго вытирала слезы платочком, попеременно сморкаясь в него, наконец, спрятала платок в необъятных размеров карман платья, глянула в зал совершенно сухими глазами и громоподобным, зычным голосом стала держать речь перед собравшимися:
– Мне трудно говорить. Я глубоко взволнована. Орден – оценка моей скромной деятельности в деле социалистического воспитания нашей прекрасной молодежи. Но не это – главная причина моего глубокого волнения, как, разумеется, и не ваши поздравления и, так сказать, более чем скромные подарки. Главная причина моего волнения – это чувство огромной признательности и безмерной любви к нашему Учителю Земного Шара, великому Вождю всех времен и народов, любимому Иосифу Виссарионовичу Сталину.
Бурные аплодисменты, переходящие в овации, потрясли актовый зал. Завхоз опасливо посмотрел на потолок, не рухнет ли, не осыплется ли штукатурка. Ехидные и доброжелательные улыбки на лицах исчезли, дело серьезное, и каждый старался показать себя чуть большим энтузиастом, чем сосед справа или слева.
Насладившись аплодисментами с овациями, воспринятыми в свой адрес, Александра Ивановна продолжила:
– Когда-то, в прошлой жизни, до революции, я верила в бога. Ходила в церковь, молилась. Все праздники церковные отмечала: рождество Христово, великий пост, масленицу, пасху… Даже именины и крестины справляла… революция уничтожила мою веру в бога. Я сказала себе: «Бога нет, раз он допустил такое!» Но я ошибалась. Бог не исчез. Он опустился на землю и стал нашим единственным Вождем на все времена, Отцом нации, Иосифом Виссарионовичем Сталиным…
Вновь бурные аплодисменты чуть было не обрушили потолок на собравшихся.
– Многие говорят, что сталинизм – это учение, – продолжала Александра Ивановна. – Только я прочувствовала сердцем, что сталинизм – это не только учение, сталинизм – это религия, в которую надо верить, даже если ты ничего не знаешь и не понимаешь. Вера укрепит твой дух, и ты будешь трудиться на благо построения нового общества, где человек человеку – друг, товарищ и брат…
Александра Ивановна сделала передышку и стала пить воду из стакана, предусмотрительно поставленного по ее требованию ответственным на трибуну.
Игорь не выдержал и, воспользовавшись паузой, дополнил: «Друг-предатель, товарищ волк, брат мой – враг мой».
А Илюша, стоявший рядом, едва слышно прошептал: «Где брат твой, Каин?.. Я не сторож брату своему!..»
– Но враги построения нового общества, создания нового человека, – в голосе Александры Ивановны зазвенел металл, – не хотят дать возможности мирно жить нашему народу. Я не буду портить праздника и называть их пофамильно, может, они находятся в этом зале, я назову их чуть позже и в другом, более подходящем для этого месте… Меня как-то спросили: как я представляю себе светлое будущее – коммунизм? Я долго думала, но сегодня могу ответить нытикам и капитулянтам: при коммунизме мы будем жить материально так же хорошо, как при царе Николае Втором, а духовно неизмеримо лучше, потому что всякая нечисть будет надежно укрыта в специально охраняемых местах и навечно изгнана из нашего навеки единого общества, где все мыслят, как один, как наш великий Маршал, вождь мирового пролетариата Иосиф Виссарионович Сталин…
При упоминании Николая Второго появилось множество носовых платков, за которыми были спрятаны улыбки и смешки. Но, как только было вновь произнесено грозное имя, платки исчезли, открыв обществу, единому и справедливому, лица патриотов, готовых отдать жизнь за любимого всеми детьми мира, лучшего друга всех физкультурников. И вновь децибелы достигали грохота обвала в горах, где родился и вырос горный орёл, расстилаясь в полет.
Илюша внезапно ощутил, как всеобщая экзальтация захватывает и его, понял, что люди сами доводят себя до исступления.
«Выбор невелик, – подумал он, – либо – либо: фанатизм или цинизм! Третьего не дано. Даже исключение скрыто маской все того же фанатизма».
Выбора действительно не было. И люди говорили то, что не думали, только то, что от них требовали и ожидали, а те, кто требовал и ждал, были закоренелыми фанатиками или циниками и негодяями. Людям оставалось делать только то, что делали все. Противопоставить себя массе было смерти подобно…
9
Через два дня после ареста родителей, когда большая часть ценных вещей, книг, мебели и все драгоценности были изъяты и увезены, конфискованы, за Никитой приехали прямо в школу. Вызванный прямо с урока в кабинет директора, как он предполагал, по поводу предстоящего комсомольского собрания, Никита, неожиданно увидев в кабинете мужчину спортивного телосложения, с добрыми, дружескими глазами, честно говоря, испугался. Он был уверен, что после публикации в газете его отречения от родителей его оставят в покое. Отречение поощрялось. Нквдешник снисходительно улыбнулся. Он столь часто видел подобное, как у Никиты, выражение лица, что, в конце концов, уверовал в свою значимость, в свое право распоряжаться судьбами людей.
Как только Никита вошел в кабинет, оперативник встал и занял привычное место, мешающее внезапному побегу. И не потому, что он боялся, что Никита убежит, такие не бегают. Просто в силу привычки.
– Черняков? – спросил он тепло, не как у врага.
Его тон обнадеживал. Никита согласно закивал: да, мол, Черняков, весь я тут невиновный, покорный.
– Я за тобой, поехали! – сообщил оперативник.
– Ранец собрать? – зачем-то спросил Никита, хотя и понимал, что ранец ему больше не понадобится.
– Не надо! – оперативник пристально посмотрел на Никиту. – Мы ненадолго. Хотя… Нет, не бери. Через час-два ты будешь в школе. Я в тебя верю. Смотри, оправдай, – добавил он шутливо, однако угроза прозвучала нешуточно.
Они вышли из школы плечо к плечу. Вроде и доверяли Никите, что не сбежит, а вроде и нет. А куда бежать-то? Дальше границы не убежишь. Без документов не спрячешься. Может, специально паспортную систему и ввели. Заранее готовились. Режим прописки кого хочешь выявит. За одним шпионом и то сколько мороки гоняться, а за миллионами разве уследишь без системы? Да ни в жизнь!
Так что, скорее опять по привычке, которая вторая натура.
У дверей школы их поджидала «эмка» черного цвета, с занавесками на окнах. Сколько раз мечтал Никита, глядя на мчащиеся по улицам эти автомобили, прокатиться вот на такой машине, с завистью провожая их взглядом, а пришлось, и никакого удовольствия, одни беспокойство и волнение. И не помогает ласковый взгляд. Ужас парализовал и волю, и мысли.
Никита боялся, что машина завернет к тюрьме, но шофер повернул к бульвару и вдоль бульвара поехал к площади Ленина. За квартал до площади свернул к новому комплексу зданий, занимаемых НКВД.
Никита облегченно вздохнул: «Не в тюрьму, значит, его арестовывать никто не собирается». Но, когда он вспомнил, сколь глубоки подвалы под этими зданиями, а об этом все шушукались в городе, пугливо озираясь, то ужас вновь охватил его и уже не выпускал из своих холодных лап.
Провожатый предъявил часовому пропуск на вход и, коротко бросив: «этот со мной!» – повел Никиту на второй этаж. У свежевыкрашенной двери, несколько отличавшейся от остальных, он знаком велел Никите обождать и, постучавшись три раза, скрылся в кабинете.
Никита стоял, не зная, куда бы себя приткнуть. Мимо него текла своя размеренная жизнь: из кабинета в кабинет сновали люди в форме темно-зеленого и черного цветов, торкались люди в штатском с застывшим ужасом на лицах. Эти, держа полученные по почте повестки в руке, тыкались, словно слепые котята, не в те кабинеты, что были указаны в повестках, это было странно, так как на каждой двери был четко указан номер кабинета. Но каждый свидетель, как заведенный, все равно попадал в нужный ему кабинет в лучшем случае только со второй попытки. И повестки в их руках дрожали осиновыми листочками.
Ждать пришлось недолго, всего минут двадцать, но это были двадцать минут, в которых каждая секунда была весомее обычных секунд, по меньшей мере, втрое.
Дверь открылась в ту минуту, когда Никита уже перестал чего-либо ждать и тупо уставился в маленькое, почти незаметное пятно на стене, ржавое и выгоревшее на солнце. Провожатый, высунув голову в приоткрытую дверь, окинул подопечного быстрым взглядом, цепким и профессиональным, остался доволен состоянием юноши и коротко пригласил:
– Заходи!
Никита машинально, чтобы снять оцепенение, ковырнул ногтем пятнышко, и оно все поместилось у него под ногтем.
«Неужели кровь?» – страшная мысль ошеломила, ноги стали ватными. В таком состоянии, «подготовленным», Никита и вошел в кабинет следователя. И первым, кого он увидел, был его отец. Постаревший сразу лет на десять, с воспаленными покрасневшими глазами, он сидел на крепко привинченном к полу табурете, уронив большие руки на колени, и монотонно повторял: «Не верю, не верю, не верю, не верю!»
Следователь, бросив довольный взгляд на вошедшего Никиту, откинулся на стуле и дружелюбно сказал:
– Напрасно, Черняков, вы нам не доверяете, не хотите разоружиться перед партией и народом, обвинение предъявлено вам очень серьезное…
– Никакого обвинения вы мне не предъявляли, – упрямо перебил его старший Черняков, – это оговор, и неизвестно еще, как вы получили показания Матевосяна…
– Мы привезли вашего сына, – указал следователь на вошедшего Никиту, – вернее, бывшего сына, он отказался от вас.
И следователь протянул газету через стол. Отец Никиты приподнялся, взял газету и лишь мельком взглянул на сына, когда садился обратно на табурет. Развернув газету, он внимательно прочел заявление сына, затем удивительно спокойно сложил газету и, не вставая, швырнул ее на стол следователю.
И так же спокойно спросил:
– Заставили?
Следователь обиженно развел руками:
– Обижаете, Черняков! Нам-то зачем нужно? Сам прибежал, да еще заявление в газету подписал числом на день раньше. Провидец! Если хотите, мы и это его заявление можем приобщить к вашему делу, представить на обозрение.
Отец смотрел на сына столь удивленно, словно на диковинку какую-то, в первый раз будто бы увидел. Долго молчал, но все же спросил:
– Это правда?
Спросил, заранее зная ответ. И он его услышал.
– Все верно, отец! – прохрипел Никита, в горле пересохло, а попросить стакан воды из красиво поблескивающего хрустального графина, стоявшего на столе перед следователем, не решился. Столь страшно было.
– Я уже не отец тебе! – медленно, все еще не веря, проговорил отец и внезапно закричал в отчаянии: – Пусть будет проклят тот день, когда я зачал тебя!
– Ну зачем же так! – стал его успокаивать следователь. – Сын у вас – патриот своей отчизны. Вам бы взять с него пример и рассказать о том, что вы знаете о группе Матевосяна. Ведь он вас выдал, не пожалел!
– Эти показания вы из него выбили! – не уступал старший Черняков. – Я по его стопам не пойду. Это молодых, таких, как мой сын, вы успешно ломаете. Моя вина, мало времени ему уделял, мало им занимался.
– Я считаю по-другому: прекрасного вы сына воспитали, – усмехнулся следователь, – и это вам зачтется на суде, если, конечно, вы дадите показания.
– Никаких показаний я давать не буду! – отрезал отец.
Следователь нажал на кнопку звонка. Тут же открылась вторая дверь, ведущая из кабинета в сторону, противоположную той, откуда явился Никита, и отца увели. Он вышел с гордо поднятой головой и даже в дверях не захотел оглянуться на предателя-сына.
У Никиты защипало в глазах, и он разрыдался, слезы потекли ручьями, отдавая вкусом соли на губах. Так обиженно плачут только в самом нежном возрасте, в раннем детстве.
Следователь поспешно налил в стакан воды из хрустального графина и заставил Никиту выпить, приговаривая укоризненно, как с маленьким ребенком:
– Ай-ай-ай! Такой большой, а плачешь, как маленький. Перестань, перестань! Мужчина ты или баба? Смотри, как ты мужественно расплевался с родителями. Не каждый так сможет. По идее должен, а не сможет.
Никита залпом выпил воду и, как ни странно, сразу успокоился. Только что-то оборвалось в груди и улетело куда-то безвозвратно, что-то очень важное, потому что появилось ощущение пустоты и холода там, где раньше располагалась душа.
«Ты бывал в семье Матевосяна?» – услышал он вкрадчивый голос следователя.
– Бывал и часто! – ответил он машинально, но голос его звучал чисто и звонко. – Я был обручен с его дочерью!
– Это замечательно! – обрадовался следователь. – Садись за мой стол. Вот тебе бумага, ручка и чернила. Память у тебя еще не поражена склерозом, на который так часто любят ссылаться старые борцы за так называемое «народное дело». Вспомни, мой хороший мальчик, всех людей, которых ты видел в доме Матевосяна, все разговоры, которые ты слышал…
– Я не знаю многих по фамилии! – перебил следователя Никита.
– Достаточно, если ты вспомнишь их имена и дашь словесный портрет, – успокоил следователь. – Главное, разговоры, разговоры… Работай!
Следователь внезапно пересадил Никиту из-за стола за стол, стоявший у стены, а сам достал из сейфа несколько папок с делами и стал их просматривать, время от времени бросая пытливый взгляд на пишущего Никиту.
А тот увлекся. Память у него была на самом деле замечательная, он вспоминал эпизод за эпизодом: лица, виденные им у Матевосяна, проплывали одно за другим, а разговоры настолько ясно слышались, как будто бы только вчера говорили. На миг, правда, мелькнуло и лицо Стеллы, дочери Матевосяна, мелькнуло и пропало, не вызвав ни тени малейшего сожаления у Никиты.
«Что было, то прошло!» – подумал он и тихо спел: «Многое вспомнишь, давно позабытое»… – и змеиная усмешка чуть-чуть тронула его губы, исказив лицо гримасой отвращения к самому себе.
Следователь как раз в эту секунду посмотрел на Никиту и, заметив его гримасу, сразу вспомнил о важном деле, открыл ящик стола и достал какую-то бумагу, положив ее перед собой, чтобы не забыть.
А Никита писал свое главное сочинение в жизни, стараясь ничего не упустить и никого не позабыть. Час без перерыва, не давая себе ни малейшего отдыха, он писал и писал, аж рука устала.
Завершив свое сочинение на заданную тему, Никита потер онемевшую кисть и прошептал: «Рука бойца колоть устала…»
Он отнес сочинение и положил его на стол перед следователем, как делал не раз в классе, с тем же спокойствием.
– Написал! – сообщил он с некоторой гордостью.
– Все вспомнил? – спросил следователь, не отрываясь от читаемого дела.
– Вроде все!
– Вроде или все? – уточнил следователь, с сожалением отрываясь от изучения дела, очевидно, очень интересного.
– Если что-нибудь еще вспомню, то обязательно напишу! – поправил Никита.
Следователь дружески кивнул Никите на табурет, привинченный к полу, и Никита сел на то же самое место, где только что сидел его отец. Ему даже показалось, что табурет еще хранит его тепло. Никита вновь вспомнил, как он любил отца, гордился им и почти боготворил его.
И все! Внезапно тепло исчезло, Никита спокойно стал следить за выражением лица следователя, читающего его опус. На первый взгляд оно ничего не выражало. Но это только на первый взгляд. Следователь хорошо владел собой, но, приглядевшись, можно было заметить, как он с удовольствием находил полезное для себя в откровениях Никиты.
А Никита опять вспомнил Стеллу и удивился, что когда-то смотрел на нее как на будущую жену. Даже целовались и ласкались, но его попытки пойти дальше, к брачным отношениям до брака, решительно пресекались, хотя Никита видел, как загорались глаза Стеллы и какого труда стоит ей устоять перед тем же желанием, столь властным над людьми.
«Она не сориентировалась, – с горечью подумал Никита, – и ее „замели“!»
– Неплохо! – восхитился следователь, окончив чтение. – А для первого раза просто хорошо! – похвалил он Никиту. – Я думаю, мы сработаемся!
Никита вопросительно посмотрел на следователя. Чувствовал, что-то непонятное, но важное прозвучало в словах его. Никита замер: «Неужто его возьмут на работу в НКВД?» Но тут же сам понял, что на работу его не возьмут, а будет он бесплатно работать «стукачом». Но ему уже было все равно.
«Стукачом так стукачом! – подумал он даже без горечи. – Жизнь стоит того, чтобы из-за нее пойти на компромисс. Если у Стеллы еще есть шанс попасть в любовницы к начальству, то мне „светит“ только лесоповал. Канал уже построили да и там, говорят, пачками расстреливали и гибли от голода. Но на канале хотя бы за ударную работу досрочно освобождали. А теперь?.. Слухов много, толку мало. Что будет, то будет!»
– Я вас не понял! – сказал он на всякий случай.
– Нет? – удивился следователь. – Тогда прочти внимательно вот эту бумагу и подпиши ее, если согласен.
И он протянул Никите лист бумаги с отпечатанным заранее текстом, который следователь и достал из стола.
Никита с большой охотой встал с табурета, на котором он чувствовал себя арестованным. Стоя прочел бумагу, там было написано именно о том, о чем он думал несколько минут назад. Хоть и впервые прочел, никогда даже не слышал о подобной бумаге, не то что не видел, а впечатление было такое, что он этот текст знает чуть ли не с пеленок, мать в младенчестве пела ему вместо колыбельной.
Никита подписал бумагу, не обсуждая ни условий работы, ни оплаты. Подписал твердой рукой. Все равно назад пути не было. Только вперед! Путь этот был уже определен и высвечен, с него нельзя было ни сойти, ни свернуть. Кому что суждено, тому то и уготовано. Судьба!
«Судьба – индейка, а жизнь – копейка!» – вспомнил Никита старую поговорку.
И где-то в глубине души был рад, что судьба обошлась с ним еще по-божески.
– Заканчивай десятилетку, нам нужны образованные. На язык подналяг. Мне удалось закончить только четыре класса реального училища… – Следователь задумался, а Никита терпеливо ждал, когда он «родит» идею. – Вот тебе первое задание: сойдись поближе со всеми отщепенцами, ты понимаешь, о ком я так говорю, выясни, чем они «дышат», поточнее записывая разговоры, на память не рассчитывай, она часто подводит, в самую неподходящую минуту. Запомни мой номер телефона, как только будет что сообщить, звони.
– Мне можно идти? – спросил Никита, как только следователь замолчал.
– Иди! – следователь черканул на пропуске фамилию, имя, отчество Никиты и протянул юноше. – Возьми пропуск, отдашь часовому, а то не выпустит. А когда вернешься из школы домой, загляни в старенький шифоньер, что вам оставили за ненадобностью. Под бумагой обнаружишь деньги. Их тебе должно хватить до окончания школы. Расходуй экономно, не пей. На бабушкину пенсию вдвоем не проживешь.
– До свиданья! – Никита взял пропуск и направился к двери.
Когда он уже взялся за ручку двери, следователь напомнил ему еще раз:
– Не забудь, ты теперь вдвойне должен держать язык за зубами. Ребятам скажешь, что возили на очную ставку с отцом. С бывшим отцом. Запомни это слово и почаще его употребляй.
– Запомню!
Никита вышел из кабинета, осторожно и бережно закрыл за собой дверь, так, чтобы, не дай бог, не хлопнуть дверью, что могло быть расценено, как проявление неуважения.
«Впрочем, где ему, с четырьмя классами образования, знать смысл выражения: „хлопнул дверью“»? – подумал Никита, но дверь закрыл мягко и тихо, даже без скрипа. «На всякий случай, вдруг где-нибудь слышал?»
Часовой удивленно посмотрел на Никиту. Он всегда удивленно смотрел на людей, которым удавалось покинуть живыми это учреждение. Часовой с большой неохотой выпускал их из здания, считая это недоразумением, браком в работе коллег. «Раз уж попал сюда, значит, за дело. И нечего!» – так примерно выступал он перед своими товарищами, рассуждая за бутылкой водки. Поэтому он долго, минут десять рассматривал пропуск, пытаясь хоть к чему-нибудь прицепиться, что-нибудь найти такое, чтобы, проявив бдительность, можно было еще на какое-то время задержать. Не из вредности, из принципа: вдруг передумают выпускать. За службу было ему обидно… Но в пропуске, к его глубокому сожалению, все соответствовало форме и содержанию. Не найдя ничего, за что можно было бы зацепиться, часовой злобно с размаху наколол пропуск на острый металлический штырь и хмуро кивнул Никите, безмолвно говоря: «Ладно уж, иди, ничего не попишешь…»
Когда Никита распахнул дверь и вышел на тротуар, яркое солнце ошеломило его. Зелень деревьев и кустарников и множество других цветов и красок столь стремительно бросились в глаза, что Никита отшатнулся и несколько секунд стоял неподвижно, не в силах сделать ни шага. Все заходило перед глазами ходуном, и родилось ощущение, что он делает свой первый шаг самостоятельно, а мать сидит в нескольких шагах в стороне от него, руки протягивает и ласково улыбается, пальцами маня: «Ну, смелей, малыш, смелей! Главное – не упасть, а для того, чтобы не упасть, не надо бояться. Иди ко мне, вот я, рядом, совсем близко, всего несколько шажков, сделай одно усилие, прояви желание, и ты в моих объятиях. Иди, родной!»
Ощущение хаоса исчезло очень скоро, все успокоилось, вернулось на свои места, мир стал привычным, познаваемым, и даже солнце потускнело, зелень поблекла, стала осенней, когда желтый цвет побеждает неумолимо. Красота осталась, а острое восприятие исчезло.
Никита пошел в школу пешком. Денег на транспорт не было, но, если бы и были, все равно пошел бы пешком, столь сильны были еще переживания и впечатления от происшедшего. Хотелось побыть в одиночестве, успокоиться.
Вышел на бульвар и пошел, любуясь бухтой, заливом, городом, амфитеатром, спускавшимся к морю, своим видом напоминая Венецию, да и самим бульваром можно было бесконечно любоваться, и осеннее убранство радовало глаз.
Все же с памятью трудно бороться. Трудно ей что-то противопоставить. Лишь беспамятство. Но в зомби сразу не превратишься, большая работа предварительная требуется, как извне, так и изнутри. И желание. Без желания забыть человек, даже сломленный, все помнит или может в любой момент вспомнить. Стеклянный шарик с разноцветными нитями, оживающий, стоит лишь его крутануть посильнее, сразу вызовет волнующие эпизоды детства, попутно захватив в свою орбиту вращения цепь сопредельных ассоциаций и воспоминаний.




![Книга Убийство в морге [Ликвидатор. Убить Ликвидатора. Изолятор временного содержания. Убийство в морге] автора Лев Златкин](http://itexts.net/files/books/110/oblozhka-knigi-ubiystvo-v-morge-likvidator.-ubit-likvidatora.-izolyator-vremennogo-soderzhaniya.-ubiystvo-v-morge-250833.jpg)



