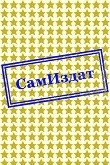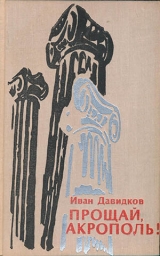
Текст книги "Прощай, Акрополь!"
Автор книги: Иван Давидков
Жанр:
Повесть
сообщить о нарушении
Текущая страница: 20 (всего у книги 31 страниц)
Загоралась она в обществе натур артистических. Становилась словоохотливой, даже болтливой. Нежный носик вздрагивал (она не подозревала, что при этом на лоб на* бегают морщинки), глаза блестели, она выглядела такой легкомысленной, такой доступной, что иному казалось: стоит щелкнуть выключателем – и, не успеет еще остыть в лампе раскаленный волосок, как зашуршит сброшенное платье и словоохотливая красавица опустится на кровать.
Разумеется, это было не так. Едва угасала беседа, как ее движения вновь становились сдержанными и размеренными, а лицо застывало в холодной маске неприступности. Она провожала гостей до ступенек террасы и запирала за собой дверь.
Привязанность к неведомому им супругу делала ее весьма старомодной в глазах новых знакомых. А может быть, просто не появился еще человек, который разбудил бы никогда не испытанные ею чувства?
Она и сама этого не знала. Шуршал между пальцами песок, и вместе с песком уходило лето – медленно подмываемое набегающими на берег волнами.
Этот человек появился.
Его приезд не сопровождался никакими особыми событиями. Она даже не обратила бы внимания, что по цементным ступенькам соседней дачи поднимается высокий, статный человек с волосами до плеч, не будь у него в руках выпачканного красками этюдника, а под мышкой натянутых на подрамники холстов.
Незнакомец вошел в дом, вернулся за оставленным у входа чемоданом и принялся раскладывать вещи.
Александрина собиралась на пляж. Когда она проходила мимо нового соседа, он приветствовал ее легким поклоном, на который она не ответила, потому что сочла это фамильярностью. К тому времени, как она ступила на прибрежный песок, приятно холодивший ступни, мимолетная встреча с приезжим вовсе испарилась из ее памяти.
Но вечером она увидела его снова. Ее окно выходило прямо на его комнату, и, не проявляя любопытства, она невольно наблюдала за тем, что он делает. Снял рубаху, швырнул на постель. Тело у него было белое, даже с голубизной; нетронутое солнцем, оно выглядело болезненным, хилым. Но в руках ощущалась сила – загорелые по локоть, крепкие, жилистые. Ей даже сначала показалось, что незнакомец натянул нелепые длинные перчатки, в каких дамы когда–то выезжали на балы. Этими загорелыми руками новый сосед, зажав в зубах гвоздики, сколачивал подрамник и натягивал на него холст. Потом он стал раздеваться, кинул брюки на стул и погасил свет.
Через несколько дней, когда они вновь встретились возле ее дома (художник нес первую законченную здесь картину), она на секунду остановила взгляд на холсте, и сосед, перехватив этот взгляд, прислонил картину к стене, чтобы любопытная дама могла рассмотреть ее. Александрина поблагодарила и пошла дальше.
А на следующий день, отдыхая после обеда на террасе (ее загорелые руки покоились на белых подлокотниках плетеного кресла), она опять увидела художника. Он сидел в соседнем дворе за мольбертом и рисовал. «Заканчивает вчерашнюю картину», – подумала она, но вдруг заметила, что его взгляд подолгу останавливается на ней, причем в этом взгляде нет дерзкого любопытства мужчины, который тоже в одиночестве проводит досуг у моря. Она в свою очередь стала поглядывать на него, но тайком, делая вид, что ее занимает лишь дыхание бриза, который вздувал ее платье и касался тела – такой плотный, будто это бархат, а не просто движение воздушных слоев.
К концу дня, расправив затекшие от долгого сидения плечи, художник снял подрамник с мольберта и приставил к стене. Потом отошел на несколько шагов, чтобы взглянуть на свое творение с некоторого расстояния, и заметил, что туда же устремлен взгляд соседки.
– Простите мое любопытство, но, видимо, это я? – поднимаясь с кресла, любезным тоном спросила она.
– Я пытался передать хоть малую толику вашего обаяния, – сказал художник, любивший театральный слог, и нагнулся вытереть кисти.
Вечером они сидели у нее на террасе и пили кофе. Прислоненная к перилам картина стояла перед ними. Художник время от времени посматривал на нее и видел, как меркнут краски при слабом свете лампы. А женщина в оранжевом платье с необычным волнением рассматривала поблескивающую – краски еще не совсем высохли – женщину, в которой она открывала свои черты. В выражении лица, в напряженных линиях рук, в тревожном сверкании оранжевого цвета Александрина угадывала что–то такое, чему она не могла найти названия – а между тем оно определялось одним словом: ожидание.
Допив кофе, они перевернули свои чашки, и когда на белых стенках отпечатался узор из засохших струек – четких, как на мексиканской гравюре, – Александрина опустила к его чашке свои темные, как кофейные зерна, глаза.
– Птицы! Никогда не видела такого множества птиц! Есть черные, но белых больше… Вас ждут какие–то тревоги. Вижу дорогу, на дороге змея, но вы сумеете ее обойти. Взгляните вон на того пса: он будет верно следовать за вами до самой вершины, где перед вами откроется широкий простор…
– И по этой дороге, – подхватил художник, подражая ее голосу, – вероятно, скоро уедет отсюда одна очаровательная гадалка, и придется мне по вечерам попивать кофеек в одиночку. Гадалка даже не оставит адреса, и никто больше не предскажет мне, обойду ли я змею на дороге, и не потеряет ли верный пес мой след…
Женщина в оранжевом платье молча смотрела на него и улыбалась.
К пристани подходило суденышко из Несебра. Еще секунду назад невидимое, оно прорвало тьму, засверкало под фонарями, ударилось гуттаперчевыми поясами о каменную стену причала. Раздались шаги спускающихся по трапу людей.
Стало прохладно. Александрина вошла в комнату накинуть на плечи пальто.
* * *
Августовскими вечерами они ходили гулять вдоль залива. Она надевала зеленое платье, накидывала ажурную черную шаль с длинной бахромой, которая плотно облегала ее и колыхалась при каждом шаге, как будто ее неотступно сопровождал ветер. Сырой воздух размывал очертания меловых холмов над городком, легкими мазками акварели стекались они к пристани, и художнику казалось, что утром, когда он выглянет в окно, от этих пепельных возвышений не останется и следа…
Бывший дворец румынской королевы прятался за гигантскими кронами деревьев. Только белел высокий минарет, весь облепленный ласточкиными гнездами, – его освещал одинокий фонарь у пристани и пена прибоя. В темноте звенели струи водопадов, и аллея вилась между этими мелодичными звуками и ароматом ночных цветов, к которому примешивалось горьковатое дыхание моря. Художник чувствовал рядом плечо Александрины, рассказывал ей о своих странствиях, о пестроте южных рыбных базаров, об оливковых рощах под Салониками, где его однажды застала гроза, и он долго смотрел, как за стволами деревьев мчатся алые кони и мокрые спутанные гривы полощатся на ветру. Он говорил и, как это не раз бывало и прежде, чувствовал, что его слова падают на благодатную почву. И думал: все люди жаждут романтики. Избавиться, отдалиться от прозы обыденности, говорить о странах и людях, которые им кажутся недостижимо далекими… Этим он объяснял себе интерес публики к жизни, к личным переживаниям и странностям поэтов, художников, артистов… Они привлекают к себе любвеобильные, романтические сердца, ненадолго удерживают их в плену своего таланта, вслед за чем нередко приходит разочарование. От кого–то он слыхал: «Смотри на картины, читай стихи, но не спеши заглянуть в жизнь того, кто их создал. Может оказаться, что автор нежнейших поэтических творений – мрачный эгоист, а щедрый на цвета и чувства художник – в жизни жалкий скупец, который полезет под стол, чтобы подобрать оброненный кельнером пятак». Он знал по себе, что это правда. «Но возможно, поэт (и художник) – это нечто совершенно отдельное от того человека, в чьих башмаках и мятом костюме он ходит по земле? – размышлял мой приятель. – Вернее, он – сокровенная суть этого человека, его неоскверненная душа, и эта душа либо умиляется сверх меры, либо вопиет об утраченных щедрости и доброте, тогда как обладатель таланта – всего лишь желчное, себялюбивое существо…»
Он не понимал, отчего эти мысли приходят в голову именно сейчас, когда ночь так безмятежна и сквозь гигантские ветви деревьев сочится благоухающая мгла. Быть может, тому виной Александрина, которая молча идет рядом, внимательно слушает, ласково прикасается к его руке. Он думал о том, что в ее манере держаться есть притворство. Она должна идти с ним рядом как любящая женщина, отдать себя пылко, без оглядки, иначе все будет пошло и безнравственно. Должна найти оправдание своему шагу, истинную причину, подсказанную сердцем.
И когда муж снова примется ощупывать позвонки на ее спине (после долгой разлуки рука его будет ласковой и мягкой), она невольно ощутит жилистые, загорелые по локоть руки художника, а когда муж будет таять от нежности, она услышит дыхание другого мужчины, увидит на подушке его разметавшиеся волосы и подумает: «Я его любила, кто вправе осудить меня?» И после этих слов, в которых все женщины в мире находят себе оправдание, она с чистой совестью уснет.
Но в ту августовскую ночь сон долго не шел к ней. Она и впрямь полюбила человека, рядом с которым шла по парку Балчикского дворца, где белел над головою минарет. Полюбила и испугалась своего чувства, потому что до тех пор умела сдерживать сердечные порывы. Как сладостно было следить за извилистым течением его голоса под темным небосклоном, слушать шелест травы под его ногами, видеть в просветах между деревьями его четкий профиль.
Он вел ее к аллее кактусов – это был его любимый уголок. Он часто сворачивал сюда, чтобы полюбоваться высокими, рубчатыми, как античные колонны, стеблями, сочетанием зеленого и фиолетового, длинными, как сабли, листьями агавы, слоновьими мясистыми ушами мексиканских кактусов, колючими, как еж, шарами австралийских.
Кактусы цвели. На неуклюжих стеблях светились прозрачные фонарики, розовые, шафранные, голубые цветы. Была в них какая–то особая нежность – большие, крупные, посыпанные золотой пыльцой, они, казалось, обшарили весь стебель, прежде чем нашли среди бесчисленных колючек безопасное местечко для своих трепетных, как крылья бабочки, лепестков. Над этой нежностью нависали шипы.
И на фоне этих цветов, мимо колючих переселенцев из далеких пустынь шли мужчина и женщина, неся в сердце любовь, возможно, такую же недолговечную, как летнее цветенье кактусов, а может быть – кто знает? – долгую мучительную боль от шипов, которые впивались в их плечи…
В апреле в доме рентгенолога родился сын. Счастливый отец завалил всю комнату игрушками, хотя мальчик пока умел только улыбаться и даже соску не мог удержать в ручонках – розовых, точно вымытых холодной капелью, звеневшей по карнизу.
Совершенно так же звенели расставленные перед гостями хрустальные бокалы. Доктор разносил шампанское, пробки летели в потолок, а потом прыгали по ковру. Шипящий напиток струился в бокалы. Пена стекала по тонким резным стенкам, на миг задерживалась на скатерти и расплывалась мокрым пятном.
Впервые в жизни доктор пил. Он испытывал неведомую прежде жажду. После второго глотка у него зашумело в голове. Он вскочил, чтобы в который уж раз показать гостям сына, спавшего у стены в колыбели. Нечаянно потянул за собой скатерть, и хрустальные бокалы посыпались на ковер, зазвенели, запрыгали осколки. Счастливый родитель сконфуженно улыбался, шарил по карманам в поисках платка – вытереть залитый костюм. Младенец заплакал, гости вышли из–за стола и, отряхивая с себя винные брызги, принялись утешать хозяина дома.
– Ничего, ничего! Это к счастью… Будет у твоего сына голос – звонкий, как хрусталь. И дай ему бог так же радовать женщин, как вино, которое мы сейчас пьем за его здоровье…
Мальчик продолжал кричать, гости стояли над ним, смотрели, как он сминает ногами пеленки, смотрели на залитые слезами глазки, ямочки на щеках и улыбались:
– Вылитый твой портрет, доктор! И глаза – в точности, Овал лица…
Снег продолжал таять. Белые шапки сползали с крыш, пролетали мимо окон и гулко плюхались наземь.
Все родители видят в своем новорожденном младенце сходство с собой. Да и близкие стараются убедить их в этом. Один больше похож на отца, другой на мать… В глазах, улыбке, даже капризах родители обнаруживают свои черты, сопоставляют с рассказами о самой ранней поре собственного детства и счастливы, что жизнь сделала еще один виток и вознесла над ними – ведь сами они идут уже с горы, а не в гору – маленькое существо, очень схожее с теми, кто его породил, и в чем–то, наверно, совсем другое – разве обыкновенный человеческий разум в силах разгадать тайны природы? И это новорожденное существо продолжит их путь, понесет сквозь пространство и время чудо их крови грядущим поколениям…
Ребенок растет. На спинках стульев, на коричневых изразцах камина, на балконе, над которым соседка вытряхивает по утрам половики, – всюду сохнут пеленки. Черты мальчугана становятся все определеннее, обозначились светло–каштановые дуги бровей, глаза заволокло мечтательной дымкой, а нежные, еле заметные ямочки на щеках похожи на те вмятинки, которые крестьянки делают соломинкой на тесте перед тем, как ставить хлеб в печь.
Не по дням, а по часам изменялся сын Александрины и рентгенолога. Влюбленный в свое позднее чадо, отец замечал, что сходство между ним и сыном слабеет, лицо у малыша удлиняется, подбородок заострился, глаза, еще недавно какого–то неопределенного цвета, приобретают прозрачную зеленоватость морской воды… У него и у жены глаза были совсем другие. Впрочем, физическая несхожесть не так уж смущала его – будучи медиком, он понимал, что трудно проникнуть в тайну генов (как угадать, черты кого из прародителей повторились в лице ребенка?). Смущали склонности уже подросшего мальчугана – высокого, стройного, совершенно не похожего на приземистых, коренастых мужчин в их роду. Сын был рассеянным, вечно терял игрушки или раздаривал – ему нравилось радовать других детей. Дома он целыми днями рисовал. Дочеркал все книжки, какие попались под руку. Даже на страницах медицинской энциклопедии нарисовал цветными карандашами каких–то диковинных птиц, и, не обожай его так отец, он, наверно, в сердцах надрал бы сыну уши. Вместо этого он посадил мальчика к себе на колени и стал, улыбаясь, втолковывать, что хорошие мальчики так не поступают.
А сын вслед за тем принялся за стены. Изрисовал всё, куда только мог достать рукой. Тут были пальмы, оплетенные лианами, между ними – львы с красными глазами. Дома. И солнце, много лучистых солнц, напоминавших снопы пшеницы… На сей раз доктор вскипел, но все же сумел сдержаться, не поднял на сына руки. Только сказал, что позовет маляра заново покрасить комнаты. Александрина воспротивилась: «К чему спешить? Пусть эти картинки останутся на память о тех годах, когда наш мальчик был еще маленьким…»
Теперь рентгенолог уже не сомневался, что в их семейном гнезде – кукушонок. Чужой и странный человек жил в душе этого ребенка.
Александрина прекрасно знала, кто этот человек. Прощаясь с ним, она впервые в жизни заплакала – от нежности и горестного сознания, что теряет его, потому что не способна сжечь за собой все мосты и последовать за тем, кто поведет ее к счастью или – как знать? – к горькому разочарованию. Она не была создана для риска.
По ночам, прислушиваясь к дыханью сына, она вспоминала негромкое шипенье паровоза, который разводил пары, чтобы отвезти ее назад, в Лудогорие. Художник стоял на перроне, сжимая в руке букет, который забыл ей отдать, говорил что–то веселое, но она видела, что ему грустно… Она махала рукой до тех пор, пока поезд не свернул в узкий коридор, сжатый высокими стенами тополей. Он все еще стоял на перроне, в пиджаке цвета ржавчины, который напоминал осенние яблони на склонах лудогорских холмов.
Она понимала: кончилось в ее жизни что–то большое, невозвратимое, и по щекам струились немые, просветленные любовью слезы…
Красавица гадалка, которая в то быстро промелькнувшее лето пыталась по разводам кофейной гущи увидеть все повороты, что ждут его на дорогах жизни, не забыла сообщить ему свой адрес. Написала она и о рождении сына. «Буду смотреть в глаза малыша – такие же зеленые, как твои, и вспоминать море», – выведенные тонким пером, строчки были такие же лиловые, как то платье, в котором счастливая любящая женщина гуляла когда–то по вечернему пляжу.
Лицо мальчика все больше напоминало ей о художнике и о последнем – греховном – лете в Балчике. Хотя почему греховном? Она искренне и горячо любила этого человека. И он тоже отдал ей сердце без остатка. Разве была в этом корысть? Двоедушие? От их любви родился ребенок – так же естественно, как рождается цветок от взаимной любви земли и солнца. Проведай о том люди, которые связаны брачными узами, но ненавидят друг друга и предаются любовным утехам со злобой или безразличием, лишь подчиняясь инстинкту продолжения рода, – они заклеймили бы ее. Да и в ней самой чувство собственной правоты подтачивалось угрызениями совести. Воспитанная в семье со строгими устоями, она порой осуждала себя за то, что, уступив искушению, нанесла оскорбление своему неизменно милому, деликатному мужу, однако потом, после длительных размышлений, приходила к мысли, что это лучший поступок в ее жизни.
Художник радовался ее письмам, но ни разу не напомнил о себе, опасаясь, как бы письмо от мужчины, незнакомого мужу, не вызвало осложнений в семье. Ему очень хотелось хоть издали взглянуть на мальчика, который уже учился в школе, но и на это он долго не мог решиться – не однажды отправлялся на вокзал, становился в очередь в кассу и уходил домой, так и не взяв билета. Но наконец решился, в одно прекрасное утро вскочил в последний вагон скорого поезда и покатил в тот городок, где жила Александрина.
Приехал он под вечер. Спросил, где живет рентгенолог, нашел улочку, где стоял одноэтажный, выкрашенный желтой краской дом с эмалированной табличкой на двери, напротив, наискосок было небольшое кафе, он зашел туда и заказал пиво. Долгое время никто не показывался. Потом дверь с табличкой открылась, вышел мальчик. К великой радости художника, он направился именно сюда – нес пустые бутылки из–под лимонада. Бутылки звякали в сумке, приезжий разглядывал мальчика, и ему казалось, что он видит фотографию из их семейного альбома: снова ему восемь лет, и кто–то привез его сюда, к этим каолиновым холмам (захватил ли он с собой скрипку и ноты – «Гофман. Часть первая», – которые так терзали его когда–то?), и он несет в сумке бутылки из–под лимонада – да, это он, он сам, только на штанишках нет пуговиц с якорями…
Он встал, подошел к мальчику.
– Милый мальчик, – произнес он и заметил, что голос прерывается. – Я слышал, ты хорошо рисуешь?
– Кто вам сказал?
– Одна птичка. Будто ты нарисовал львов с красными глазами. Это прекрасно.
– Я тогда маленький был. Теперь–то я знаю, что у них не такие глаза.
– Нет, мой мальчик, такие! Именно такие! В них – зной раскаленных песков пустыни…
Он нагнулся, хотел поцеловать его (мальчик удивленно отпрянул) и протянул ему большую коробку с красками – на крышке была нарисована палитра.
– На память об одном приезжем, который тоже любит рисовать. Когда седовласый человек, которого ты сейчас видишь перед собою, был маленьким, он тоже разрисовывал в комнатах все стены. И его частенько за это бранили…
Мальчик поблагодарил и побежал домой, забыв отдать буфетчику пустые бутылки.
Он увидел в окно, что незнакомец оставил на столике, возле кружки с пивом, несколько монеток и задержал взгляд на их доме. Потом побрел по улице, которая ведет к вокзалу… Мальчику показалось, что этому человеку очень–очень грустно.
Облаченный в грубую форму рядового запаса, Вениамин Бисеров тоже ехал ночью поездом из Симитли в Демир – Хисар. Гарнизон, где он служил, размещался в Дедеагаче. Он знал, что ему предстоят еще многие часы утомительной тряски, и, примостившись на чемодане, дремал в темноте, чувствуя сквозь сон, что его спутники жуют вареных цыплят: в вагоне пахло мясом, луком и чебрецом.
Их часть стояла у самого порта, и окна помещения, где, кроме него, спало еще человек сорок, были обращены на трехэтажное здание сгоревшей мельницы. Толстые, как крепостные, стены устояли перед огнем, но крыша рухнула, и вокруг дверей и окон чернели языки копоти и сажи. Сквозь мертвые проемы виднелось небо, часть порта, где покачивались на волнах доски от сломанных снарядных ящиков, и улочка нищего квартала, по которой под вечер женщины и ребятишки приходили просить у солдат хлеба. Женщины были пожилые, в лохмотьях, высохшие от голода, и вызывали сострадание даже в самом черством сердце. Только изредка появлялись молодые гречанки, потому что в сердце того, кто доставал из брезентового мешка черствую буханку и подавал им, само появление женщин рождало желания, столь же вечные, как эта сожженная южным солнцем земля.
Одна такая гречанка – с глазами, похожими на маслины, тонкая, как подросток, в длинной юбке до пят, которая колыхалась при ходьбе, будто женщину била дрожь, – попросила хлеба у Вениамина. Он протянул ей буханку с чувством неловкости – ему казалось, что подаяние унижает и того, кто подает. Денег он не взял.
Она удивленно и долго смотрела ему вслед – ведь за буханку хлеба голодные женщины (не ради себя, ради детей или больных стариков) были готовы пустить мужчину к себе в постель и даже испытывали благодарность за то, что он смилостивился, пожалел.
На другой день гречанка пришла снова.
Так продолжалось неделю.
Вениамин решительно отказывался принять плату за свою скромную помощь.
Однажды гречанка пригласила его к себе. Идти надо, объяснила она, по той улочке, что видать в окна сгоревшей мельницы, потом свернуть налево – где чинара; и за чинарой первая калитка. Дом в два окна. На одном занавеска из старой подкладки. Там спит мать. А второе окошко, сяева, где занавеска с голубыми цветочками, – ее. Три раза постучать – она откроет.
Гречанка ему нравилась. Он уже несколько месяцев не прикасался к женщине, и было бы естественно с благодарностью принять приглашение, но он, хоть и не отличался чрезмерной святостью, остался вечером в казарме. Долго чистил зубы (щетка была новая и поранила десны), пришил к куртке оторванную пуговицу и лег.
Возможно, у него были преувеличенные представления о благородстве, но он считал низостью – подать голодному кусок хлеба, а затем надругаться над ним.
Женщина, которая ждала его всю ночь, не приходила три дня. На четвертый прпшла снова. Она привела с, собой девочку лет шестнадцати, такую же стройную, как она сама, но еще худее, в голубой кофточке, под которой едва–едва обозначалась грудь. Густые черные волосы спускались до пояса, обрамляя смоляным блеском бледное лицо с пепельно–серыми глазами и длинную алебастровую шею.
– Это моя дочка, – сказала гречанка. – Вы не пришли. Наверное, я вам не нравлюсь. Она моложе и красивей меня. Проведите с ней вечер. Хотите – на мельнице, хотите – у нас. Я уйду и вернусь поздно.
Вениамин смотрел на девушку, в ее глазах не было ни желания, ни даже ненависти. Только цвет пепла – которым был засыпан пол в сгоревшей мельнице.
– Она не такая уж маленькая. – Мать угадала его сомнения. – В ноябре с ней в первый раз переспал один офицер. Бабушка у нас расхворалась, нужны были деньги купить дров…
– До свиданья! Идите домой, – проговорил бывший настройщик. – Я постараюсь прийти.
И не пошел.
Больше эта женщина не появлялась. Возможно, ходила просить хлеб у кого–нибудь другого…
Лежа на своей солдатской койке, Бисеров видел сквозь мертвые проемы мельницы небо, пристань, улочки бедного квартала, где за каждым углом притаилась война. Но не выстрелы ужасали его и не грузовые машины, где под пропыленным брезентовым верхом звякали солдатские каски, удаляясь на Ксанти и Салоники. Его ужасало, что матери предлагают своих дочерей за буханку черного солдатского хлеба.
«Вот это и есть, – думал он, – величайшая жестокость войны…»
А где–то далеко к северу, за оливковыми рощами и бледными очертаниями гор, которые, казалось ему, вздрагивают от гула военных самолетов, женщина по имени Антония Наумова (он и здесь думал о ней) надевала перед зеркалом шляпку с узкими, загнутыми кверху полями, накладывала на губы толстый слой помады, чтобы оживить бледное лицо, и шла на поиски, как она сама выражалась, крупицы радости в этой беспокойной и быстротечной жизни…
* * *
Художник долго не мог уснуть. Кран во дворе был отвернут – кто–то поливал сад. Заглушая шипенье воды, полз по траве шланг. Потом струя взметнулась вверх, и он увидел в раме окна опаловое буйство воды – короткая свистящая дуга плыла в воздухе, раскачиваемая чьей–то невидимой рукой, и размывала очертания дальнего холма.
Он слушал мелодию ночи, рожденную бессонницей горных вершин, и думал о нелегкой доле своих соседей по дому престарелых, чьи кровати сейчас поскрипывали, потому что к ним тоже не шел сон. Не была ли их жизнь мелодией его жизни, только исполненной другим инструментом – нежной флейтой циркового оркестра, пианино, в басах которого звучит плеск дунайских вод, или виолончелью, напоминающей гул ветра в рыбачьих сетях?
К полуночи сон сморил его.
Художник почувствовал, что у него мокрые руки. По коленям пополз холод. Он хотел закричать, но вдруг ноги коснулось весло… Впереди него сидел дунайский рыбак, Иван Барбалов. Старая лодчонка с облупившейся краской на бортах медленно двигалась вдоль берега какой–то большой реки. Весла врубались в отражения ив, и брызги, разбрасываемые взмахами сильных рыбачьих рук, падали на художника. «Куда мы плывем, Иван?» – пытался он крикнуть, но слова застревали в горле, и лодочник не слышал его. Река широкая, за пеленой тумана другого берега не видно – никогда им, наверное, туда не доплыть. Лодочник не оборачивался к своему спутнику. Широкополая черная шляпа (и откуда она взялась? Иван никогда таких не носил) при каждом взмахе весел наезжала ему на уши, жилы на загорелой шее вздувались, и художник понимал, как трудно Ивану грести.
Лодка замедлила ход. Тянувшийся за нею след, еще секунду назад такой пенистый, стал ровным, спокойным, будто кто–то начертил на воде темно–зеленую линию. Они подплыли к неводу, натянутому на высоких шестах – белых от помета чаек. Тут Иван впервые обернулся, и художник увидел, что сквозь тень от широких полей шляпы (она закрывала все лицо до подбородка) на него смотрят задумчивые, обрамленные морщинами глаза его друга. «Берись за край невода!» – сказал Иван. Пронизанный подползшим туманом голос растаял в воде.
Лодка описала большой–круг.
Невод следовал за лодкой, руку дергало – точно нижний край сети цеплялся за дно, а художник чувствовал, как бьется пойманная рыба.
Вытянули невод на берег. Повиснув на жабрах, качались на нем красноперки.
Дно лодки покрылось рыбой. Художник ощущал ее прыжки у своих ног. Второй невод тоже провис под тяжестью богатого улова. Старая лодчонка была полна до краев, но Иван продолжал грести к следующему таляну. Рыба уже переливалась через борт, давно пора было остановиться, повернуть назад, но, побуждаемые какой–то необычайной жадностью, они продолжали плыть сквозь туман.
В том таляне, к которому они подплыли после долгого пути, была всего одна рыба. Она показалась им непохожей на других – хвост у нее был золотой. Рыба подпрыгнула, секунду парила в воздухе и ушла на дно. Следующий невод был пуст. Он лишь всколыхнул гладкую, безмолвную воду, и в ней замелькали отражения людей, быть может, извлеченные из самых глубин. Волны размывали лица, и художник не мог разглядеть, кто эти люди. Дрожание воды придавало их взглядам трагичность, ирреальность… Художник почувствовал, что в него всматриваются чьи–то давно забытые глаза, и заслонил лицо рукой.
– А вон в тех сетях, вдалеке – только одни отражения, – глухо произнес лодочник.
– Вернемся! – сдавленно крикнул художник, у него перехватило горло. И когда он отвел руку, то увидел, что со всех сторон устремлены на него круглые, налитые туманом глаза дохлых рыб.
– Вернемся! – прохрипел он.
Лодочник обернулся (рыбы, как застывший гипс, плотно обхватили его ноги) и сказал:
– Старый я, дороги назад не помню…
Художник проснулся, посмотрел на окно. Было совсем темно – вероятно, уже полночь, – не видно ни зги, только одна звезда приклеилась к мокрому стеклу. Она мерцала, медленно разгораясь зеленым цветом. На соседней кровати спал Иван, уткнувшись головой в колени (наверно, язва скрутила).
На полу темнело сброшенное одеяло, и плешивое темя старика, заостренное, как макушка речной скалы, мерно двигалось в такт дыханию.
* * *
Он где–то прочел, что человек умирает дважды. Первый раз – когда болезнь приковывает его к постели. Глядя изо дня в день в потолок, он забывает о том, что когда–то над его головой было небо с вечерними дивными птицами, которые еще с детства запали в память. Они парят в синеве, и ветер баюкает их, как клочья облаков. Скользят по синему глянцу неба, и, вглядываясь в их движение, думаешь, что птицы вздрагивают от дыхания разомлевшей летней земли… Так мыслилось ему когда–то, когда сумерки следовали за ним по пятам и подошвы отпечатывались в мягкой дорожной пыли, а кругом звучали голоса людей, возвращавшихся домой с виноградников.
Теперь все его ощущения земли и неба замкнуты квадратом пожелтевшего потолка, и облака там тоже неподвижные, словно приклеенные к штукатурке. Усталая мысль шевельнется, ударится в угол. Закачается паутина, тонко, протяжно зажужжит пойманная муха. Она надеется, что кто–то откликнется на зов, спасет ее, но из темноты угла уже выползает паук. Он не торопится. Его круглое тельце, поблескивающее, точно капля дегтя, покачивается на ногах–щупальцах, а в его неторопливости – садистское наслаждение победителя, который хочет подольше полюбоваться агонией жертвы…
Вторая смерть наступает тогда, когда уходит из жизни последний из тех, кто думал о тебе, вспоминал часы, проведенные с тобой в поезде, в горах у костра, сквозь дым которого мелькают летучие мыши.
Сидя в старой деревенской корчме, вы вместе смотрели, как барышник с золотой цепочкой на толстом брюхе, распирающем засаленный жилет, вводит в дверь каурого жеребца. Намотал уздечку на руку, дергает. Испуганное животное ржет, вскидывает морду к потолку, вертит потным, лоснящимся крупом. В углу наяривает на скрипке цыган. У него черные руки с рубцеватыми суставами, ветхая рубаха с закатанными выше локтя рукавами кажется серебристой. Ржание сбивает ритм мелодии, но еще миг – и движения смычка вновь становятся уверенными. Когда скрипач поворачивается к окну, свет падает на его скуластое лицо, обтянутое опаленной прыщавой кожей. Цыган плавно переводит глаза, следя за изогнутым, точно змеиная голова, кончиком смычка.