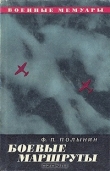Текст книги "Листопад в декабре. Рассказы и миниатюры"
Автор книги: Илья Лавров
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 32 страниц)
Талалай, протирая столики, зеркала, спрашивает:
– Чего это он? Обманул тебя, что ли? Будто ему стыдно на тебя смотреть.
Томилин испуганно оглядывается на дверь и, сердито сверкнув глазами на Талалай, бурчит что-то непонятное. Он чувствует, что, если еще так продлится день-два, он сбежит.
На другой день в парикмахерскую вместо Сметанина приходит молоденькая узбечка Шарафат.
А через неделю Зина переезжает к Томилину. Все получилось, как он мечтал. На окнах вместо газет висят шторы, на стенах портреты и картинки, на полу коврики, белеет пышная кровать. Посреди комнаты круглый стол, на нем ваза с цветами – «петушиные гребешки». Они вишневые, бархатные. Даже если пощупать их, остается впечатление бархата, а не растения. Вместо консервной банки – пепельница-раковина.
Зина купила Томилину костюм.
– Хозяин! Сережка Томилин – глава семейства! Такого еще свет не видывал! – хохочет он и никак не может поверить в происшедшее.
Теперь, когда он приходит с работы, его встречает румяная Зина и вкусный обед. Все получилось, как мечтал Томилин…
Шарафат всегда ходит в темно-синей юбке и в белой полупрозрачной блузке. На голове алая, расшитая бисером и от этого тяжелая тюбетейка. Две косы, черные до синевы, спускаются ниже колен. Лицо густо смуглое, с легким румянцем. Яркие черные брови соединяет на переносице синяя полоска, нарисованная соком травы усьмы. Из-под них лучатся светло-карие, какие-то вопрошающие, продолговатые глаза с голубыми белками.
Шарафат всегда слегка встревоженная, слегка тоскующая. Как только нет посетителей, она торопливо берет книгу и, полуприсев на подоконник, читает, шевеля губами. Она как будто настойчиво о чем-то спрашивает страницы и, спросив, упрямо ищет ответ.
Однажды Шарафат отложила книгу, сильно потерла смуглый лоб и сердито сказала:
– Зачем бритву взяла? Хлопок сеять надо! Каналы проводить надо! Шелк делать надо! А я помазок взяла… Плохо!
– Не понимаю, – возразил Томилин, шлепая бритвой о лоснящийся ремень, приделанный к столику.
– Возьмите книгу. Много книг, – стучит Шарафат согнутым пальцем по обложке романа, – стройка описывается, колхоз описывается, сражения описываются. Почему? Там – главное. Солдаты описаны, трактористы, шахтеры, агрономы. А скажи писателю: напиши толстую книгу о парикмахере – засмеется. Все смеяться будут.
Шарафат задумывается. Томилин смотрит на нее с интересом. Ему нравятся порывистость Шарафат, ее волнение.
– Уйду я на завод. Или в пустыню канал строить.
Когда они начинают говорить, за перегородкой перестают звякать алюминиевые чашечки, перестает булькать вода и даже дыхание Талалай затихает…
– А вы почему стали парикмахером? – спрашивает Шарафат, чистя расческу о комок ваты.
– И сам не знаю, – смеется Томилин. – Я ведь живу как бог на душу положит.
– Ветер в голове. Неумение анализировать жизненные процессы, – доносится голос Талалай.
– Вот-вот, – хохочет Томилин. – И правда, иногда такое получится, что хоть стой, хоть падай! Лег я спать моряком, а проснулся парикмахером.
– Как это? – не поняла Шарафат.
– А так. Жил я в Ленинграде. Батька – инженер, мать – врач.
– А сынок – лоботряс, – вставляет Талалай.
– Ну вот и представьте себе: три комнаты, а в них – Сережка Томилин. Сам себе хозяин. Отец и мать целые дни на работе. Заберусь на рояль прямо в ботинках, лягу и курю, ногой по клавишам: блям, блям.
Вместо уроков – коньки. Учусь так скверно, что вот-вот выгонят. И принялся я тут бегать. На Тихий океан бежал, на Черное море, хотел стать моряком, уплыть на Борнео.
– О, Борнео! – восхищается Шарафат.
– Началась война. Я навострил лыжи на фронт. Подавай мне сражения, подвиги! Милиционер, конечно, за шиворот. Эвакуировали нас, а батька – на фронт. Мама болеет. Пришлось помогать… Подвернулись курсы, я и рад – лишь бы не в школу. Так и стал неожиданно парикмахером. Отец погиб, мама умерла в Фергане. Вот и вся моя история…
Шарафат смотрит в лицо Томилина. У него такие пушистые, длинные-длинные ресницы, что светлые глаза лежат в них, как в лохматых гнездышках. Глаза веселые, отчаянные. Наверное, он смелый, непокорный. И волосы такие белокурые. Настоящий русский.
Россия, русский – как это все влечет и волнует…
Зина стала заходить в парикмахерскую чаще. Теперь она появляется внезапно. Сразу осматривает злыми глазами Томилина и Шарафат. В их внешности ей мнится что-то особенное: у Томилина будто волосы взлохмачены, губы припухшие, у Шарафат глаза сияют.
Зина бледнеет, в глазах мутится.
– Э-хе-хе! Человек – это стихия. Ничего конкретного! – бормочет Талалай.
Томилин смотрит на нее бешеными глазами. Это она, конечно, что-то нашептала Зине.
Зина оказалась болезненно ревнивой. Если он на улице случайно взглядывает на какую-нибудь женщину, Зина раздувает ноздри. Если он останавливается поболтать со знакомой, лицо у нее искажается.
Томилин вдруг замечает, что ему не о чем говорить с ней. Она возится по хозяйству, или спит, или судачит с Талалай. Из кухни иногда доносится ее поучающий голос:
– Зина, у тебя слишком фигурирует в борще перец.
«Вот-вот, там ты на своем месте», – хмурится Томилин…
…Однажды во время перерыва Томилин заходит в чайхану. Домой его вдруг перестало тянуть.
Несколько деревянных помостов устроено под тополями на берегу бурной речки. Один для прохлады перекинут через речку, как мост. Сейчас на этом помосте, застланном плешивым ковром, сидит одна Шарафат. Туфли она сняла, ноги калачиком. Перед ней чайник, поднос с лепешкой и розовым виноградом, в руке пиала.
Томилин забирается к Шарафат. Под ними бушует речка, над головой плещутся космы плакучих ив. Прицепленные за ветки, висят электрический шнур с лампочкой и клетка с перепелом. На помостах узбеки в халатах пьют чай. Томилин кричит мальчику, и тот приносит чайник с пиалой.
Шарафат полна вопросов. Томилин то и дело слышит: «А почему? А где? А кто? А как?» И он рассказывает, а она жадно слушает.
– Я никогда не видела море. Какое оно? – задумчиво звучит голос Шарафат. – А реки? Русские реки? О, большие, большие. Холодные, прозрачные… А тайга? Какая она? Тысячи километров – все лес, лес? Ай-я-яй! Даже страшно. Где я была? Вы счастливый. Много видели. Много знаете.
Шарафат смотрит на облачко. А Томилин смотрит на нее. Чай остывает. Томилин чувствует в этой девушке что-то взволнованно-порывистое. Почему-то врезаются в память извивы синих кос на вытертом ковре, лампочка в космах ветвей, розовая гроздь винограда на подносе.
Томилин закрывает глаза, и ему чудится, что в его жизни что-то произошло.
Под черным котлом пылают сучья – пахнет пловом. Звенят пиалы. В речке плывут арбузные корки. В виноградниках вспархивают горлинки.
Томилин бросает серебро в пиалу. Сходит за Шарафат на берег. В открытую калитку видно: старик узбек обвязывает большие дыни крест-накрест камышом, подвешивает на крюки к потолку сарая.
Все обычно. Как всегда. А что же все-таки случилось? Нет, ничего не случилось.
– А Бразилия? Аргентина? Какие страны?
Голос точно издали. И этот голос он слышит будто уже много лет и будет слышать вечно, всегда. Но что же случилось? Откуда эта тревога и тоска?
А дома с Зиной все хуже и хуже. Теперь ему ясно, что он никогда не любил ее. А для чего была женитьба – неизвестно. Разве что для ковриков на полу, для шторок на окне, для вкусных обедов. «Да разве женятся для этого?» – вдруг удивляется Томилин.
Под Новый год, после очередного налета Зины на парикмахерскую, Томилин сказал дома:
– Хоть бы уж вспомнила о вежливости, здоровалась бы хоть. А то сгораешь со стыда за тебя!
Зина багровеет, швыряет чашку на пол и убегает к матери.
– Отметили Новый год, – говорит самому себе Томилин и опять думает: «Зачем эта женитьба?»
Весь декабрь было сухо, тепло, солнечно, и ферганская зима походила на русский золотой сентябрь. Ходили еще в пиджаках. На чинарах густо висели большие ржавые, покоробленные листья. Но в эту новогоднюю ночь неожиданно налетела буря, кропил порывами дождь и начался последний листопад.
Подняв воротник пальто, бредет Томилин, сам не зная куда. Тепло. Арык булькает так прерывисто, словно собака лакает. Ревет буря в зарослях огромных деревьев. Клубами, стаями уносятся листья.
Асфальт залеплен толстыми пластами листьев. Ноги выжимают из них струйки воды. Собственная жизнь кажется Томилину испорченной, запутанной. Во всем он чувствует виноватым себя. Чего-то не хватает, как-то пусто, беспокойно. Как будто нет места в жизни, и он тоскливо ищет его… Нет, не то! Скорее, куда-то не успевает, а нужно успеть, нельзя прозевать… Нет, не то! Что-то очень дорогое уходит, уносится навсегда… Опять не то! Невозможно разобраться. Все смутно и тоскливо.
Смеясь, напевая, проходят компании молодежи. Некоторые прячут под полы пальто гитары. У них все ясно, все просто. И как хорошо, когда все ясно, все просто.
И вдруг из толпы девушек-узбечек к Томилину подбегает Шарафат в белом плаще.
– Куда?.. Грустный почему?
Томилин зажмуривается и радостно сжимает ее руку в кожаной, забрызганной дождем перчатке. Все смутное, тревожное становится понятным. Он удивленно смотрит на нее.
– Что? – спрашивает Шарафат.
– Нет, ничего. Нет, – испуганно говорит он. – С Новым годом тебя! – И, помедлив, добавляет: – С новым счастьем!
Она медленно уходит.
Ветер подхватывает косы и белый плащ, они рвутся обратно, и Томилину кажется в темноте, что Шарафат не уходит, а возвращается к нему.
Домой он бредет, как усталый, пожилой человек. Не заметив, проходит свой дом и все идет, идет…
Зима устанавливается мягкая-мягкая, сырая, без снега. В тумане стоят голые влажные сады. Невидимый дятел стук! стук! стук! – словно по сухой дощечке сухой палочкой. И грустно слушать эти звуки в опустелых садах. Сжимается сердце. И все же наслаждение вдыхать свежий, холодный воздух. И все же хочется жить. Как будто все время впереди машет веткой белая весна.
Томилин входит в парикмахерскую.
Шарафат уже бреет молоденького, с красной шеей лейтенанта. Она не поворачивается. Томилин смотрит в зеркало, там встречаются их взгляды, глаза светлеют.
Томилин взбивает на тугих щеках клиента клубки пены, а сам слушает, как в душе возникают какие-то печальные звуки. Он перестает брить и тут же понимает, что это на улице по радио поет виолончель. Звуки смутно пробиваются в парикмахерскую.
Тихонько звенит о жесткий волос бритва.
И Томилин чувствует, что теперь для него нет ничего недостижимого. Стоит Шарафат сказать: «Умри» – и он умрет, «соверши подвиг» – и он совершит.
Парикмахерская пустеет. Шарафат стоит и смотрит в зеркало, не видя себя. Томилин стоит и смотрит в окно, не видя улицы.
Талалай со звоном сгребает мелкие деньги в столик, и ей кажется, что Шарафат и Томилин хотят что-то сказать друг другу, но не решаются.
Дверь точно срывают с петель, и на пороге возникает тучная Зина. Крик ее переходит в визг. Она стоит посреди парикмахерской подбоченясь.
Томилин белеет и тихо просит:
– Уйди!
Он обводит все вокруг тяжелым, слепым взглядом, и ему кажется, что парикмахерская дымится.
Шарафат сидит в кресле бледная, дрожащая. Томилин подходит к ней, чтобы успокоить, но она отшатывается, словно он частица того безобразного, что сейчас произошло. Она надевает пальто прямо на халат и уходит.
На другой день у кресла стоит маленький, очень говорливый старичок с очками на лбу и с папиросой за большим отогнутым ухом. Когда он салфеткой обмахивает перед клиентом кресло и, изгибаясь, говорит «прошу», он походит на старого официанта.
Домой Томилин не возвращается. Он устраивается в маленькой комнатке за печкой. На столе опять консервная банка с наклейкой «Щука в томате». Из банки над окурком вьется голубая прядка дыма.
Томилин смотрит на дымок, и перед ним возникают то кроткие глаза Сметанина, то извивы синих кос, и душу жжет тоска. Ведь это все, несбереженное, могло быть на долгие годы рядом. Он думает о них, как о самом лучшем в своей жизни.
Где-то они сейчас?
1955
Одни
ОТПЕТЫЙ
Пятилетний Витя, остриженный под машинку и прозванный за толщину Кубарем, носился по двору с оглушительным визгом.
Брат его, тринадцатилетний Васька, стоял в углу двора под раскидистой черемухой и выстругивал стрелу для лука.
Фамилия Васьки была Кривенков, но в классе все звали его просто Кривёнком.
Над светлой лохматой головой Васьки торчали два вихра. «Счастливый будет», – говорила мать.
Кривенок в красной майке-безрукавке, брюки от пыли и солнца побурели, одна штанина засучена до колена, другая хлопает по черной пятке. На носу – небольшой шрам. Закатался однажды с руками и ногами в большой ковер и, лежа на полу, стал дразнить собаку. Пес изумился, увидев только одну голову, испугался и укусил за нос. На скуле у Кривенка синяк, на ноге большой палец завязан грязной тряпкой: порезал о стекло.
Имея удивительную память, Кривенок учился хорошо. Но, несмотря на это, он считался отпетым, отчаянным: с крыш и заборов не слазил, матери и отцу не помогал, каждый день дрался из-за голубей.
Мать постоянно ругалась: «Не сносить тебе головы, босяк! А еще пионером называешься!» И только отец, Артем Максимович, известный в городе токарь-скоростник, думал: «Кто смолоду не шалун – тот с возрастом не воин».
Артем Максимович сам был отчаянный, он не раз показывал, что такое храбрость, пока шел на своем танке до Берлина. Глаза у него озорные, нос ястребиный, волосы косматые, жгуче-черные.
Кривенок уже начал скоблить стрелу куском стекла, как вдруг по земле пронеслась тень голубя.
Через миг Кривенок уже бежал по гремучей железной крыше дома. На ней ворковали и вспархивали разноцветные голуби.
Кривенок посмотрел на небо: низко кружился желтый шеебойный трубач Ваньки Шелопута, известного голубятника. В яркой синеве неба летала стая шелопутинских голубей, – как будто изорвали лист бумаги и бросили под облаками трепещущую стайку белых клочков. Шеебойный трубач отбился от стаи, описывая над крышами круг за кругом. Добыча сама лезла в руки.
Кривенок схватил длинное удилище с тряпкой на конце и начал махать. Голуби, звучно хлопая крыльями, снялись с крыши, роняя в воздухе перышки. Набирая высоту, они делали плавные круги над кварталом.
Кривенок припал к трубе, следил, судорожно зевая. Волнуясь, он всегда неудержимо зевал.
Вдали уже раздавался свист Шелопута. А шеебойный трубач все еще кружился выше стаи. Скорее бы он соединялся с нею, скорее! А потом осадить стаю с шеебойным – и на чердак, и дело с концом. Только бы успеть, а то примчится шелопутовская компания, засыплет крышу камнями.
Но вот уже шеебойный и стая Кривенка соединились. Кривенок метнулся на чердак, схватил белую голубку с черными крыльями и бросил вверх. Голубка потрясла на лету хвостом, расправляя измятые перья, сделала два круга и опустилась на крышу.
Кривенок поймал вторую голубку – шоколадного цвета с белым хохолком – и, ударившись головой о стропила, выскочил на крышу. Он поднял голубку. Она била крыльями, летели перья. От стаи сразу же отделился черный голубь. Он сложил крылья и камнем ринулся вниз. Голубь сел прямо на свою голубку в руках Кривенка и принялся ворковать.
За ним, крутясь через хвост, падал с головокружительной, сияющей высоты крупный сизый голубь. Таких звали «игровыми». Некоторые из них порой заигрывались до того, что разбивались о землю.
За «игровым» начала спускаться вся стая.
Кривенок прижался к горячей от солнца крыше и, дрожа, зевая, умолял: «Скорее же, скорей!» С другого квартала приближался свист. Кривенок застыл. Остановилось и сердце и дыхание, жили только одни расширенные глаза.
Голуби уже вились над крышей, крылья их, рассекая воздух, нежно и тонко свистели. Крупные беляки планировали вниз. Вот мохнатые красные лапки мелко застучали коготками по крыше – будто просо просыпали.
Бледный Кривенок удилищем осторожно загонял стаю в дверцу чердака. Среди голубей шел нежно-желтый шеебойный. Он беспрерывно тряс гордо выгнутой шеей. Широкий хвост его был трубой.
Кривенок зевнул, еще миг – и шеебойный будет его! Но тут раздался пронзительный свист десятка мальчишек и по крыше загрохотал град камней. Шеебойный испуганно вспорхнул на трубу, а потом снялся и улетел.
Кривенок в ярости скатился по лестнице на землю.
Шелопута спасло только появление отца Кривенка. Артем Максимович растащил ребят за шиворот и спросил спокойно и насмешливо:
– Стукнуть вас лбами или уши надрать? Выбирайте.
– А чего он! Не его трубач, значит, нечего и соваться! – бормотал рыжий Шелопут.
Кривенок, сжимая кулаки, молчал.
– Ну чего наморщил лоб, как цыган сапоги? – спросил отец.
Отпущенный Шелопут, убегая, крикнул Кривенку:
– Ты мне еще поплатишься! Запомни!
ПЕРВЫЙ ДЕНЬ
Вечером Кривенка взволновала новость: отец и мать срочно уезжали к родным в Красноярск. Заболела бабушка. Боялись, что она не выживет.
Мать всплескивала полными руками, с ямками на локтях:
– Да ты сам посуди, как ему доверить хозяйство? Да еще ребенка? Ветер же в голове! Такое натворит без нас, что потом и не расхлебаешь.
– Ничего, – возражал отец, – парень он с головой. Я уверен – справится. А тетка Феона присмотрит.
Эта вера тронула Кривенка, он в душе дал клятву не подвести отца. Ему вдруг нестерпимо захотелось остаться хозяином.
– Да чего ты… Маленький я, что ли?! – краснея, грубовато сказал он матери.
На вокзале отец вынул изо рта папиросу и поцеловал ребят.
Кубарь, внимательно посмотрев на него, задумчиво спросил:
– Это у тебя горячие губы потому, что ты держал папиросу с огоньком, да?
– Ах ты, философ! – засмеялся отец.
Кубарь всегда был задумчивый, сосредоточенный, словно все время решал какие-то важные вопросы.
Отец многозначительно сказал Кривенку:
– Надеюсь.
Кривенок не заплакал. Убегал домой с Кубарем, преисполненный великой радостью.
Небольшой деревянный город утонул по самые трубы в тополях. Они росли тесно и буйно в каждом дворе, палисаднике, вдоль заборов и тротуаров. Тополя цвели, стояли белые от пуха, словно их густо залепил снег. Над городом шел июньский веселый снегопад. Ветер крутил по улицам белые столбы. Пух плавал в кадушках с зеленой водой, оседал на собаках и лошадиных гривах. К заборам намело розовые лепестки шиповника и пуховые сугробы чуть не по колено. Пух летел в открытые окна, кружился в комнатах, сбивался в углах и под кроватями.
В эти дни городок наполнился поршками-воробьятами. Они вылетали, вываливались из гнезд, вспархивали на дорогах, во дворах, прятались в траве, в поленницах, под ящиками. Крылышки у поршков еще не окрепли, и мальчишки и кошки ловили их легко.
Кривенок поймал на тротуаре пять штук. Кубарь нес их в подоле, зажав его кульком. Паршки трепыхались.
– А как же получаются птенцы? – задумчиво почесал ухо Кубарь.
– Птицы высиживают из яиц. Маленький, что ли, не знаешь?
– Ну так ты купи мне яйцо, я высижу.
– Купи, купи! – передразнил Кривенок, но, вспомнив, что он остался вместо отца, мягко пообещал: – Ладно, куриное яйцо дам.
Бревенчатый дом со всех сторон заслонен тополями. Во дворе – сарай, огород с рощей высоких подсолнухов в желтых венках.
И над всем этим хозяин он, Кривенок. Стоит недоглядеть, уронить горящую спичку, и все сгорит. Стоит зазеваться, и Кубарь попадет под грузовик. Но он, Кривенок, не дурак, он кое-что соображает.
Кривенок важно пошел в дом. В его распоряжении кухня, сени и две комнаты, полные вещей. Он отвечает за них. И правильно, что папа спокоен.
Кривенок небрежно бросил:
– Сейчас кое-чего перекусим.
Кубарь вытряхнул поршков и, ни слова не говоря, полез на стул.
– А руки мыть? – спросил Кривенок.
– Я недавно мыл.
– За ручки дверей брался? Всякую гадость хватал? Каждый раз одно и то же говорить нужно, – повторил Кривенок слова, которые обыкновенно отец или мать говорили ему. На этот раз он сам впервые в жизни принялся мыть руки без напоминания.
Несмотря на то, что Кубарь и Кривенок недавно обедали, они старательно уничтожили больше половины варенья и конфет.
– Дай я откусаю пирога, – попросил Кубарь.
– Довольно тебе, а то живот заболит. Маленький, что ли, понимаешь!
Кубарь отложил мятный пряник и сделал вывод:
– Ириски сладчее.
Он сполз со стула и направился во двор.
Кривенок прошелся по комнатам, размышляя, как бы проявить себя хозяином. Поршки перелетали с кровати на комод, с комода на подушку. На полу был птичий помет. Кривенок нахмурился, открыл окно и, махая полотенцем, выгнал поршков. В окно было видно, как Кубарь в огороде обтирал с морковки землю подсолнуховым листом.
Со двора донесся свист Шурика Постникова. Кривенок выпрыгнул в окно. Свист означал, что где-то поблизости спрятался толстый хвастун Толька Быков, по прозвищу Быча.
Кривенок вскочил на забор, с забора перемахнул на крышу сеновала.
Крыши – его излюбленное место. Солнце, ветерок, шепчущиеся вершины деревьев, стаи голубей в синем небе, жаркие чердаки, укромные сеновалы, запах разогретых заборов, трубы с гривами дыма – все это волновало.
Кривенок затаился на самом краю крыши, повис над землей, держался чудом.
С другой стороны по склону крыши кошкой полз Шурик, застенчивый, хрупкий мальчик, лучший ученик в классе и верный друг Кривенка.
Пионерский отряд пошел по берегам Ингоды. Решили описать их для журнала. Но Бычу не взяли из-за того, что он плохо учился; Шурик не пошел потому, что у него болела мама, а Кривенок – из-за своих голубей. Лето все трое проводили вместе.
Кривенок бесшумно опустился по бревенчатой стене конюшни на забор, пробежал по нему, как бегают в цирке на проволке, добрался до тополя, но как-то неловко повернулся и разорвал штаны.
Быча в это время прыгнул на забор и с треском обломил верхушку доски.
– Хватит! – строго закричал Кривенок. – Черти вас носят! Шеи скоро свернете. Других игр, что ли, нету?
Он сполз с дерева к себе в ограду и крикнул:
– Чтоб я вас не видел на заборах!
Быча и Шурик удивленно переглянусь: Кривенок, который вообще больше ходил по заборам и крышам, чем по земле, и вдруг этот Кривенок заговорил такими словами! Он даже стал походить на дядю Артема.
Кривенок представил, как приедут отец с матерью и увидят у него изорванные штаны.
Он ушел домой.
ПОРТНОЙ
Мать ни разу не могла заставить Кривенка пришить хотя бы пуговицу.
Взяв непомерно длинную, чтобы второй раз не вдергивать, черную нитку, Кривенок с трудом продернул ее в ушко, неумело держа иголку в щепотке. Узелок никак не завязывался. Он сооружал его сразу двумя руками.
Кривенок снял штаны. Очень длинная нитка путалась, затягивалась узлами. Пришлось придавить штаны утюгом и все время отбегать от стола шага на три, тянуть иголку с ниткой.
Кубарь вошел и удивленно, с интересом спросил:
– Ты играешь?
– До игры тут, как же!
Кривенок вскрикнул: иголка воткнулась в палец, красной брусничкой выкатилась капелька крови. Он сунул палец в рот.
Зашив разорванное, Кривенок расстроенно присвистнул: шов получился толстый, как рубец. Вот это да! А мама всегда зашивала красиво, почти незаметно. Кривенок заглянул наизнанку – там рубца не было.
– Эх ты, дурила! – выругал он сам себя.
Пришлось распарывать, выворачивать штаны и начинать снова.
Теперь уже Кривенок вдел нитку покороче. Он обнаружил, что иголку нужно держать правой рукой, а левой зажимать края разрыва.
Долго возился он, даже вспотел, исколол пальцы. Когда же все было кончено, залюбовался работой.
– Фу-у, – передохнул Кривенок и сказал наставительно Кубарю: – Вот учись, лоботряс. Пригодится в жизни. А то носишься по крышам со своими голубями.
И вдруг черные глаза его страшно округлились: у Кубаря был вырван из рубашки большущий клок. Он свесился на животе, как синий язык.
– Ты как думаешь, легко дается отцу копейка? – со зловещим спокойствием спросил Кривенок. – Иди-ка заработай ее! Снимай, босяк! – закричал он. – Вот попробовал бы сам шить, тогда бы узнал, как нужно беречь!
Кубарь, не расстегнув пуговицы, принялся снимать рубаху. Задрав ее над головой, выдернул руки из рукавов и потянул вверх, но рубаха не снималась. Она повисла на голове.
– Ворот почему-то узкий, – удивлялся Кубарь из недр рубахи.
– Узкий, узкий! – и Кривенок звонко шлепнул брата по голому животу. Кубарь съежился и засмеялся. Кривенок расстегнул пуговицы, сдернул рубаху.
– А как ты зашьешь? Очень просто, да? – спросил Кубарь.
Долго еще Кривенок ворчал, зашивая. Теперь шов показался ему даже красивым.
– До мамы походишь без рубахи, – заявил Кривенок, – не велик барин!
ТАИНСТВЕННАЯ НОЧЬ
В сиреневой пустоте вечерних небес повисла желто-зеленая, как недозревший помидор, луна.
Кривенок и Кубарь деловито закрылись на крючок.
Когда доели все сладкое, щеки Кубаря стали ярко-красными, глаза посоловели, а губы припухли и весь он как будто стал еще толще.
– Вася, я спать хочу, – вздохнул Кубарь и, морщась, отбросил розовый пряник с потрескавшейся сахарной корочкой.
– Ложись на мамину кровать, – сладко зевнул Кривенок, думая о том, что на свете ничего нет противнее конфет и пряников. Захотелось супа – утром Кривенок сварит обед. Он готов был приняться за работу сейчас же – так не терпелось Кривенку похозяйничать.
Кубарь полез на кровать, болтая пропыленными, будто в серых носках, ногами.
– Куда ты? – закричал Кривенок. – На ночь ноги нужно мыть!
– Я спать хочу, – захныкал Кубарь и продолжал лезть на кровать.
– Спать, спать! – стащил его Кривенок. – Простыня белая, а ноги черные. Не настираешься на вас.
– Не надо мыть, Вася. Я тихонечко лягу, грязь не стряхнется.
– Иди, иди! – Кривенок вывел Кубаря в кухню. – Не вой, а то тресну, – ворчал и мылил ему ноги.
Когда Кубарь забрался в кровать, сон уже прошел. Как всегда неожиданно и глубокомысленно, он спросил:
– А как это получились дрова?
– Какие дрова?
– Ну, деревья, лес, трава, люди. Как это они получились первый раз?
– Э, философ! – небрежно произнес Кривенок непонятное имя, которым отец иногда называл Кубаря.
Кривенок нерешительно кружился вокруг таза, ломая голову, как бы ему самому избежать мытья ног. Он плюнул на ногу и потер тряпкой, нога стала еще грязнее. Кривенок тяжело вздохнул, сдвинул печально брови и опустил ногу в таз.
– Вася, отгадай загадку, – уже сонно звучал голос Кубаря: – стоит, играет, солнце сияет, люди нарождаются, чудо получается, шумит большая-пребольшая. Что такое?
– Отвяжись, – хмурился Кривенок.
– Эх ты, не знаешь! Земля!
Кривенок глядел на светлую и на темную ногу, соображая, а не хватит мыться? Но ничего не получилось, пришлось мыть и вторую.
Пробежав по комнате, Кривенок прыгнул через стул и нажал выключатель. Он звонко щелкнул, точно Кубарь языком.
Стало темно, Кривенок улегся рядом с братишкой и вдруг почувствовал, как в доме без мамы и папы глухо, пусто и тихо. Что-то потрескивало, вздыхало, шепталось. Почудилось, в кухне прошлись почти бесшумно чьи-то босые ноги. Дико заверещали кошки, загремели по железной крыше. Неожиданно комната наполнилась слабым, непонятным отблеском и стало еще темнее.
Кривенок посмотрел на окна и ужаснулся: он забыл закрыть ставни. А вдруг кто-нибудь заберется?
Опять на мгновение комната наполнилась бледно-фиолетовым светом. Кривенок увидел в окно: половина неба ярко освещена луной, другая – закрыта черной, тяжелой тучей. Там полыхали раскаленные молнии. Грома не слышалось. Туча ползла на светлую половину быстро и бесшумно, становясь то огненной, то угрюмо-черной.
Вдруг в кухне что-то упало, загремев. Кривенок вздрогнул. Ему хотелось закричать и выпрыгнуть в окно. Кто там ходит? Что уронил?
Кривенок закрылся с головой одеялом и прижался к Кубарю. Тот был горячий, как печка, и сладко сопел. Дверь в кухню все время поскрипывала, то закрываясь плотно, то чуть отходя, – наверное, кто-то подглядывал в щель.
А тут вдруг как грохнет, дом как вздрогнет! И сразу же густо посыпался горох, затрещал дробно по стеклам. Что-то тяжело и вместе мягко принялось шмякать по окну.
Кривенок осторожно выглянул из-под одеяла. Пламя охватило окна, от вещей ринулись на Кривенка черные тени. Он увидел за рамой висящие водяные веревочки и шлепающую по стеклам мокрую ветвь. С нее тоже свисали водяные веревочки.
Внезапно раздались веселые голоса, топот и крик Люси – сестры Шурика:
– Я промокла до нитки! Ой, до чего же здорово, девочки!
Все сразу стало просто, не страшно, хорошо. Волнующе пахло дождем и листвой. Запах сочился во все щели окон. Захотелось выскочить на улицу и с криком помчаться под июньским ливнем.
«Это что-то само упало в кухне», – твердо решил Кривенок, зажег свет и вышел. На полу лежала эмалированная кружка: свалилась с плиты.
Кривенок погасил свет и лег. Долго еще сквозь дрему слышал, как по окнам шмякали мокрые тряпки и в комнате как будто часто включали и выключали лампочку, а над крышей трясли лист фанеры и он громыхал.
Кривенок тихо засмеялся от непонятной радости и уснул.
ГОЛУБИНОЕ УТРО
Кривенок проснулся рано.
– Эй, вставай, засоня! – стащил он одеяло с брата.
Кубарь лягнул ногой и в отчаянии завопил:
– Ну зачем разбудил? Я не успел досмотреть сон. Кошка запрыгнула на забор, а что дальше было, не видел!
– Не выспался потому, что поздно лег, – выговаривал Кривенок, – теперь вот будешь ложиться по расписанию в девять вечера. Детям вредно долго не спать, понимаешь!
– И вовсе не поэтому, – сердился Кубарь, не открывая глаз, – я не выспался потому, что всю ночь смотрел сны!
Кривенок выскочил во двор, прищурился – у солнца выросли золотые кошачьи усы.
Ночные потоки прорыли маленькие русла в земле, оставили в них пену, щепки, перья, листву.
Кривенок гикнул, выжал стойку среди двора и обезьяной взлетел на крышу. Она была чисто вымыта, еще сыровата и облеплена сорванными листьями и мокрыми клочками пуха. Подсыхая, крыша дымилась.
Особенно Кривенок любил небо и кучевые летние облака с белоснежными вершинами. Он долго мог лежать на крыше и смотреть вверх. Медленно плыли ватные стога, наполненные светом. Откуда они? Куда они? Кривенок начинал мечтать: вот он каким-то чудом научился плавать в воздухе. Он плывет к облакам, лежит на пушистых вершинах, ныряет с них. Он – легкий голубь-почтарь, а под ним медвежья тайга на сопках, степи, заросшие по колено травой и цветами. Их запах волнами катится к облакам, как дыхание земли. Она мигает синими глазами озер. Поплыл бы над золотистыми океанами, увидел бы неведомые страны, увидел бы острова Суматру, Яву, Борнео. Эти острова, наверное, пахнут, как лимон.
Кривенок радостно вздохнул. Как небо, облака и море, он любил птиц, особенно голубей.
На чердаке пахло пылью и голубиным пометом. Раздавалось хлопанье крыльев, воркованье, писк длинноносых птенцов. Голубки, наклевавшись зерна, с тугими, как мячи, зобами, залетали в клетки, захватывали в свои клювы раскрытые клювики пискунят и выбрасывали им из зобов готовую пищу.