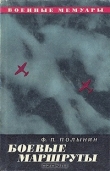Текст книги "Листопад в декабре. Рассказы и миниатюры"
Автор книги: Илья Лавров
сообщить о нарушении
Текущая страница: 25 (всего у книги 32 страниц)
– Ну что ты, ну что ты бежишь от меня, как от чумы?! – растерянно проговорил Николай, подавая билет. Он успел прижать ее к себе, поцеловать куда-то в шею. Она вывернулась, по трапу взбежала на палубу. И тут остановилась у леерной сетки, уронила к ногам чемодан и схватилась за поручни, словно боясь, что сейчас кинется обратно к этому страшному деревянному яру, к сходням, ведущим в город.
Она стояла на палубе и смотрела на Николая, а он смотрел на нее с дебаркадера, все заклиная:
– Жди меня, жди, жди!
1969
Последний мост
1
Ковшов был такой грузный, так тяжело и твердо попирал землю, что людям иногда казалось, будто под его ногами земной шар слегка колышется… Еще весной дочь с мужем – ихтиологи – уехали в командировку на Сахалин. И остался Ковшов с внуком. Жена его уже давно умерла. Он очень любил ее и поэтому так и не женился…
Проскучав без дочери месяца два, Ковшов тряхнул скопленными деньжатами и увез внука к Черному морю.
Самолет из Сибири опустился в Адлере. Такси промчало их по узкой полоске земли между морем и лохмато-зелеными горами, вершины которых дымились тучами. Ковшов попросил шофера остановиться в центре Гагры. И сразу же они прямо с чемоданом двинулись к морю…
И вот на берегу появились большущий дед в соломенном мексиканском сомбреро и маленький Максимка, державшийся за его руку. Деду – шестьдесят, мальчонке – шесть лет.
Они замерли, глядя на море. Серые тучи затягивали небо. Дул свежий ветер. Море потемнело, небольшие волны пенились, и издали казалось, что их усеяли белые лебеди.
– Во-он куда оно длиннится! Почему это море такое длинное-длинное? – задумчиво спросил малыш.
Ковшов ласково погладил его взлохмаченную голову.
Всюду на пляжах – люди. Они лежали, бродили, выбирались из моря или бросались в него. Пестрели грибки, зонтики. Ковшов шумно вдохнул влажную морскую свежесть.
– Давай смоем дорожную усталость, – предложил он, снимая с Максима клетчатую рубашонку. Разделся и сам, бросил одежду на чемодан.
– Мы здесь и будем жить? Прямо на берегу? – спросил Максим.
– Что ты, малыш! Вон стоят домики у самого моря. В них и найдем пристанище. Ну, иди – купайся.
Мальчишка с опаской подошел к воде. Море шумело, бросало под ноги невысокие волны, окаймляя берег пенной полосой.
– Иди, иди, – подтолкнул Ковшов, но Максимка попятился от быстрой волны и потянулся на руки к деду.
Тот поднял его, прижал к волосатой груди и загоготал: он не смеялся, а именно гоготал. Чем дальше он заходил в море, тем крепче прижимался к нему малыш.
Дед присел, и волна обдала их, ударила в лица. Максим завопил, задрыгал ногами, захлебнулся соленой водой.
– А ну-ка, познакомься с морем! – грохнул дед. – Полюби-ка его на всю жизнь!
И Ковшов окунул мальчишку, тоненького, трепетного, и тут же высоко поднял над собой. Захлебнувшийся Максим раскрыл рот, выпучил глаза. С него текло. Волосы прилипли ко лбу. Дед опять загоготал, посадил внука на мокрую гальку, а сам, большой и неуклюжий, как слон, ухнулся в воду и поплыл.
Максимка восхищенно смотрел на деда. Пенистая вода, шурша галькой, подкатывалась к мальчонке и затапливала его чуть не по горло.
– Вот это море! – кричал он. – Богатырное море! – И колотил по волне руками и ногами…
Цвели белыми мелкими цветами камфарные деревья, пахли аптекой, роняли покрасневшие листья. Они все лето меняют их, и под деревьями всегда намусорено, как осенью. Меняют листву и эвкалипты; и еще с них обваливается кора, висит большими лохмотьями, будто деревья засыхают, гибнут…
Дом стоял в саду у моря. Они устроились на веранде, оплетенной виноградом. Кровать, раскладушка, столик, а за перилами невысокие мандариновые деревья и море. Максим сразу же забрался на эти перила, а дед зашел к хозяйке в комнату, что-то глухо пробурчал и вернулся.
Скоро хозяйка – полная смуглая армянка с темнеющими усиками и черными влажными глазами – притащила оплетенную камышом ведерную бутыль.
– Вот вам, пожалуйста… Не вино, а сказка. Для себя готовила. Его не стыдно и на свадьбе подать. Веселит, молодит. – И, повернувшись к Максимке, сразу же запела: – О-о, какой мальчик! Хорошенький, как девочка! Максим тебя звать? А я тетушка Анаида. – Она привлекла его к себе, сунула лицо в его волосы, поцеловала их. – Детей у меня… – повернулась она к Ковшову, но не договорила, махнула рукой. – Ладно. Чего уж… – И запела, поправляя на Максимке воротничок: – Отдыхай, мой маленький, в море купайся, загорай – сильным будешь, красивым будешь, любить тебя будут. – И опять к Ковшову заботливо: – Не надо его водить в столовую. Что там за еда для ребенка? Я могу готовить вам обеды. Дешево и вкусно. Ему цыплята нужны, манная каша…
– Мы мужчины, мы кашу манную есть не будем, – твердо заявил Максим и сунул за пояс зеленых шортиков пистолет.
– Господи! – Тетушка Анаида-затряслась, заколыхалась от смеха. – Ты настоящий мужчина! – Она переглянулась с Ковшовым и вдруг в порыве прижала мальчишку к своему животу, погладила его худенькую спину, пряча от Ковшова разгоревшееся лицо. На Ковшова так и пахнуло затаенным горем этой женщины. Он понял, что это за горе.
Небольшой дом весь был заплетен виноградом и вьющимися розами. Окошки едва виднелись сквозь них. Одну комнату и веранду хозяйка сдавала «дикарям»…
– Как у вас нынче в Сибири с погодой? – спросила хозяйка. Ей, должно быть, хотелось поговорить.
Ковшов пригласил ее к столу, налил в стаканы светлое, сухое вино, вытащил из чемодана кулек с конфетами. Пока Максим обследовал маленький двор и сад, они беседовали о жизни, о ценах, об урожае. Он говорил не торопясь, она – горячо и порывисто.
– Я смотрю – у вас хоть и небольшое, но хозяйство, – Ковшов повел рукой вокруг. – Конечно, забот полон рот? Дом, сад, беспокойные «дикари»… Да еще, наверное, где-нибудь работаете?
– Ах, дорогой, жить-то надо! – воскликнула хозяйка. – Работаю я в санатории кастеляншей. Велика ли там зарплата?
– Вы разве одна?
– Первый муж умер, второй ушел. Дети ему нужны. И мне нужны. А вот… – заговорила она пылко и доверительно, – это ведь беда. Большая беда! Молодая не плакала. А как сорок пошло – плохо стало. Пустая жизнь. А старой что делать? Ни детей, ни внуков. Кому нужна?
Ковшов сочувственно крякнул.
– Да, голубушка, жизнь иногда складывается, прямо скажем, тяжеловато. Во время войны лежал в госпитале полковник один. Он потерял обе руки и ноги. Представляете, какая жизнь была уготована ему? Молодой, здоровый, сердце могучее, а рук и ног нет.
– Ай-я-яй! Ах, господи, – вырвалось у хозяйки. Она смахнула с ресниц слезинки.
– Однажды он попросился на балкон. Выкатили его кровать-каталку. Была она высокая. Вот он и перевалился через перила. Сам. С пятого этажа на асфальт…
Заплаканная хозяйка отпила несколько глотков из стакана. Ковшов ободряюще похлопал ее по руке:
– А у вас… Не такая уж горькая у вас судьба. Вы не старая, красивая. – Щеки хозяйки зарделись. – Вы еще устроите свою судьбу, так что не вешайте носа.
– Конечно, конечно, дорогой мой, грех мне роптать. – Хозяйка вытерла платочком лицо, виновато засмеялась и допила вино. Потом удивленно посмотрела на Ковшова. – Вы подумайте! – Она всплеснула руками. – Вдруг разговорилась с вами. Какой-то вы… простой, сердечный человек!
Ковшов радостно засмеялся. Покачав головой, хозяйка ушла. Прибежал Максим.
– Пойдем, брат, шашлык уплетать, – предложил дед, наливая из бутыли вино. Он не спеша, смакуя, выпил два стакана, крякнул и распорядился: – Вперед, пехота!
Столики располагались под тремя раскидистыми деревьями необъятной толщины. Дымились, полные жарких углей, длинные железные мангалы, плотно обложенные сверху шампурами с мясом. Пахло дьявольски вкусно. Дед и внук сдергивали зубами горячие кусочки, облитые уксусом, и слушали гул моря. Максимка все время тянулся в его сторону. Ковшов понимал его, и, хоть старине хотелось подольше посидеть в пахучей шашлычной под навесом из ветвей, он все же поднялся с бочонка, служившего стулом…
Уже совсем стемнело. Цикады звенели, точно звали: кис-кис-кис. Светили звезды, такие яркие, что казались колючими. Ковшов и малыш остановились на берегу у кромки высокой бетонной стены. Из черноты вываливались длинные, огромные валы. Чудовищно тяжкие, они с гулом рушились на прибрежные камни и хлестали в бетонную стену. Земля вздрагивала под ногами. Малыш испугался этого грозного, непостижимого моря и потянулся к деду. Тот взял его на руки. Воздух был полон соленой пыли, она оседала на лицах, на руках. Губы стали солеными.
Легонький теплый Максимка прижался к деду, и тот едва не задохнулся от нахлынувшего счастья.
На дальней подкове берега роились огни, вдоль прибрежной пальмовой аллеи парка они протянулись ровной цепочкой. А из мрака все обрушивались и обрушивались волны, гремя камнями.
– Так все-таки кем же ты хочешь быть, малыш? – спросил Ковшов и потерся губами о шелковистую детскую щеку.
– Шофером, – откликнулся Максим.
– Это хорошее дело, – согласился дед.
Чернота неба и чернота моря слились воедино. Далеко-далеко в этой черноте полз красный червячок – плыло какое-то судно.
– Смотри-ка, во-он корабль плывет, – показал дед. – Вот если бы ты стал капитаном! В таком море, во мраке, плывет твой корабль, возносится с волны на волну. Ты – на капитанском мостике. Смелый, молодой, сильный!
Максим, все прижимаясь, с опаской смотрел на сердившееся море.
– Нет, я хочу быть шофером, – возразил он нетерпеливо.
– Ну-ну, ясно… Подожди, тебя еще позовет море.
– Куда?
– К себе. К чудесам. К неведомым странам.
– Деда! А что такое море? – спросил малыш, цепкими ручонками перебирая седые кудри Ковшова.
– Море? Ну… вода. Нет, море – это, брат, сила, отвага, красота. – Особенно тяжкая волна ухнулась о камни, взорвалась и обдала их ливнем брызг. – Вот оно какое, море, – серьезно продолжал Ковшов, опуская Максимку на землю. Потом он взял его за руку, и они пошли домой.
– А зачем оно – море? – допытывался Максимка.
– Чтобы… плавать по нему… чтобы оно напоминало людям о силе, о широте… чтобы они ненавидели все клопиное, комариное… ну… мелочное!
Максимка уже зевал, пошатывался – хотел спать.
На веранде было уютно от виноградных стенок, от лампочки в листве. Дед уложил Максима на раскладушку. Щеки мальчика разгорелись от усталости – все-таки всю ночь провели они в самолете.
Ковшов разулся, облачился в черную пижаму и шлепал по веранде босыми ногами. Затем сел в трескучее плетеное кресло и начал рассказывать внуку:
– Люди, брат, полетели на Луну. Вот до чего мы дожили: человек будет ходить по Луне.
– А как они поместятся на ней? – сонно спросил Максимка. – Ведь она маленькая, как мой большой мяч.
– Это она издали, брат, такой кажется. А так она… На ней можно строить города… Вот сейчас астронавты уже кружатся вокруг нее. Там у них есть прицепленный к кораблю аппарат. Он называется лунный модуль. Вот завтра двое из них залезут в этот самый модуль, отцепятся от корабля и опустятся на Луну.
– Насовсем? – прошептал Максимка, сонно хлопая длиннющими ресницами. Он еще пытался смотреть, но его чистейше серые глаза уже спали.
– Нет. Вокруг Луны будет летать корабль. Потом они поднимутся и прицепятся к нему. Это, брат, называется стыковкой.
– А не вывалятся они?
– Нет, малыш!
Всю ночь звучали на веранде гул и рев моря, и всю ночь, сквозь дрему, Ковшов чувствовал себя счастливым.
2
На другой день, где-то уже к вечеру, на веранду заглянула тетушка Анаида.
– Телепередача с самой Луны! – крикнула она.
Вдруг помолодевший Ковшов, с озорно играющими, лукавыми глазами, устремился за ней, словно хотел догнать. Максимка бросился следом.
Еще было светло, и поэтому хозяйка задернула красные шелковые шторы. От них в комнате дымился алый сумрак. Пришедших окружили невообразимый порядок и чистота. Возвышалась белоснежная пышнейшая кровать с тремя подушками. Хозяйка умяла их в виде треугольников и привалила к ковру на стене.
Все уселись перед телевизором на чинно выстроенные стулья. Максим сидел между хозяйкой и Ковшовым.
– Сиди, брат, спокойно, сейчас ты увидишь не что-нибудь, а Луну, – прогудел Ковшов и легонько похлопал внука по спине.
Заговорил диктор, но его прервали на полуслове, и на экране забрезжило нечто смутное, голубовато-туманное, проступили размытые очертания какой-то лесенки, какого-то аппарата на четырех тонких ногах.
– Что это, деда? – в тревоге прошептал Максим.
– Это и есть лунный аппарат, он выбросил лесенку. Видишь? Вон торчат антенны, что-то еще сферическое. Там же в небе кромешный мрак. На черном небе ослепительное солнце.
– А вон камни, тени от них резкие, – прошептала и хозяйка, протянув к экрану полную руку.
– И маленькие камни! Уй, сколько их! – воскликнул Максим. – А как же оттуда передают передачу?
– А под днищем аппарата прикреплена телевизионная камера, – объяснил Ковшов.
В верхней части кабины вдруг что-то зашевелилось. Максим ясно увидел ноги, обувь, похожую на утюги, спину с каким-то прикрепленным к ней аппаратом, вроде огнетушителя в чехле.
– Человек! – закричал он.
– Да-да-да, человек! Человек на Луне, на иной планете. – Ковшов прижал к себе Максима сильно и вместе нежно, точно мальчонка был причастен к происходящему больше, чем кто-либо.
И тут все ясно увидели человека в скафандре, в каком-то толстом, вроде бы брезентовом костюме. Он осторожно, медленно, неуклюже спустился с лестницы и ступил на поверхность Луны.
– Как на картинках, – удивилась хозяйка. – Книжку я какую-то читала о пришельцах с других планет. Так все это похоже на картинки из этой книжки.
Ковшов мимолетно глянул на хозяйку и увидел, что лицо у нее совсем как у девчонки – испуганно-восторженное. На мгновение ее лицо и лицо мальчика стали схожими. Странно, но это было так. И ему захотелось по-родному прижать ее к себе, как Максима.
Порыв был мгновенным, как вспышка. И его некогда было осознать, потому что из кабины появился второй человек, призрачный, напоминающий водолаза.
Две смутные фигуры двигались по Луне медленно, их тяжелые «утюги» на ногах погружались не то в лунную пыль, не то в мелкую гальку. Они оставляли глубокие следы. Вот оба склонились, стали над чем-то возиться.
– Что-то устанавливают, – предположил Ковшов. – Наверное, научные приборы… Они должны там оставить медали памяти погибших космонавтов: Гагарина, Комарова и троих американцев. Не просто сдается вселенная…
Люди на Луне передвигались какими-то короткими толчками, порой казалось, что они бегают. Все было дрожащее, смутное, загадочное, действительно из иного мира…
И тут оборвалось это таинственное видение, экран вспыхнул, появилось резко очерченное лицо диктора.
– Вот мы и увидели первых людей на Луне, – задумчиво и вместе весело заговорил Ковшов. – Вечность, вселенная… Да-а… Люди всегда завидовали птицам. Все мы в детстве летаем во сне.
– Ага! Я в детстве часто летала, – подтвердила хозяйка.
Ковшов опять бросил на нее стремительный, изучающе-ласковый взгляд.
– В древних легендах человек добирался до Луны на лебедях, – сказал он. – А Лукиан из Самосаты рассказывает, что Икароменипп прикрепил к одному плечу крыло королевского грифа, а к другому – орла и полетел на Луну. Это было восемнадцать веков назад. Но эти восемнадцать веков ничто рядом с последними годами. Восемьдесят лет прошло, как Можайский впервые поднялся в воздух, и всего лишь восемь лет, как человек впервые взвился в космос. Я говорю о Гагарине… Этот мост на Луну возводили и наши руки. Американцы сейчас летели по траектории, которую вычислил инженер Кондратюк. Не слыхали о таком мечтателе? Он жил у нас, в Новосибирске. Там у вокзала есть маленький бревенчатый домишко. В нем Кондратюк и делал свои расчеты. Без них на Луну не прилететь бы. Так что лунный полет начался еще в тридцатых годах в сибирской избе…
Ковшов любил читать, и голова его была полна разными любопытными сведениями. Хозяйка слушала его с почтением и откровенным интересом. Вообще Ковшов подметил, что ее лицо живо отражало все ее чувства. Максиму, должно быть, надоели их рассуждения, и он, стуча пятками, убежал в сад…
Ковшов выключил телевизор и пригласил хозяйку:
– Пойдемте ко мне на веранду. Там все-таки прохладнее.
– Вы идите, я сейчас, – обрадовалась она.
Ковшов вышел на веранду. Уже темнело. Он включил лампочку, вокруг нее сразу же закружились, заметались серые бархатные бабочки. Прислушался к голосу Максима в глубине сада. Тот играл с какой-то девочкой.
Ковшов сел к круглому столу, накрытому зеленой скатертью-сеткой, и задумался. Ему показалось, что он очень хорошо и давно знает хозяйку, но словами не смог бы сейчас рассказать о ней. Он понял ее как-то сердцем. А вот в какой момент это произошло, не мог вспомнить. Что-то виделось в ней удивительно знакомое и даже дорогое, но связанное с чем-то очень печальным. «А впрочем, чего это я фантазирую? Я ведь знаю ее всего лишь два дня», – подумал он, стараясь заглушить зарождавшуюся в сердце смутную тревогу.
На веранду вышла хозяйка. Ковшов задумчиво и пристально смотрел на нее. Она была уже не в халате, а в знойно-оранжевом платье без рукавов, плотно облегавшем ее полнеющую фигуру. Вся она показалась Ковшову праздничной. Она несла синее блюдо, полное золотистых яблок и краснобоких груш. Будто пришла поздравить с чем-то его, Ковшова.
Она поставила блюдо посреди стола и села напротив Ковшова.
Облокотившись одной рукой на стол и подперев щеку большим кулаком, он молча, слегка улыбаясь, откровенно разглядывал ее лицо. Ему и в голову не приходило, что это неприлично, что это ей может быть неприятно. Ковшову нравилось в ней необычное и вместе с тем какое-то естественное сочетание женской зрелости и спокойной юной доверчивости.
– Мне почему-то кажется, что я вас когда-то встречал, – нарушил он молчание; его бас прозвучал тихо, мягко и недоуменно. А на лице хозяйки мгновенно отразились смущение и недоумение. – Какое же все-таки волшебство человеческий разум и человеческое сердце. Вот оно что-то знает о вас. Мы с вами говорим, думаем, понимаем друг друга. Непостижимое чудо – разум.
Хозяйка слушала, не спуская с него глаз, чуть-чуть приоткрыв свежие губы, и на ее лице тенями скользили то изумление, то задумчивость. Сами не понимая того, они сидели друг против друга с открытыми сердцами.
– А вон на берегу – скала, – продолжал Ковшов. – Несокрушимая громадина… Ну что мы по сравнению с ней? Слабые-слабые, крошечные временные птахи. Но мы мыслим! И эта громадина перед разумом даже не птаха. А – ничто.
– Я бы и придумать не смогла таких слов. Птахи? Временные? – Она засмеялась.
– А вам и не нужно ничего придумывать, Анаида. – Ковшов тоже засмеялся. – У каждого свои слова… Анаид! Если я не ошибаюсь, у армян это богиня мудрости и красоты?
– Спасибо вам, дорогой, – с легким акцентом негромко поблагодарила она.
– За что? – ласково, как ребенка, спросил он.
– Так… Так просто. – Губы ее вдруг задрожали, она поднялась и быстро ушла к себе.
Ковшов не успел понять, что с ней произошло, не успел, потому что движения ее фигуры, ее рук, когда она уходила, внезапно оживили в памяти его жену. Его жену напоминает эта женщина! Разум понял это не сразу, а сначала поняло сердце. Та же искренность, непосредственность, душевная открытость и необъяснимые перемены в настроении. Только та была по-русски светловолосая, светлоглазая, плавная, а эта по-южному порывистая, опаленная солнцем, черноволосая.
Взволнованный Ковшов поднялся из-за стола и хотел было последовать за хозяйкой, но тут в саду заплакал ребенок, и Ковшов поспешил на этот плач. В густой темноте по лицу хлопали ветки, под ногами трещал ракушечник, которым была посыпана тропка.
Он нашел Максима у белой клумбы. Внук поднимал с земли упавшую девочку. Ковшов успокоил ее, отряхнул платьице и вместе с Максимом увел в комнату, которую снимали ее родители.
Вернувшись к себе на веранду, дед только хмыкнул, увидев совершенно чумазого Максима. На его тонкой шее – глубокая ложбинка, лопатки выдаются. На грязноватой коленке – короста, на пятке – прилипший вар, на спине с резко выступившим позвоночником – свежая царапина.
– Ну, друг, ты совсем избегался, – проворчал Ковшов. – Идем-ка мыться.
Оттерев песком вар с пятки, он поставил Максима в таз и принялся намыливать его с головы до ног. Деду это доставляло наслаждение. Когда он обливал внука холодной водой, Максим радостно вопил. Вытерев его, Ковшов взял мальчишку на руки и понес на веранду. Укутанный в полотенце, влажный, прохладный Максим уткнулся ему в шею сырыми взрыхленными волосами и, переполненный горячей нежностью, как это бывало с ним всегда перед сном, проговорил уже слабым, дремотным голосом:
– Ах ты, деда мой, деда!..
За такую минуту Ковшов ничего бы не пожалел. Покормив внука, он уложил его, и Максим мгновенно как бы нырнул в сон.
Тихо вошла хозяйка, спросила:
– Может быть, мальчику молока… – и не договорила, увидев, что ребенок уже спит.
Ковшов, весь светящийся радостью, отрицательно замотал головой и пошел ей навстречу…
3
Вышел он из комнаты хозяйки поздно. Под яркой луной лежала грузная черная туча, которую то и дело пропарывали молнии. Море внизу зловеще притихло. Перед грозой сильнее пахли цветы. Малыш, свернувшись калачиком, спал сладчайшим сном. Он лежал голый, коричневый, перепоясанный белой полосой – тело под трусиками не загорело. Ковшов легонько пошлепал внука по заду и, подняв с пола одеяло, накрыл его.
С наслаждением зевнув, сладко потянулся, огромный, красивый, и тут будто кто-то всадил в сердце иглу. В глазах потемнело. Одну ручищу он притиснул к груди, а другую вытянул вперед и, шатаясь, двинулся, как слепой, пока не нащупал плетеное кресло. И снова вонзилась в сердце игла. Ковшов осторожно, медленно опустился в кресло. Он сидел скорчившись и властным шепотом кому-то приказывал:
– Нельзя. У моря нельзя. Со мной малыш. Нельзя! Погоди!
У хозяйки могли быть какие-нибудь таблетки, но Ковшов боялся пошевелиться. Он замер, прислушиваясь к сердцу.
– Я тебе, подлое! Насос ты и есть насос. Ну и качай! Выбрало время. Ты понимаешь: со мной малыш. Он от дома за тысячи километров. Мне на тебя и на себя плевать. Все дело в малыше. Привезу его домой, тогда и можешь дурить, будь ты проклято.
Ковшов откинулся на спинку затрещавшего кресла и замер с закрытыми глазами…
Немало осталось за спиной инженера построенных мостов, и жизнь его распадалась на части, которые носили названия то тихих, то бурных рек. «Это было… Я строил тогда мост через Томь… Помню, мы тогда строили мост через Обь… А это…»
И вот теперь, когда все его мосты были отданы людям, у него остался только один мост, и он был не за спиной, а впереди, и не Ковшов его строил, а время возводило. Минуешь его и уйдешь неведомо куда. И этот мост один для всех на земном шаре. И Ковшов сегодня почувствовал его зыбкий настил. Тревога, нехорошее предчувствие охватили его.
В глубокой тьме зашумел дождь, над взволновавшимся морем сильнее заполыхали молнии. Ковшов открыл глаза. Зеленая лохматая стена вьющегося винограда заткала веранду так, что посередине ее остался просвет, словно не до конца сдвинули две половинки занавеса. В этот просвет шлепались на перила крупные частые капли. Там, за небольшим садом, бушевали, освещенные снизу фонарем, высоченные эвкалипты. По черным проводам катились и катились сияющие капли. Они догоняли друг друга, сливались и гасли – падали. По асфальтовой дорожке забурлил поток. Шумел ливень, шумело море и порой бухало орудийным залпом. Пахло солоноватой свежестью.
Внезапно из темноты и дождя, словно брошенный кем-то, вылетел комочек мокрых перьев и шлепнулся на раскладушку к Максиму. Ковшов пригляделся и увидел птаху, похожую на горихвостку. Она совсем намокла, перышки ее слиплись. Наверное, ночь и ливень застали ее на дереве, вот она и бросилась на свет… Ковшов шевельнулся, кресло захрустело, затрещало. Птаха испуганно метнулась на пол, скрылась под раскладушкой, оставив на простыне мокрое пятно.
– Не бойся, птаха, – проворчал Ковшов, – сохни там, спи. Максим – сверху, ты – внизу.
Сердце, как будто послушное приказу, успокоилось. Захотелось вина. Вернее, захотелось хоть ненадолго ощутить в себе проблески молодости, ну, если не молодости, то свежести чувств, светлой радости. Он знал, что вино не стоит сейчас пить, но все-таки не мог удержаться, надеясь на русское «авось». Тем более винцо-то сухое, легонькое.
Поднимаясь с кресла, он уловил тонкий запах хороших духов – это от его черной пижамы пахнуло хозяйкой. Он посмотрел на дверь счастливыми синими глазами.
Налив из бутыли стакан, он сел поближе к перилам, чтобы послушать бунтующее море. «Я никогда не читал книгу, – стал думать он, – книгу о том, как стареет человек и как меняется его восприятие мира, как гаснут его мечты, чувства, как перестает он любить то, что любил прежде, как уходит молодость души и тела».
Ковшов отхлебнул из стакана и с наслаждением закурил. Ему было хорошо. Рядом посапывал Максимка, под раскладушкой прикорнула птаха, шумел дождь, ревело море, за дверью спала на пышной кровати добрая хозяюшка, а он здесь, он еще жив. И у него еще есть эта ночь. Ночь! Это ведь так много. Столько можно передумать и перечувствовать! Как в молодости. Хотя ему все трудней и трудней воскрешать в себе буйные чувства молодости.
Теперь он взирал на жизнь с вершины своих шестидесяти лет и усмехался: все это, молодое, сумасшедшее, казалось ему ненужной суетой, и он был рад, что освободился от всех этих страстей, гроз и молний и теперь в его мире, как в облетевших рощах и на сжатых пажитях, тихо, покойно, свежо и просторно. Воздух хрустально чист, пахнет вянущим листом, и в синеве четко видна каждая веточка. И он усмехается в этой осенней ясности, и копейка для него уже стоит ровно копейку, рубль – только лишь рубль. И женщина для него всего лишь женщина, а не загадочная фея, не сказочная принцесса… Земная, простая женщина для него теперь дороже придуманных фей и принцесс…
Ковшов очнулся от своих мыслей и с удивлением увидел… луну. Оказывается, дождь кончился. Только море еще не успокоилось, ревело.
Отодвинув вино и уже не чувствуя от него радости, а всего лишь усталость и сонливость, он выключил свет и лег.
4
Утром море еще бушевало, сверкая под солнцем. Долго смотрели на него внук и дед, сидя на парапете. Волны притащили откуда-то большой красный мяч и швыряли его, били о набережную. Иногда он взлетал вверх, точно от удара ногой.
– Ух ты! – как страстный болельщик, кричал Максим.
Мяч топила кипящая пенная волна, но он тут же выныривал и приплясывал уже на другой волне и вдруг снова взвивался, как от пинка.
– Деда! Смотри, деда! – выходил из себя мальчишка. – Бей его, бей!
Море утихло только через несколько дней. Ранними утрами из него часто выбрасывались большие рыбы, выбрасывались и шлепались обратно в сияюще-зеркальную воду. Днем же по глади моря пересыпались ослепительные мелкие вспышки, точно шел невидимый дождь и от ударов капель выпрыгивали армии золотых солдатиков.
Радостно было смотреть Ковшову, как дельфиненком бултыхался Максим в теплом зеленом море. Он бросался в легонькую волну и хлопал руками и ногами, выбивая брызги. Ему нравилось нырять, – это казалось очень смелым и рискованным делом.
– Смотри, деда! – вопил он и уходил под волну. Она несколько раз переворачивала его и выталкивала на мелкую гальку.
– Плавать я уже научился, деда! – кричал малыш. – Но только почему это вода меня не держит?
Ковшов, облокотившись на колени, сидел на теплом камне, глядя на Максима. Солнце палило. Ковшов окунал в море рубаху и, свернув ее, клал на голову. По лицу обильно текла соленая вода…
Шли они берегом; ласковое море накатывалось, обдавало их голые ноги чистейшей водой и пеной; шли они – маленький и большой. Малыш глазел на сверкающее море, которое находилось с одной стороны, и на зеленые дымящиеся горы – с другой.
Большой и маленький долго шатались в удивительном парке, разглядывая диковинные деревья: пробковый дуб с толстенной, упругой корой, всегда наклоненную к морю хвойную криптомерию, тюльпановое дерево, держащее в лапах желтые чашки цветов, чилийскую араукарию, похожую на капроновую елку. Ветви ее, унизанные колючками, топорщились оленьими рогами. Удавом обвивала какое-то дерево глициния.
Это все было интересно деду. А Максима привлекло озерцо с островком. На нем среди зарослей бамбука стояла избушка на курьих ножках. Ее бревнышки были зеленые, синие, оранжевые. Вокруг плавали черные с красными клювами лебеди. Высоко на диковинных деревьях дико вопили павлины, хвосты их ниспадали радужными водопадами…
Кто-то посадил и вырастил этот парк, а потом… ушел. Навечно.
И тут Ковшова настигла неожиданная мысль. «А ведь мы живем в мире, который наполовину создан умершими, – подумал он. – Вокруг звучит музыка уже ушедших от нас композиторов, мы читаем книги умерших классиков, нас окружают картины художников, которые уже в земле, и наши дома и города созданы теми, которых теперь нет на белом свете. Только их души говорят с нами».
– Слушай, Максим, – заговорил Ковшов. – По радио я сегодня услыхал интересное. Когда астронавты ходили по Луне, их тяжелые термические ботинки оставили на ней глубокие следы. Так вот, какой-то ученый сказал, что эти следы могут продержаться многие миллионы лет.
– Почему? – спросил Максим, глядя на деда, как на высокое дерево.
– Ну, понимаешь, там, на Луне… Ты еще не поймешь это. Но все-таки слушай. Там воздуха нет, ветра нет, звуков нет – никакого движения. Мертво. Вот следы и останутся навечно.
Максим слушал деда внимательно, потому что дед всегда разговаривал с ним как с равным, серьезно.
– Вот и мы все должны оставить на земле следы.
Максим запрыгал, наследил на песке, засмеялся:
– А теперь ты побегай!
– Мои, брат, следы – мосты.
– Как это следы-мосты? – Максим заглянул в лицо деда.
– Ну да! Оставить следы – это значит что-нибудь сделать для людей. Например, мосты. Хоть они и не вечные, но все же…
– Деда, а что такое – вечные?
– Ну, которым не будет конца. Они будут всегда, вечно.
Зашли в закусочную: на голубых столбиках лежала красная пластмассовая крыша, а вместо стенок плотно вились по веревочкам синие вьюнки. На столах с неубранной посудой разбойничали воробьи. Они садились на края тарелок и клевали оставшуюся кашу, картошку. Эти тарелки с воробьями развеселили старика и мальчишку. И уж совсем им стало весело, когда они увидели парня, на спине которого на белой майке химическим карандашом было написано то, что пишут на задних бортах грузовиков.
– «Не уверен – не обгоняй!» – прочитал вслух дед.
– Чего это он, зачем? – спросил, смеясь, Максим.
– Шутник. Турист!