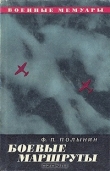Текст книги "Листопад в декабре. Рассказы и миниатюры"
Автор книги: Илья Лавров
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 32 страниц)
Ночные сторожа
В Нальчике зацвел парк. Если взглянуть с горы, он лежит на земле, как белое облако.
Яблоня и алыча сплетают над Ефимом лохматые белые ветви. Сквозь них просвечивает луна. По всему парку раздается шепот, тихий смех и вспыхивают огоньки спичек, зажатые в ладонях. В зарослях цветущего боярышника поет девушка, поет странно: то очень громко, то очень тихо, и кажется Ефиму – то она рядом с ним, то далеко.
Ефим сердито прислушивается, приглядывается.
Он тяжелый, коренастый, в ватнике, в сапогах, смазанных дегтем. Лицо крупное, усатое. Из-под козырька, переломленного посередине, сверкают красивые угрюмые черные глаза. В серой, как железо, руке зажата большая сучковатая палка.
Невдалеке слышится шум ветвей, звон гитары, шепот.
– А, проклятые, погибели на вас нет! – бормочет Ефим и, сжимая палку, крадется. Он пробирается под ветвями почти на четвереньках. Утром прошел дождичек, и мокрые ветви мягко шлепают по усатому лицу. Ефим высовывает голову из кустов, замирает по-охотничьи.
На полянке в молоденькой, тонкой, как ниточки, траве стоят двое.
Девушка – вся в белом. Лицо при луне бледное, волосы взлохмачены, глаза ничего не видят, а по губам скользит задумчивая улыбка. Будто спит девушка и видит необыкновенный сон.
У парня козырек лихо торчит вверх, пиджак наброшен на плечи, рукава рубашки подсучены до локтей. На лоб гроздью сваливается кудрявый чуб. Смеется парень. В руке гитара с лентами. «Красив, собака!» – думает Ефим.
Парень целует девчонку, пиджак сползает в траву.
– Любишь? – шепчет девушка.
– А как же иначе? Раз целую – значит, люблю, – задумчиво отвечает парень. – Днем ты стрижешь да бреешь, ворчишь на клиентов. Простая. Все как полагается. А вот сейчас гляжу – русалка, да и только. Другая, непонятная.
– Да и ты тоже другой, чудак!
Она порывисто обхватывает его за шею. Тут Ефим видит в руке у нее белый букет из веток алычи.
– А, чтоб вам ни дна ни покрышки! – орет он и медведем вываливается из кустов.
Парень поднимает пиджак и, схватив за руку девушку, бросается в пахучую чащу. Раздается треск, удаляющийся смех и треньканье струн.
– Носит вас тут нечистая сила, окаянных! – кричит Ефим. – Весь парк переломают! Аллей вам мало?
Ефим, чертыхаясь, выбирается на дорожку. К нему подходит Варвара, дородная, высокая, со смуглым горбоносым лицом горянки, – отец у нее кабардинец. Двигается она плавно, с достоинством. На ней длинный старенький плащ из парусины.
– Что-то вы уж очень обижаете ребят, Ефим Михайлович, – говорит она с укором, – пусть себе гуляют. Их пора. Весна белая на земле. А вы – грубо. Нехорошо это. Я вот хожу, сторожу да любусь ими.
Они садятся на скамейку под яблоней. Ее молочно-розовые ветви навалились на голубой киоск.
Ефим сердится:
– Да ну их, надоели хуже горькой редьки. И что ты скажешь! Как боярышник побелеет, начинают эти парочки дуреть. Делать нечего, вот и болтаются ночи напролет.
Варвара смеется, и нельзя понять – не то она смеется над парочками, не то над Ефимом. А он так сердито подтягивает за ушки сморщенные голенища, что одно с треском отрывается.
– Шушукаются о чем-то, бродят. И чего, спрашивается, интересного в этом? Не понимаю. Я б их всех разогнал. Делом занимайся, а не куролесь по ночам!
– Ефим Михайлович, милый, ведь они же молодые. Любовь это! Хорошо это. Белая весна коротка, вот уже и лепестки осыпаются. Вспомните-ка себя молодым!
– Меня отец за это вожжами охаживал. Я спину гнул от зари до зари, – ворчит Ефим, показывая мозолистые руки.
– Ну, то было другое время. Теперь дышится привольней, человек стал мягче. Наша песенка уже спета, где нам их понять! А на земле, гляньте-ко, праздник какой. Бело все, душисто…
Ефим, Варвара и еще один сторож – кабардинец Залимхан – работают в садоводстве. Ранней весной они сажают деревья, цветочную рассаду, следят за парком, а потом, когда он открывается для публики, сторожат ночами.
Садоводство находится тут же в парке, под обрывом, на берегу речки. Среди деревьев стоят контора, кладовые, хозяйственные постройки, сверкают стеклами парники. Здесь выращивают для парка и города цветы и деревья.
В садоводстве особенно ценят Варвару: она холит парк, изучила все сорта цветов, породы деревьев, знает, как и когда их сажать, как ухаживать. Ефим поступил недавно, и она рассказывает ему о парке:
– Видите – канадские голубые ели? Красавицы. Им цены нет! А вон форзиции. Во-он, как тонкие дуги. На них висят цветы колокольчиками. Но пуще глаза берегите экзоты.
– А что это такое? – справляется Ефим.
– А это деревья, которые не растут в Кабарде. Они родом из Южной Америки, Японии, Китая, из других разных мест. Тут и листопадная магнолия в белых цветах, тут тебе и японский дуб, и канадский бундук, и павлония с фиолетовыми цветами. А еще зимнецвет. Январь, снег, а он знай себе цветет, весь в желтых цветах.
– Скажи пожалуйста! – усмехается Ефим.
Варвара все рассказывает и рассказывает, и Ефим проникается уважением к ее познаниям. Сам он только и умеет отличить сосну от березы.
– Ну, мы что-то засиделись, дело забыли, – поднимается Варвара и уходит на свой участок.
Ефиму становится пусто, одиноко. Большой, нахмуренный, идет он в другую сторону в белом тоннеле из деревьев, стучит по стволам палкой. При луне кажется ему, что парк завален снегом. Близко ревет в камнях речка, лягушки квакают на весь парк. Ефима обдает свежестью зацветающей сирени, дыханием яблонь, острым запахом тополевых листьев. От каждого дерева ползут свои запахи. Они так густы, что волочатся за ветерком, невидимо клубятся под деревьями. Ефим поглядывает вокруг, снимает кепку с помятых скомканных волос и расчесывает их пальцами. Нюхает воздух. И ему становится тоскливо или, как он говорит, «скучно». Отчего возникает это чувство, он не может понять.
Навстречу ему торопливо идет жена Анна с узелком в руке. Она тоненькая, небольшая, остроносое лицо в оспинках, как пластик сыра в ямках. На ней ситцевое, в цветочках, платье.
Анна работает уборщицей в гостинице. Сегодня у нее день рождения. Ефим, конечно, забыл, но она захотела сделать ему приятное. Придя с работы, она с удовольствием возилась вечером на кухне. Представляла, как обрадуется Ефим, когда на скамейке задымится кастрюля с пельменями. А может быть, даже вспомнит, поздравит?
– Чего ты… заявилась? – раздраженно спрашивает Ефим.
Анне становится невыносимо обидно, но она все же весело говорит:
– Пельмени я тебе принесла. Поешь.
– А чего это загорелось? До утра, что ли, нельзя было подождать?
Ефима раздражает, что Анна такая худенькая; что вечно старается угодить ему и смотрит преданными, покорными глазами. Он женился по воле крутого отца и не любил ее. Заваленный работой, так и прожил всю жизнь, никого не любя, а потом уже и годы ушли.
Анна расстилает газету на скамейке, ставит кастрюлю, кладет хлеб и ложку. Ефим начинает хлебать.
– Не соленые совсем, – морщится он, – дай соли.
Анна испуганно вспоминает, что действительно забыла посолить, да еще, ко всему, не взяла соль.
– Голова-то на плечах есть? О чем только думаешь?
Ефим говорит много обидных и грубых слов. Анна плачет, и слезинки, мелкие, как дробь, сыплются по щекам.
– Разве чего хорошего от тебя услышишь? Я старалась не знаю как! За день-то повыкручивала руки, ног не чую под собой и еще, дура, понеслась к тебе. Дай, думаю, как лучше сделаю, а ты…
Она уходит.
Ефим, понимая свою неправоту и злясь на себя и на Анну, которая навела на грех со своими пельменями, подходит к летнему ресторану среди голубых елей. Сторож, старикашка Биба, конечно, храпит среди пивных бочек. Ефим толкает его ногой.
– Эй, разве солдату полагается спать на посту?
Биба испуганно вскакивает:
– А? Кто здесь? Кто?
– Поджилки затряслись? – невесело смеется Ефим.
Биба потягивается, зевает, царапает заросшее маленькое лицо.
– Хи-хи-хи… Звалыв сон. Тут мое начальство нигде не крутытся?
– Не видать будто…
Они садятся на бочки.
Биба – в шапке, в ватном пиджаке, в валенках с калошами из красной автомобильной камеры. Он низко наклоняет голову и стаскивает шапку, боясь, чтобы оттуда не выпали спички, мундштук и банка с махоркой. Он всегда хранит их в шапке, и они выпирают шишками. Закурив, складывает обратно и не надевает шапку, а, низко склонившись, вталкивает в нее голову. Когда он при разговоре мотает головой, спички тарахтят, и кажется, что это тарахтит в самой голове.
– Якось сунув нос он у той грушняк, – хихикает Биба, – дывлюсь, батюшки… директор мой толстомясый з якоюсь-то бабенкой пид ручку тащится. Хи-хи-хи… – И в голове Бибы тарахтит.
– Чего врешь? Это он с дочкой гулял, – бурчит Ефим.
Биба глуп и сплетник. Ефиму он совсем не интересен. Ефим молча курит, уныло смотрит на озаренное луной облачко. Неожиданно бросает едва начатую папиросу, затаптывает огонек и уходит, сказав:
– Ну, дрыхни.
Он лезет в заросли ольхи. На некоторых деревьях еще висят сережки, плюшевые червячки, еле слышно потрескивая, лопаются почки, будто семечки кто щелкает. Ефим спускается в низину, в заросли жасмина и барбариса.
У огромной, в три обхвата, липы стоит Залимхан. Ему семьдесят лет, он в папахе, бурке, оперся на ружье. Старик строен, как юноша, и похож на воина. Лицо узкое, кованное из бронзы, с белой тугой бородкой.
Ефим садится на траву. Она коротенькая, но густая, мягкая, как волосы. Чувствуя тягучую, ноющую тоску, крякает, трет щетинистый подбородок и спрашивает:
– Спокойно все?
Залимхан кивает и подходит к нему. Движения его по-кошачьи мягкие, бесшумные.
Ефим долго молчит, а потом, думая о чем-то своем, произносит:
– Погода будто установилась, слава богу.
– Горы спокойны, – скупо соглашается Залимхан.
– Как у тебя родные в ауле – отсеялись?
– Кукурузу посеяли. Пшеницу кончают.
– Сына я в армию проводил. В кавалерию взяли!
– Якши. Конь будет, сабля будет, джигит будет.
Ефиму не сидится, словно бы что-то потерял, и сердце тревожится, гонит: ищи, ищи. Он хочет рассказать Залимхану о своем настроении, но не может объяснить его словами и только машет безнадежно рукой:
– Поплетусь…
Старый джигит смотрит на снежные горы, не шелохнется, как высеченный из гранита.
Ефим бредет, сам не зная куда, между колючими елями, которые положили нижние лапы на землю. На скамейке под могучим дубом сидят не то двое, не то один. Ефим сердито глядит на непонятную фигуру. Он подходит к обрыву, стоит у засохшей корявой груши. На земле тень от нее такая резкая, черная, будто лежит срубленное дерево. Скорее сама груша в сиянии походит на призрачную тень.
Ефим удивленно замечает, что где-то потерял неизменную палку, а сам мокрый с головы до ног.
В зарослях вишни раздается крик, смех, топот. «Должно, студенты дурака валяют», – думает Ефим.
Уже за полночь, и свет в парке выключили. Тихи белые заросли. Ясно зазвенела гитара. Едва слышно запела девушка:
Что стоишь, качаясь…
Песня звучит то с вершин дубов, то со склона обрыва, из густых сосенок, а порой чудится, что это звенят белые ветви яблонь. В песне трепещет что-то его, Ефимово, что не поддается словам, разуму, но сердцу оно понятно, и сердце распирает грудь.
Неожиданно подходит Варвара, заговаривает, и на душе становится легче, веселее. Никуда больше не хочется идти.
…Сирень стала лиловой, и все деревья зашумели мягкой листвой. На главной аллее клены подстрижены как шары. По всем боковым аллейкам и темным дорожкам, закоулкам и лужайкам гуляют люди. В ресторане яркие огни, звякает посуда, пахнет шашлыком. Среди зарослей сверкают окошки ларьков, и слышно, как стучат железные насосы, качая пиво. Шныряют мороженщицы в белых халатах, с ящиками на ремнях. В ящиках вафельные стаканчики с красным мороженым. Из летнего театра доносится пение. Вдоль забора на пышные ели вскарабкались мальчишки, пачкая руки смолой, – слушают концерт. За рощей каштанов музыканты, сидя в гулкой «раковине», играют молдаванеску. Далеко слышно, как шаркают ногами танцующие.
Жизнь шумит в центре парка, а на огромной его части, в зарослях, темно и тихо, как в лесу. В дебрях цветущей сирени сидят на скамейке Ефим и Варвара. Между ними на платке лежит горка вареной картошки, лук, ломти хлеба, в спичечном коробке соль. Варвара всегда берет узелок на ночь. Она угощает Ефима. А он рассказывает, как жил в деревне, как перебрался в город и как теперь занимается огородничеством, разводит кроликов, а ночами дежурит.
Потом, не торопясь, рассказывает о себе Варвара:
– Слесарь муж у меня. В слесарной мастерской на базаре. Дочка учится в техникуме. Устроилась будто ладно, свой домишко завели, а вот в эту весну все затрещало. Двинулись люди из городов в колхозы, на целину. Затосковал и мой. «Что, говорит, в самом деле, барахольщик я, что ли? У меня в руках золотое мастерство, а я с примусами да ржавыми замками вожусь, чтоб им сгореть! Моим рукам большое дело нужно». И заладил одно: едем да едем. Ты, говорит, в колхоз по садоводству, я в МТС слесарем. Смотри, говорит, в корень жизни. Ну, судили, рядили, так и этак прикидывали, а что возразишь против хорошего дела? Пришлось сдаться. Муж уехал, уже работает, а я осенью переберусь.
– Да, бывают положения, затрещит жизнь по всем швам, – задумчиво произносит Ефим, очищая картошку. И не поймешь, о ком он говорит. Он макает картошку в коробок с солью, с удовольствием жует. – Хорошая картошка у вас, рассыпчатая.
– Своя. Думаю до новой дотянуть.
– А у меня уже кончается.
Приплывают издали тревожные, печальные звуки вальса. Они звучат то громко, то еле слышно, и Ефиму опять делается не по себе, словно что-то потерял или хочется куда-то ехать.
Он отрывает цветок сирени, тяжелый, точно из резины, заталкивает за хлястик на кепке, подкручивает усы сразу обеими руками и внимательно смотрит на Варвару.
– Пройдусь, посмотрю, что да как. Спасибо за угощение.
Опять всюду напевают. Тихонько смеются, слышен шорох шагов. «Эх, молодежь!» – вздыхает Ефим, и ему своя жизнь кажется постылой, одинокой.
На знакомой полянке, среди алычи, он снова застает парочку. По привычке набирает полную грудь воздуха и хочет разразиться руганью, но задумывается, выпускает длинно и шумно, как проколотая шина, воздух и машет рукой: «Пускай себе, никому не мешают…»
Неделю Варвары не было в парке – прихворнула. Ефим удивленно заметил, что все похаживает вокруг скамейки, на которой они ели картошку. Покачал головой, усмехнулся. А когда появилась Варвара, снял с ее черных волос зеленого червяка – опустился на паутинке с дерева – и сказал:
– Долгонько не видно было, а мы уж тут соскучились.
Ефиму кажется, что Варвара ходит и двигается красиво. Он чувствует себя рядом с ней корявым, как сухое дерево, неуклюжим и стыдится самого себя. Он старается двигаться «аккуратнее, вежливее», как определяет сам.
Насвистывая, Ефим идет по парку, и впервые деревья нравятся ему. Он удивленно рассматривает их, нюхает. И чувствует Ефим, что любит парк и эти ночи, и, наверное, они лучшие в его жизни. Уже не хочется кричать на парочки, неприятно, что Варвара слышала его ругань. «Лаялся, как пес, – думает он смущенно, – а чего, спрашивается? Темнота!»
В июле трава в парке вымахала по пояс. Сторожа Ефима вызвал директор парка и садоводства Косячков.
– Товарищ Вакутин, я прошу вас – займитесь травой. Скосите, – произносит он слабым и тихим голосом, сидя за столом. Он как-то бережно и ласково смотрит на Ефима светлыми глазами, которые привыкли всю жизнь смотреть на цветы. – А то, сами знаете, перестоит, засохнет, весь парк испортит да еще вдобавок нашего Пегашку оставим без сена.
Косячков удивительно тихий и скромный. Он не умеет приказывать, он всегда просит, боясь обидеть человека.
– Только, знаете, я прошу вас… Как бы это сказать… в порядке общественной нагрузки, что ли… Нет у меня денег на оплату косаря, не предусмотрено по смете…
Ефим мнет в руках кепку, смотрит в окно на луг, на кучу граблей, на поле алых роз и решительно говорит:
– Возни много. Платите – скошу, а так – расчету нет.
– Видите ли, дорогой, у нас всегда это делают сторожа.
– Я косарем не нанимался.
Косячкову почему-то становится стыдно за Ефима.
– Ну, что же… ладно… жаль, – смущенно говорит он, сдвигая тонкие брови.
Ефим уходит. В соседней комнате сидит Варвара. Она укоризненно качает головой.
– И как вы могли такому человеку отказать? Неужели какие-то полсотни дороже нашего парка? – удивляется она.
Ефиму делается неудобно и досадно на себя.
– Да ведь, знаете, наш брат прежде ляпнет… скажет, а потом подумает, – тихо говорит он.
…Хорошо, привольно махать косой на полянках, забросанных цветами и залитых солнцем. В траве хоронилось много маленьких серых зайчат. Они попадали под косу, гибли, и, как Ефим ни оберегался, к вечеру их набиралась целая кучка.
Ефим сушил траву, сгребал, сметывал в стожки. Пахло молодым сенцом, а с гор наносило запах снега…
Однажды Ефим пришел на дежурство в новом пиджаке, выбритый.
В парке пусто – близится гроза. Над горами поблескивают молнии. Становится душно. К луне подползают пухлые тучи. Листва висит не шевелясь. Сладко и приторно пахнет цветами, они заполонили весь парк. Он в темноте представляется глухими дебрями. Сочные листья, как мокрые, мерцают лунными пятнами. Трава глянцевито светится.
Ефим подтягивает голенища сапог и решительно направляется в угол парка, где сторожит Варвара.
Посередине гладко обритой полянки – стожок, рядом – темная, раскидистая ель, а под ней – Варвара.
Движения Ефима становятся нерешительными. Ему кажется: нельзя говорить о том, что переполняет душу. И нельзя прикасаться к Варваре, иначе испортишь то, что еще никогда не испытывал.
Ефим идет медленно, не сводя глаз с Варвары, идет словно по трясине, и ноги осторожно нащупывают кочки, чтобы не оступиться.
Еще не скошенная трава – по пояс. Она сухо звенит. Семена засохли, цепляются за брюки колючками, колосками, усиками. Ноги задевают стебли, и цветы осыпаются, пачкают желтой пыльцой, тоненько гремят горошками семян в маленьких коробочках.
Ефим несмело выбирается на обритую полянку. Варвара замерла, облитая луной: она не то спит с открытыми глазами, не то что-то напряженно слушает. Потом Ефиму чудится, что она плачет, – глаза сверкают, как в слезах. Затем он видит: она ласково улыбается.
– Уж больно на земле-то хорошо, – говорит она почти шепотом, – и помирать не хочется…
Ефим стоит задумчиво. Варвара слегка усмехается, пригибает колючую еловую лапу, держит ее между собой и Ефимом. Он неуклюже поглаживает по ветви и говорит голосом, который вдруг загустел:
– Ну вот, Варвара… – но больше ничего не говорит, как будто в душе испуганно попросили: «Не надо».
Он восхищенно и тоскливо смотрит на гордое, смуглое лицо Варвары.
Громыхнул гром. Обвисшие листья всплывают на волне ветерка, бормочут, шевелятся, в лицо шлепается несколько тяжелых ледяных капель, и опять все стихает. Грозы так и не получается. Молнии вспыхивают далеко, за горами.
Шумят кусты, вылезает лохматый пьяненький Биба.
– Милуетесь? Оце гарно! – хихикает он и ковыляет за тополевую рощу, где из открытого крана журчит вода.
«Вот леший, таскается здесь», – думает Ефим, робко трогает жесткую большую руку Варвары и тихо, боясь что-то испугать, уходит. Он ощущает руку Варвары в своей, как будто ведет ее за собой. Двигается по аллеям, разогнув спину, улыбается, проводит рукой по густым ветвям. Собственная жизнь ему кажется значительной, интересной, точно до этого ничего не видел вокруг и даже этого парка не понимал.
Ефим смотрит на небо, – оно похоже на гористую темную землю. Ефим смотрит на землю – она походит на звездное небо. В кромешной темноте трава кишит зелеными огоньками светляков. Ефим идет по траве, отставив руку, словно ведя кого-то, и светляки брызжут, как звездный дождь. Даже в усах Ефима горит звездочка.
Ефим останавливается: в черноте дупла старой липы светятся гнилушки, словно кошка смотрит. По всему парку пылают холодные огни – груды зеленых углей. Мягко взмывают летучие мыши. Душно. Беззвучные молнии все полыхают и полыхают вдали. Белеют на клумбах сугробы табака и пахнут далеко вокруг. Ефиму кажется, что и он пропах им.
Из глухой аллеи выходит навстречу Анна. Зашла с работы. Ефим опускает отставленную руку. Они садятся на скамейку.
Ефим поглядывает на жену и вспоминает ее девушкой. Она всегда смотрела на него слегка изумленно. Теперь все изменилось в ней, а вот большущие голубые глаза и выражение в них остались неизменными. Ефима внезапно поражает мысль: ведь у нее всю жизнь в душе живет такое же необыкновенное чувство, какое недавно поселилось и в его душе. И он никогда не понимал этого. Грубостью, сухостью обижал в ней то, к чему нельзя прикасаться. Ефиму жалко Анну, и он чувствует себя виноватым. «Мне бы гордиться, а я…» – думает он.
Она и работает и тащит на своих плечах хозяйство. Сына вырастила. Не было ей просвета. А он, Ефим, жил душой в стороне.
Ефим царапает подбородок и оглядывается, точно испугался, что кто-нибудь уличит его.
– Парк-то… Хорош парк, а? – спрашивает он смущенно и мягко.
Анна очень удивлена таким голосом.
– Не надышишься. Цветов, деревьев, – соглашается она.
– Пройдемся. Покажу тебе все.
Анна краснеет, одергивает линялую фуфайку. «Работает, работает, а я и не подумал справить ей хоть пару хороших платьев», – досадует Ефим, а сам охотно объясняет:
– Это вот дерево гингко. Вишь, какое мудреное название. Все деревья теперь, Нюра, не такие, как прежде. Ученые говорят, что они… Ну, как бы тебе объяснить? Переродились, что ли… Совсем изменились. А вот это самое гингко какой вид имело еще до появления человека на земле, таким сохранилось и до наших дней.
Анна идет рядом и слушает с интересом.
– Парк занимает ни много ни мало, а двести гектаров… Такого, пожалуй, по всей стране не сыщешь.
Походили с часок. Анна собралась домой.
– Не боишься одна?
– Ничего, добегу.
– Ты не возись больше с дровами, я вот приду утром и наколю.
Анна быстро уходит. И долго еще бледные вспышки далеких молний выхватывают из темноты ее фигуру. Ефим думает о том, что хорошо сделал, приласкав жену, и хорошо, что промолчал с Варварой.
– Я вас! Держи их! Лови! Стреляты буду! – орет Биба, свистит в свисток и топает на месте, изображая бег. Какая-то парочка шарахается от ели. – Хи-хи-хи, – трясется Биба, и в голове его тарахтит. Любит он подкрадываться к парочкам, подсматривать за ними и пугать.
– Зачем ты их? – сердится Ефим.
– А чого воны тут ползають?
– Пускай гуляют. Ничего ты не понимаешь, трухлявый пень. А ведь они… Да ведь это… А! Чего с тобой толковать, гингко. – Ефим надергивает Бибе на нос шапку и уходит.
Варвара уезжала в колхоз.
Уже кончились августовские звездопады, пришел сентябрь. Часто небо сеет зерна дождинок. Парк пустой. Он шумит, шепчет в темноте, словно деревья тревожно совещаются, как быть дальше – подошла осень. Клумбы разграблены ею. Застучат скоро молотки, заколотят киоски, летнюю эстраду. И площадку для танцев заколотят. В «раковине» ветер гоняет бумажки. Пора промазывать и проклеивать окна, пора заделать щель в дверях. Но Ефиму не хочется этим заниматься. Тоска, тревога давят сердце.
Вспоминает Ефим знакомых, и все не такие, как он. Варвара стала садоводом, сосед Филимон, кустарь-сапожник, ушел на обувную фабрику закройщиком, а через год его имя стало известно стране: открыл какой-то способ закройки. Столкнулся Ефим недавно в парке с дружком детства Петром Елезовым. До Петра тоже рукой не достанешь: курсы окончил, трактористом стал. И только Ефим не живет, а небо коптит. Кроликами на базаре торгует.
Странное стало твориться с ним. С какой стороны ни глянет на себя, все морщится.
Ефим бредет среди парка. Одичавшая белая кошка шмыгает в чащу. Кусты бьются на земле, как подстреленные черные птицы.
Ефим потирает грудь, а в голове встревоженные мысли: «Живешь вроде этого Бибы. Болтаешься у всех в ногах. Зачем ты такой нужен Варваре?» Ефим поднимает воротник дождевика. Заходит в летний буфет – крыша на столбиках без стен. Стулья уже увезли. Столы сложены друг на друга ножками вверх. Болтается от ветра на шнуре пустой патрон: лампочку выкрутили. Пахнет размокшими винными пробками из корзины. Ефим снимает стол, садится на него и строго размышляет о своей жизни.
Из-за кустов появляется Варвара в пальто, в теплой шали. Ефим, соскочив со стола, торопливо протягивает руку.
– Полуночничаешь? – улыбается она. – Небось скучно одному-то?
Да ведь как сказать, конечно, несладко, – говорит взволнованно Ефим и, отвернув шуршащую полу дождевика, лезет за папиросами. – Уезжаешь, значит… И парк наш закрывается… – Голос его звучит глухо, отрывисто.
Они оба задумчиво молчат. Ефим теребит на дождевике большую пуговицу.
– Да-а… Неладно как-то вылепилась моя жизнь, – наконец нарушает он молчание, – видно, перекраивать ее нужно. Не на месте сердце.
Варвара, как бы изучая, всматривается в его лицо. Между ее бровями ложится морщинка. Варвара тихонько прикасается к его локтю.
Толстые пальцы Ефима крепко сжимают пуговицу. Ему кажется, что он сквозь брезент рукава ощущает тепло ее ладони.
– Учиться бы тебе, Ефим Михайлович, – осторожно советует Варвара, – учиться, а?
– Ну, куда уж мне… Годы не те… – усмехается недоверчиво Ефим.
– А что годы? – уже горячо возражает Варвара. – Шел бы вон на курсы садоводов. Нынче открывает Косячков. Хорошее дело, право!
– Смешно, поди… Не молодой ведь… – неуверенно и задумчиво говорит Ефим.
– Да и не стар еще, – улыбается Варвара и убирает руку.
Ефим опускает свою, не заметив, что пуговица осталась у него в кулаке. Он медленно крутит ус и думает. Потом, выронив пуговицу, трет жесткими ладонями лицо и бережно говорит:
– Спасибо тебе… за все… Уезжаешь, выходит.
Он жалобно смотрит Варваре в глаза.
Холодный ветер заламывает сырые черные ветви, со свистом стегает по воздуху.
– Счастливо тебе, – шепчет Варвара и быстро уходит.
Ефим долго смотрит ей вслед. И знает он, что больше никогда не увидит Варвару.
Он идет в другую сторону. Ему не хватает воздуха. Распахивает дождевик, глубоко дышит, подставляя лицо под реденький дождик.
Сырая, непроглядная ночь, и бушующий черный парк, и моросящее небо – все полно Варварой и поэтому на всю жизнь дорого.
Ефим в распахнутом дождевике, с палкой идет, как путник, снаряженный в далекую дорогу.
1954