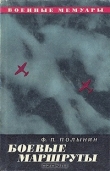Текст книги "Листопад в декабре. Рассказы и миниатюры"
Автор книги: Илья Лавров
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 32 страниц)
Одна за другой подходили женщины, ставили на дороге ведра, судачили.
Рассвет был хмурый. За сопками, в стороне лесосеки, гремел гром и шел сильный дождь. Над Синим Колодцем тоже накрапывало, крыши становились рябыми.
К конторе, где у крыльца стоял грузовик, собирались трактористы, вальщики, сучкорубы.
Семен знал, что теперь долго будут чесать языки. Нелепо! Другие совершили подлость, а он почему-то чувствовал себя виноватым. Лоскутова встретят как героя, а его, Семена, как смешного чудака. И действительно, как только у конторы увидели Семена, Светлолобов пробасил:
– Неудачный жених идет! – И бабьим голоском раскатился: – Хе-хе-хе!
– По усам текло, да в рот не попало, – проскрипел пожилой, дряблощекий учетчик Харламов. – Приготовил свадебку дружку!
– Вот бы тебе так, Харламыч, на дармовщинку-то!
Молодежь начала похохатывать, но старик Лапшов, с лицом в синих пороховых крапинках, строго остановил:
– Прикусите язык, нечего зубы скалить. Человеку в душу плюнули, а вы хаханьки разводите!
Семен еще издали уловил движение, говор, смешки. Он не знал, куда деваться, но тут его выручили Ягодко и Арсалан. Они догнали, пошли рядом, и Семен принялся оживленно говорить, как будто с ним ничего не случилось. Когда подошел и поздоровался, все с любопытством стали рассматривать его.
– Ну, как дела-то? – не вытерпел Светлолобов. – Тут болтают всякое, правда, что ли?
Лицо Семена потемнело. Он враждебно молчал, не зная, что сказать.
Ягодко нехотя рассказал о случившемся. Когда услыхали, что Лоскутов уговорил Клашу в один день, Светлолобов одобрительно воскликнул:
– Вот бродяга! На ходу подметки рвет, хе-хе-хе!
– Пакостник он, Степка-то, – внушительно заметил Лапшов, – а у Клашки дурь лопатой не выгребешь. Глупость и подлость всегда рядом ходят. Эх вы, молокососы! Учат вас, учат… – И он махнул темной жилистой рукой.
– Гуляли они раньше, Степка-то с Клашкой. Ну и снова спелись, – пробормотал Ягодко.
– А ты тоже, Семен, стоял как телок! Мозгами шевелишь, точно бревна ворочаешь! – закричала Полина. – Поставил бы весь дом вверх ногами. Обоих за шиворот, да лбами и звякнуть, чтобы черепки треснули, как яйца. Ведь вон какой медвежище!
– Вот как, брат! Значит, обскакал тебя Лоскутов, хе-хе-хе! – не унимался Светлолобов.
Засмеялись и другие.
– Хэ, смеются! Умный не смеется! – разозлился Арсалан.
Семен облегченно вздохнул, когда полезли в грузовик и разговор кончился. Сел на заднюю скамейку. Старик Лапшов устроился рядом, угостил махоркой.
Накрапывал дождик. Погромыхивал гром. В тайге попали в полосу сильного дождя. Холодные струи стекали по лицу, как проволока. Унылый, мокрый туманный лес замер под дождем. Мелькали старые вырубки с серыми пеньками. В глубине леса кукушка однотонно и нежно звала и звала кого-то и никак не могла дозваться. Дорога превратилась в речку, вода бурлила под колесами.
– А где молодожены-то? – спросила Полина, кутаясь в клетчатую шаль.
– В обнимку лежат, – весело ответил Светлолобов из-под брезентового капюшона.
Лапшов сердито глянул на них и пробормотал:
– Сегодня, кажется, поработаем с боку на бок в балагане.
И нельзя было понять, на что он сердится.
Семен ехал в одном пиджаке, подставив лицо и грудь дождю, и думал о том, что эти люди смеются не со зла, а просто им до чужой беды нет никакого дела. От этой мысли густая, как смола, печаль поползла в душу. Ведь не так же все должно быть между людьми!
Из полосы дождя уже выехали.
– Гром постучал-постучал немного да и смолк – попугал малость, – обратился Лапшов к Семену как-то по-особому, тепло.
Семен внимательно посмотрел на старика, отвернулся и, как вчера, остро почувствовал, что никому он не нужен и вообще неизвестно, зачем землю топчет. Кто он? Так, ноль без палочки. Вот он трясется на ухабах под дождем в старом пиджачишке, мокрый, неприглядный, с руками грубыми, как сосновая кора. Погладит – оцарапает. Такой заявится в город – милиционер глаз с него не спустит. Эта мысль не оставляла Семена и на лесосеке.
Лес после дождя засверкал под солнцем, будто пересыпанный множеством сияющих стекляшек. На конце каждой шишки и хвоинки висела прозрачная капля. Арсалан подпрыгнул, дернул ветку – тополек выплеснул воду, словно из ведра.
Когда с гулом рухнула первая сосна, над ней взметнулось облако водяной радужной пыли.
Электропила после дождика била током сквозь брезентовые рукавицы.
– Дьявол, царапает! – крякал и ежился Семен.
Пришлось оставить работу, пока не подсохло. Ягодко обругал начальство за то, что нет резиновых сапог и рукавиц, и пошел собирать бруснику, от которой полянки были красными. Семен расстелил пиджак, лег, задумался.
Фырканье грузовика внизу под холмом вспугнуло его мысли. Семен поднялся. Алеша Сарафанников, стоя на подножке, звонко кричал в гулкий лес:
– Здорово, лесогубы!
Дождик снова забрызгал, внезапно и звучно над лесосекой затрещал гром. Светлолобов торопливо остановил станцию. Работа срывалась.
Семен подошел к Сарафанникову.
– Ты куда?
– Куда бы шофер ни ехал, он всегда едет вперед. На нижний склад качу.
– Проехаться, что ли, пока дождь… Обратно подбросишь?
На дворе лесосклада Семен увидел горы бревен. «Сколько их!» – удивился он. Казалось, только могучей стихии под силу наворочать такие завалы.
– Сколько же здесь кубометров? – задумчиво спросил он у Сарафанникова.
– Да, пожалуй, тысяч двести, не меньше, если не больше! – Шофер прищурился, глядя в небо так, точно слушал далекую музыку. – Десятка два хороших деревень! Ваш брат наворочал! – добавил он и ушел.
Семен удивленно посмотрел на шевелящиеся под гимнастеркой лопатки Сарафанникова, потом стал внимательно разглядывать свои большие руки с липкими пятнами сосновой смолы.
Медленно обходя груды бревен, скреб шершавую щеку. От бревен пахло смолой. Семен понюхал руки – они тоже пахли смолой.
…Дня через три Лоскутов с Клашей вышли на работу. Начальник дал им комнату, и Клаша перевезла из деревни вещи. Вечером она стояла у ворот подбоченясь, насмешливо щурясь на женщин, словно вызывая их на скандал.
Лоскутов зашел в общежитие взять чемодан. Увидев, что все его имущество вместе с кроватью – в сенях, остановился на пороге комнаты:
– У кого это руки чесались? Таких вояк можно быстро к ногтю… – Он погладил суконку-бородку.
Семен лежал на кровати, заложив руки под голову, опустив обутые ноги на пол. Ягодко сидел с намыленным лицом – брился. Арсалан стоял на табуретке, исправляя репродуктор.
– Это тебя, гнида, к ногтю надо, – ощерился он и присел, точно готовясь прыгнуть на грудь Лоскутова. – Раз – и готово! – Арсалан прижал ноготь к ногтю.
Лоскутов сжал зубы, двинулся в комнату:
– Ты что это из себя строишь?
Семен неторопливо поднялся с кровати, под ним жалобно крякнула новая, совсем еще не расшатанная половица. Лоскутов глянул в его лицо, круто повернулся, сгреб вещи и уже в открытое окно крикнул:
– Мое вам!
Арсалан наотрез отказался работать с ним в паре. Мастер просил, требовал, приказывал – Арсалан гневно твердил одно и то же:
– Паршивая овца! Нож я на него точу! Э, паршивая овца!
Семен эти дни в клубе не появлялся, в волейбол и в бильярд не играл, до темноты бродил по тайге или сидел один на берегу ручья и слушал, как он прерывисто булькал, точно вода лилась из бутылки.
…Недели через две все женщины в Синем Колодце всплеснули руками: Лоскутов бросил Клашу.
Смеркалось, когда Лоскутов вышел из новой квартиры с чемоданом. Он шел вразвалку, ноги – колесом. В прежнюю комнату не решился идти и заглянул в соседнюю.
– Примите, братцы, в свой табор закоренелого холостяка! – наигранно весело крикнул он.
– Разошелся? – удивленно спросил Сарафанников, лохматый, в одних трусах, – он только что вымылся в ручье, и тело еще было красным от жесткого полотенца.
– Да, не столковались по ряду вопросов, – щегольнул Лоскутов фразой, подхваченной на собрании. – Еще не родился на свет человек, который бы командовал мною.
– Значит, наскочила коса на камень. Характерами не сошлись? – Сарафанников глядел в потолок.
– Выходит, так.
– Места у нас нет, – мрачно буркнул с кровати шофер лесовоза и отвернулся.
– Вон какая резолюция, – недобро засмеялся Лоскутов.
– Да, – посочувствовал Сарафанников. – Всей бы душой рады такому человеку, но…
– Ну что же, на «нет» и суда нет. Вопрос ясен.
– Чем богаты, тем и рады, – вежливо извинился Сарафанников.
В другой комнате Лоскутова встретили еще хуже.
– Черт с вами, кланяться в ноги не буду! Подумаешь, прынцип какой-то еще из себя строят! – взбесился он и вышел на улицу.
Тут Лоскутов на свою беду столкнулся с Полиной и попросился переночевать. А уже через минуту народ собирался на ее крик:
– Глазищи твои бессовестные! Когда ты влез между Семеном и Клашкой, мы молчали. Мы изо рта пар не выпускали. Думали, ты решил жить с Клавдей по-людски. А теперь вон как повернулось дело! Чего ты рожу-то свою воротишь? Боишься в глаза людям смотреть?
Горластая Полина яростно махала руками, платок сполз на плечи. Женщины окружили Лоскутова, а он растерянно топтался, не зная, как улизнуть.
– Тю, что вы, сдурели? Чего глотки дерете на всю глухомань? Что это за постановка вопроса – совать нос в семейные дела?
– Ишь ты, волчьи глаза морозу не боятся!
– Проходимец ты!
– Да чего мужики-то смотрят! Дать ему по шее, чтобы комом летел аж до самой тещи!
– А там еще теща добавит, чтобы прямым сообщением вылетел за Байкал!
Ребята из общежития стояли в сторонке, и Арсалан счастливым голосом приговаривал, приседая и хлопая по коленям:
– Ай, хорошо критикуют! Лучше всякого собрания! Прижали хвост!
– Попрошу не преграждать путь. Разговор исчерпан. Больно зубастые стали, – огрызнулся Лоскутов, пробрался через толпу и решительно зашагал в лес.
– Эй, медведь, однако, задерет! – пронзительно крикнул Арсалан и, вложив два пальца в рот, переливчато засвистел.
– Нищему пожар не страшен. Надел суму – перешел в другую деревню, – проговорил старик Лапшов. Он возвращался с охоты: на плече висело ружье, на поясе – утка.
Семен слушал эти крики задумчиво. И Лоскутов и Клаша были ему сейчас безразличны. Другое волновало его. Он чувствовал, как в душе росла теплота к этим женщинам, к этим трактористам, шоферам, сучкорубам. И опять, как тогда от березы и тишины, от звезд и костров, в душу входили покой и сила. И как-то слились для него в одно и эти люди, и та ночь на грузовике, и песня Алеши Сарафанникова, и охотник с вислоухой собакой. Семен стоял и смотрел на всех доверчиво.
– Ну вот, – сказал Лапшов. – Дрянь-то, она ведь и по чистой реке плывет. А ты, парень, всех под одну гребенку. Гуси и те не в одно перо родятся.
1955
Двое ночью
Алексей Алексеевич выскочил в темные сени и прижал руку к груди. Светилось золотое сердечко замочной скважины, доносился тоненький голос шестилетней Олюшки. Она пела для гостей:
Лобзай меня: твои лобзанья
Мне слаще мира и вина.
«Глупые, глупые, чему обучили ребенка», – рассердился Алексей Алексеевич.
Непогода заглушила детский голосок.
О дощатые стены стукал какой-то мусор, песок, хлопали ветви. Пахло из кадки солеными огурцами.
Дверь распахнулась, и в сени хлынули свет, шум, хохот, а когда она закрылась, все оборвалось, мгновенно стихло.
В темноте, шелестя и смутно белея платьем, к Алексею Алексеевичу бросилась Соня. Она ласково обхватила его за шею полными руками, горячо зашептала:
– Подожди, папа, я еще хочу попрощаться с тобой!
Ее поцелуй пах духами и вином.
Соня никогда не стеснялась ласки. Уже двадцатилетней, она могла сесть на колени к отцу. Сказав «доброе утро» или «спокойной ночи», она целовала его.
– Тебе хорошо было сегодня? – встревоженно шепнула Соня.
– Хорошо, а как же? – шепнул и он.
– А почему ты грустный? Я ведь все, все вижу, хоть и темно. Я словно кошка.
– Нет, нет, что ты, Сонюшка, нет, – его рука утонула в пышных волосах дочери.
– Ты любишь меня? Ты не разлюбил?
– Конечно же, конечно же люблю!
– И я тебя очень, очень… А я, дуреха, совсем пьяная! Ой, какая я пьяная!
Алексей Алексеевич, не видя в темноте, представил румяное лицо дочери. Доверчивые серые глаза и рука его, гладившая мягкие волосы Сони, мелко задрожала.
– Не надо, папа! Успокойся! Не надо! – заволновалась Соня. – Я знаю, я знаю – тебе будет скучно жить одному. Не скрывай! Но мы же каждый день можем встречаться. А как только захочешь – сразу переедешь к нам. Ведь я по-прежнему твоя дочь. Ведь я ничего плохого не делаю. Правда? Иначе же я не могу!
Алексей Алексеевич поспешил выйти на улицу. Ветер сразу же вцепился в полы пальто, в брюки, тащил их.
Алексей Алексеевич покусывал пляшущие губы.
А в сенях в темноте плакала Соня. Ей казалось, что она обманула отца, обидела его.
Оба стремительные, порывистые, горячие, они так были схожи, что без слов понимали и чувствовали друг друга.
Так одиноко и горько Алексею Алексеевичу было только в тот день, когда умерла его жена. Он тогда остался с Соней.
После этого они прожили вдвоем душа в душу семь лет.
По утрам вместе занимались физзарядкой, вместе готовили обед, а вечером вместе катались на катке в одинаковых черных костюмах, в одинаковых белых шапочках.
Но вот сегодня, в последнюю перед снегом ледяную ночь, Алексей Алексеевич остался один.
И все никак не мог он смириться с тем, что его дочь, частицу его жизни, вдруг забрал чужой человек. И даже фамилию ей переменил.
Получилось так, что у него, Алексея Алексеевича Макушина, никогда будто и не было дочери. И не носил он ее на руках, и не катался он с ней на катке.
И еще сделалось горько потому, что он, когда-то красивый, молодой, мечтавший о блистательной жизни, в эту ночь, когда шумела свадьба дочери, внезапно понял, что нет уже молодости, нет красоты и что ни одна мечта не исполнилась и что все пронеслось мгновенно.
Еще школьником мечтал он стать архитектором. По фотографиям и рисункам изучал неповторимые соборы и дворцы Италии, Греции, Франции.
Но, видно, мало одного института. Так и не удалось Алексею Алексеевичу создать хотя бы одно здание, которое бы удивило людей. Должно быть, не хватало таланта. Все получались скучные, унылые коробки.
Последняя ноябрьская ночь наводила жуть. Из кромешной тьмы дул резкий, леденящий ветер. Это из полей доносилось дыхание вплотную подошедшей зимы. Свистели голые безгнездые березы. В черных, будто погибших, обгорелых скверах и садах было пустынно. Ветки обледенели, и корка, ломаясь от качания, потрескивала.
Ветки были похожи то на оленьи рога, то на лапы птиц, которые наследили в воздухе.
Толстый слой афиш, налепленных друг на друга, наполовину отвалился сверху, трещал и хлопал о забор.
Каблуки стучали по застывшей земле.
В каменно-твердых колеях белела мука от размолотых колесами льдинок. Ветер выдувал ее, сек по ботинкам. Узенький месяц сверкал, точно оскаленные зубы.
Алексей Алексеевич, сухонький, небольшой, бежал по улице.
Руки его окоченели.
Что-то древнее, дикое чудилось ему в этой ледяной полночи. Словно вечная тьма, захлестнув землю, погасила солнце, жизнь.
Всего лишь три дня назад Алексей Алексеевич провожал в последний путь соседа по квартире Петю Юматова.
Он первый год работал инженером на стройке пятиэтажного дома. Случилось нелепое: Петя сорвался с лесов.
Алексей Алексеевич шел за гробом, держа под руку мать Пети Надежду Сергеевну. Ветер трепал ее седые, кудрявые, по-мужски подстриженные волосы. Надежда Сергеевна смотрела поверх гроба, который несли строители. По алому небу над кладбищем плыли синие тучи. Крупная, полная, она шла твердо, величаво, думая свою длинную, горькую думу. И только когда между голыми пятнистыми березами стали засыпать сына, лицо ее облилось слезами. Она жадно хватала воздух и все никак не могла ни передохнуть, ни крикнуть.
…Алексеи Алексеевич сегодня все утро думал: приглашать на свадьбу Надежду Сергеевну или не приглашать?
Соня училась у нее в 9 и 10-м классах. Да и жили соседями уже давно. Двери выходили в один коридор. Не пригласить Надежду Сергеевну нельзя, и в то же время, как ей сидеть на свадьбе через два дня после похорон?
Алексей Алексеевич мучился весь день и наконец все же пошел к соседке. Поговорив о том о сем, он осторожно спросил, тронув ее за руку:
– А вы, может, пойдете со мной к Соне на свадьбу? А? Пойдемте? Посидим… вспомним наше время…
Надежда Сергеевна пригладила седые кудряшки, хрустнула пальцами.
– Если, конечно, можете, – торопливо добавил Алексей Алексеевич.
– Спасибо. Я уж дома… Куда мне…
Она сняла с руки золотые часы:
– Передайте мой подарок Сонюшке. Счастья бы ей побольше и… долгой жизни…
А сейчас, подходя к дому, Алексей Алексеевич подумал, что все-таки нужно было уговорить Надежду Сергеевну. Ей, конечно, стало бы легче среди людей.
Надежда Сергеевна еще не спала. Дверь ее комнаты была открыта, и в темный теплый коридор падала полоса света. На стене мурлыкал черный счетчик. На коврике у дверей спал Петин пудель. Лохматая морда его походила на огромную махровую астру. Нос торчал сердечком цветка.
Надежда Сергеевна силой заставляла себя проверять тетради. Ей казалось – еще минута, еще только один маленький поворот колка, и в душе ее лопнет до предела натянутая струнка, и тогда она вскочит, закричит, упадет. Такой безысходной тоски, обжигающей все существо, она еще не испытывала.
Да как же такое могло случиться с Петей? Как же так могло случиться, чтобы к старости остаться ей без единого родного человека? А сколько милых, дорогих людей всегда окружало ее! Она росла в Москве, в большой дружной семье. Тишина царила только в кабинете отца – известного профессора химии, а в остальных комнатах шумела молодежь, звучали смех и музыка. У профессора было два сына и две дочери, да еще приходили к ним друзья и подруги.
Когда Наденьке отметили десять лет со дня ее рожденья, грянула революция.
С того дня прошло сорок лет. Время выкосило всю семью профессора. От первого взмаха косы упала мать Надежды Сергеевны, потом сестра – художница Римма, за ними отец. Во время войны с фашистами погибли оба брата. А в самом Берлине за день до конца войны убили мужа, хирурга, в госпитале. И вот теперь Петя…
Как сейчас жить ей, если все в прошлом, если память наполнена только дорогими призраками? А ведь ей уже пятьдесят, в эти годы трудно жить одними воспоминаниями.
Не выдержала Надежда Сергеевна, тяжело поднялась, дубовый резной стул загремел, опрокинулся.
Алексей Алексеевич стоял в дверях, потирая озябшие руки. Он был в зимнем пальто и в меховой шапке.
Надежда Сергеевна зажмурилась, сжала кулаки, потом заставила себя улыбнуться:
– Заходите, Алексей Алексеевич.
Сдергивая шапку, пальто, он суетливо бросился к вешалке. Ее заменяли рога лося, похожие на огромные, многопалые ладони.
– Посидите со мной. Крепким чаем угощу. Как вечер прошел? – рассеянно-отрывисто спросила Надежда Сергеевна, поднимая стул.
– Хорошо! Великолепно! Очень жаль, что вас не было! Жаль, жаль!
Алексей Алексеевич подсел к столу, чувствуя себя неловко в новом костюме, в новых коричневых туфлях. Все потирая озябшие руки, он оглядел комнату, забитую дорогими, старинными вещами, вазами, статуэтками, увешанную коврами, картинами и портретами родных. Эти остатки из обширного профессорского дома пахли девятнадцатым веком.
Петина кровать была тщательно застлана, и на спинке ее висели выглаженные брюки.
Алексей Алексеевич старался скрыть, что ему бесконечно грустно и одиноко, что он сейчас боится своей пустой квартиры и в эту ночь не знает, зачем ему жить.
– Давайте чаек, где он у вас? А? Где? – бодро воскликнул Алексей Алексеевич, двигая к столу тяжелое, потемневшее от времени кресло. – А ночь-то какая, беда! Стужа, тьма, ветер. А у вас хорошо. Да! Вокруг теплой души всегда уютно. Вот именно, уютно!
Голос его дрогнул.
Надежда Сергеевна внимательно посмотрела на него и стала уверять:
– Вот Сонечка теперь свое гнездышко совьет. И у нее будет вам тепло и хорошо. Еще не раз скажет она вам спасибо за то, что вы ее вырастили. Дочь у вас… и свадьба… Это хорошо. Радуйтесь! – по горлу ее пробежала судорога, ресницы задрожали.
Алексей Алексеевич без нужды передвигал с места на место серебряные щипчики для сахара.
– Нет, что вы! Что вы! Это она вам скажет спасибо! Вам! Да! – воскликнул он. – Это вы ее учили, воспитали. Много у вас по всей стране таких дочерей да сынов! Много, много!
Надежда Сергеевна разливала янтарный чай. Над черными чашечками в золотых цветах клубился пар.
– Да, всякое бывает в жизни, всякое, – задумчиво продолжал Алексей Алексеевич. – Иногда и не поймешь, кто твой отец. То ли тот, кто родил, то ли тот, кто воспитал. Помню один ледяной вечер. Матери не было дома – она уехала в деревню к родным. Помню, отец подшивал валенки. А младший братишка мой, Вася, играл, И вдруг нечаянно толкнул посудный шкаф. Он был высокий, узенький, неустойчивый. Шкаф грохнулся – и вся посуда вдребезги! Отец бросился на мальчишку и пинком его, пинком! У меня в глазах потемнело: «Не тронь!»
Отец бросился на меня. По полу на осколках посуды катались. В крови оба. Мне тогда было шестнадцать, нет, вру, семнадцать лет. А потом всего избитого, в одной рубашке выкинул отец меня в сорокаградусный мороз. Плюнул я на дверь отчего дома и ушел навсегда. Ушел!
Ненавидели мы друг друга. Отец был лавочник, а я комсомолец.
Пришел я в комсомольскую ячейку и говорю: «Ребята, я из классовой схватки вышел раненым!» Они из рук, из коленок, из спины осколки стекол выковыривают, кровь ручейками течет, а я тру отмороженную щеку и смеюсь. Молодость! Она всегда смелая, всегда сильная! Никогда не падает духом, всем бедам в лицо смеется. Смеется всем бедам! Нельзя нам забывать о молодости!
Алексей Алексеевич вглядывался в Надежду Сергеевну и старался говорить как можно бодрее.
– Сколько раз казалось, что солнце погасло навеки, что ночь в моей жизни навеки. Вам не скучно?
– Нет, нет, рассказывайте!
– Встретил я однажды в Москве девушку-художницу. Учился я тогда на архитектурном, а она в академии художеств. Высокая, крупная, но несмотря на это – изящная, грациозная. Именно грациозная! Взгляну на ее лицо, и в глазах мутится. Молодость! Она была из старорусской, интеллигентной семьи. По сравнению со мной аристократка. Да! Но и она немного любила меня. Дело прошлое, сознаюсь: однажды мы весь вечер целовались на катке, и я был уверен, что это навеки! Поцелуй мне казался тогда священным. Наивность! Уж если позволила девушка поцеловать себя – значит, она выйдет за тебя замуж. Так я думал. И она – вышла… только не за меня… нет… А за какого-то военного инженера. Мне казалось – солнце погасло, жизни конец. А потом ничего – снова солнце взошло, жизнь закипела. Нельзя раскисать. У каждого из нас перед людьми большие обязанности! А как же!
Надежда Сергеевна слушала уже внимательно и даже заинтересованно.
– А как звали ту художницу? – спросила она.
– Римма. Риммочка Селиверстова. Это была дочка известного профессора. Умерла она.
У Надежды Сергеевны еще черные, красивые брови поднялись и лицо не то что зарумянилось, а ровно бы посветлело, посвежело.
Она вдруг легко поднялась, вытащила из комода альбом, в корочках из зеленого сафьяна с медными застежками, полистала и наконец молча положила перед Алексеем Алексеевичем. На него смотрело улыбающееся, с ямками, полное лицо большеглазой девушки.
Алексей Алексеевич взволнованно склонился над фотографией, потом изумленно глянул на Надежду Сергеевну и снова схватил альбом.
– Почему ее портрет у вас? – тихо спросил он, не поднимая головы.
– Голубчик, она сестра моя, – просто ответила Надежда Сергеевна и улыбнулась.
– Как сестра? То есть как? – еще больше изумился Алексей Алексеевич.
– Очень просто. Моя девичья фамилия Селиверстова.
Алексей Алексеевич быстро поднял голову, изучающе уставился в лицо Надежды Сергеевны.
– Как же я мог раньше не разглядеть? Да ведь вы же почти копия! – пробормотал он, почесывая на затылке лохматые светлые волосы. – Как же так это… боже мой… какие возможные встречи. Как же так?
Он бережно взял крупную руку Надежды Сергеевны и почтительно поцеловал.
Надежда Сергеевна, улыбаясь, погладила его лысеющую со лба голову. И вдруг ее наполнила теплота к этому человеку, словно он был родной ей, словно с ним была ее семья, ее прошлое. Она принялась рассказывать о Римме, о ее жизни, о своем отце.
Алексей Алексеевич ловил каждое слово, торопливо задавал вопросы.
Надежда Сергеевна увлеклась воспоминаниями и ощутила, что ей делается легче. Она заметила рассыпанные тетради, сложила их, увидела сморщенную скатерть и одернула ее, вспомнила про вишневое варенье и принесла его.
Она снова развернула массивный альбом, заполненный фотографиями.
– Вот сколько их жило. А теперь… – Надежда Сергеевна махнула рукой. – Вот это отец!
Алексей Алексеевич разглядывал старика с бугристым лбом, с проницательными глазами, с гривой волос до плеч. Седая эспаньолка росла от самой губы.
– А вот мама. – Надежда Сергеевна перелистнула картонный лист.
Алексей Алексеевич увидел седую красавицу, затянутую в корсет, в белом старинном платье до пола.
Пошли родственники: мужчины в офицерских мундирах с эполетами, генералы с бакенбардами, женщины в бальных платьях со шлейфами.
Надежда Сергеевна подробно рассказывала обо всех.
А вот и она, Наденька. Вот ребенком на коленях у матери, вот гимназисточка в белом фартучке с косами до колен, а вот она студентка в комсомольской гимнастерке, с коротко остриженными волосами.
– Тогда было модно у молодежи – презирать цветы, наряды, романсы. Вы же помните это время. Мы смеялись над любовью, над тургеневскими барышнями. Я жила в холодном общежитии – хотя могла жить у мамы. Но я боялась, что меня посчитают белоручкой. Ходила на воскресники, читала Маркса и распевала: «Смело мы в бой пойдем». Старомодная мама смотрела на меня испуганно, а отец с любопытством. Он, помню, всегда говорил: «Одичало новое поколение! Но, как все дикари, они полны несокрушимой энергии!»
Надежда Сергеевна оживилась.
– А теперь вот какая стала! – она открыла лист со своим последним фотоснимком. Седая, величавая, точь-в-точь как ее мать.
– Ну, а как Сонечка устроилась? – спросила Надежда Сергеевна.
Алексей Алексеевич принялся описывать дом, жениха, гостей.
Неожиданно из тьмы в окно сильно и густо повалил снег. Это наконец-то к дому подошла так долго плутавшая по полям зима. Увидев серый, черный некрасивый город, она, как заботливая хозяйка, принялась украшать его белым, пушистым. Не успел Алексей Алексеевич удивиться, как черное окно перед ним стало нарядным, зима завесила его с улицы плюшевой шторой.
Алексей Алексеевич вспомнил, как в детстве всегда ждал первого снега и как радовался этому снегу, его белизне, его запаху. И это воспоминание разбудило в душе что-то далекое – смутное ощущение особенной чистоты, радости, легкого светлого волнения. Он завозился в кресле, отхлебнул чаю и впервые за много дней с удовольствием вспомнил о катке.
И уже показалось ему, что ничего страшного не произошло, что не могла же Соня оставаться вечно с ним, и что он исполнил свой долг и теперь вольный казак.
И действительно, ему, пожалуй, нужно радоваться. Дети уходят из дома – это естественно. А вот у Надежды Сергеевны настоящее горе: потерять сына – это не дочь выдать замуж.
Надежда Сергеевна искоса, незаметно бросала взгляды на него.
А Алексей Алексеевич в это время думал о том, что если наперекор всему он в эту зиму не станет ходить на каток, то это будет значить, что старость одолела его. Сквозь эти мысли он слышал:
– Я сейчас вспоминаю… да, да, конечно же, Римма тогда говорила мне по секрету, что в нее влюблен какой-то архитектор. Постойте, голубчик, теперь я вспоминаю ясно! И это было определенно в ту ночь после катка, когда вы там, бессовестные, целовались. Я помню: она прибежала возбужденная, с коньками в руках, и сразу же бросилась ко мне, и мы с ней шептались!
Алексей Алексеевич заметил, что движения у соседки стали, как прежде, уверенно-плавные. Он почему-то заговорил громче, зазвенел ложечкой, загремел стаканом. Он с удовольствием ел варенье, хвалил его.
Снег уже совсем залепил окно.
И в этом было что-то из детства, связанное с елкой, с санками. И еще отец привозил замороженный, каменный хлеб и говорил: «Это прислал тебе заяц. Под елкой в снегу оставил». Маленький Алеша грыз его. От хлеба ныли зубы, пахло стужей, и не было на свете ничего вкусней его.
Вот это счастливо-радостное замирание сердца при виде зимы утрачено уже навеки. Только иногда, словно эхо, донесется из прошлого…
– Ну, вот и зимушка-зима прикатила, – проговорил Алексей Алексеевич, уютно закуривая. – А чего это у вас покривилась вешалка для полотенца? – поднялся он. – Где молоток?
– Да что вы, голубчик, я сама!
– Давайте, давайте!
Алексей Алексеевич, держа во рту гвоздь, застучал молотком.
Было уже три часа утра. Снег все валил и валил. А по коридору разносился резкий стук молотка. Пудель проснулся и, подняв свою морду-астру, удивленно смотрел на людей, помахивая хвостом-метелкой.
– Батюшки, где это вы испачкались? – Надежда Сергеевна взяла щетку и стала счищать со спины пятна известки.
Алексей Алексеевич опять бережно поцеловал ее руку.
– Теперь мы с вами вроде как родные. Ах, заболтался я тут у вас. На земле сейчас пахнет снегом: А от Риммы Сергеевны всегда почему-то пахло вербеной.
– Это у нее были любимые духи, – улыбнулась Надежда Сергеевна. – Спокойной ночи, дорогой мой!
Когда Алексей Алексеевич лег в заскрипевшую кровать, комната не показалась ему холодной и пустой.
Он вспомнил ожившие глаза Надежды Сергеевны, ее сильные движения и радовался.
И хоть он в жизни никогда не встречал художницу Римму, а знал о ней лишь от Сони, которая не раз приносила альбом Надежды Сергеевны домой, на душе у него все же стало молодо и легко, точно действительно его любила красавица и он любил ее.
Надежда Сергеевна стояла на крыльце, накинув на голову и плечи пуховый белый платок.
Домовитая зимушка-зима все хлопотала. Она щедро сыпала свои самые большие, самые чистые и самые белые хлопья. И земля уже стала нерукотворной, белой, пушистой, доброй, как этот платок на плечах. А платок казался снегом, упавшим на голову и плечи. Снег все освещал. И на озаренной им земле стало тихо, тепло.
Несмотря на поздний час, издали доносились песни и хохот.
И мнилось Надежде Сергеевне: не то кто-то, улыбаясь, стоит за ее спиной, не то кто-то ждет в пустой комнате.
А снег все падал, падал и падал.
1956