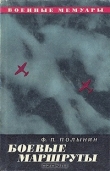Текст книги "Листопад в декабре. Рассказы и миниатюры"
Автор книги: Илья Лавров
сообщить о нарушении
Текущая страница: 23 (всего у книги 32 страниц)
Появилась старуха, по пояс укутанная поверх пальто старинной клетчатой шалью, похожей на плед, и Ольга Анатольевна начала рассказывать ей о случившемся и о том, какая была Лада и как с ней легче было ночами.
Тут еще подошли две молодых женщины, а затем мужчина, и она все рассказывала и выслушивала советы и наконец опять пошла между домами, растрепанная, с выбившимися из-под шапочки седеющими прядками.
– Ты, гляди-ко, убивается по собаке ровно по ребенку, – всплеснула старуха руками в варежках собственной вязки. – С жиру бесится! Видно, делать-то нечего! – Глаза старухи горели радостным безумием сплетницы.
– Тебе это, бабка, не понять, – строго оборвал ее мужчина. – А я – охотник, я понимаю. К собаке знаешь как привыкают?
Ольга Анатольевна обошла все соседние кварталы, заглядывала в калитки, в щели заборов.
– Лада, Лада!
Посыпался мелкий снежок, освежил почерневшие сугробы; в его белой дымке дома стали расплывчатыми, смутными.
Муж, конечно, уже на работе, дочка собирается в школу. Наверное, потеряли ее, Ольгу Анатольевну. Голова болела, губы зашершавились, ноги едва передвигались.
«А вдруг Ладка дома?! Могла же она убежать домой? – Эта мысль так и опахнула жаром, вернула силы. – Я бегаю, старая дура, а она давно уже дома, грызет мою туфлю, носится по комнатам, болтая ушами!»
Ольга Анатольевна тяжело взбежала по лестнице на третий этаж, распахнула дверь, ввалилась в нее и выкрикнула, испугав Милочку:
– Лада… прибежала?! Дома… Лада?!
– Нет ее, – ответила Мила, еще ничего не понимая.
– Потерялась Лада! Украли, доченька, нашу Ладу, – едва выговорила Ольга Анатольевна.
Круглое, нежное до прозрачности личико Милы залилось жарким румянцем, пухлые губы, легко очерченные, надломленные в середине бровки и даже два толстых хвостика волос, перехваченных лиловыми ленточками, мелко-мелко задрожали, и из чуть раскосых узких глаз покатились слезы. Милочка тут же оделась и побежала на улицу. Она звала и кричала между домами, и вместе с ней бегали мальчишки и девчонки.
А Ольга Анатольевна взяла у соседки машинку и, даже не сняв дошку и шапочку, села печатать объявления о пропаже собаки. Она сообщала ее приметы, свой адрес и телефон. Ольга Анатольевна путалась, делала ошибки, порой забывала, что нужно печатать, и заглядывала в уже готовые листочки.
Расстроенная Милочка, не поев, ушла в школу, а Ольга Анатольевна все печатала, неумело тыкая одним пальцем, подолгу отыскивая нужную букву. Наконец она отпечатала сто объявлений, взяла клей в пузырьке с соской и вышла из дома.
День был сумеречный, припахивающий мылом, полный снежных вихрей.
Ольга Анатольевна приклеивала полоски бумаги к заборам, к стенам домов, к дверям столовых и магазинов. Когда магазинные двери распахивались, из них густо несло теплом и запахом маринованной селедки. Ветер комкал и трепал листочки в руке Ольги Анатольевны.
Клей на морозе перестал вытекать через маленькую дырочку, и тогда она в отчаянии откусила копчик соски. Теперь из нее лилось слишком обильно, и ветер шлепал бумажными полосками по ее руке, приклеивал их к пальцам. Липкие, испачканные клеем руки покраснели, мерзли, пальцы едва гнулись.
Ольга Анатольевна села в трамвай и поехала к базару. И в трамвае она рассказывала о случившемся, и все сочувствовали ей и утешали:
– Ничего, может, еще найдется!
– У моего соседа два месяца пропадал пес, а потом заявился!
Ольге Анатольевне казалось, что все переживают вместе с ней. Наклеив несколько объявлений на зеленом заборе вокруг базара, она села в автобус и поехала почему-то к вокзалу. И в автобусе она тоже рассказывала:
– Какая была собака! Если бы вы видели! И у кого только поднялась рука… – говорила она уже просто и устало; обычная для нее несколько театральная темпераментность исчезла.
Говорливость и чрезмерная общительность были свойством Ольги Анатольевны. Даже в трамваях, в автобусах, на базаре и в магазинах затевала она с людьми разговоры, шутила и громко смеялась, как с добрыми знакомыми. И все люди казались ей душевными и славными.
Расклеив объявления, она еще раз обошла ближайшие кварталы и притащилась домой уже к вечеру совсем измученная…
Пришел муж. Когда-то кудрявый, а теперь полысевший, когда-то спортивно-поджарый, а теперь благодушно-полный, он почти на все смотрел с иронической усмешкой, но эта ирония была мягкая, ласковая, не обидная. Просто он был чужд всяких там глубоких переживаний и ко всему относился шутливо, однако умел понять другого и не обидеть его.
Узнав от жены о том, что случилось, он осторожно стал успокаивать ее, стараясь дать почувствовать, что не так уж велико горе и не стоит так убиваться.
Прибежала Милочка и, едва переступив порог, закричала:
– Нашлась Лада?
Пообедали кое-как сыром да колбасой: Ольга Анатольевна ничего не приготовила. Но Владимиру Сергеевичу и Милочке к этому было не привыкать. При безалаберности хозяйки частенько не оказывалось к обеду то хлеба, то соли, зато рядом со щами на столе мог красоваться торт.
– Наша маман в своем репертуаре, – иронически замечал Владимир Сергеевич. Подобные несуразности жены его веселили.
У нее часто портились забытые в шкафу продукты, а из кухни иногда тянуло гарью и синим дымком: это сбегало забытое молоко или уплывали щи, а то превращалось в уголь жаркое или сухари в духовке…
Ольга Анатольевна прилегла на кровать в своей диковинно-свекольной комнате, укрылась дошкой и лежала, будто успокоившись, только лицо ее горело, да вся она мелко дрожала от озноба – перемерзла за день.
Было уже восемь вечера, когда тишину квартиры пронизал внезапный звонок. Ольга Анатольевна отшвырнула дошку, бросилась к телефону.
– Это у вас пропала собака? – спросил низкий, бархатный голос.
– Да! Да! – закричала Ольга Анатольевна, и перед глазами ее заклубилась какая-то серая копоть.
– Спаниель?
– Да! Да!
– Серый с черными пятнами?
– Да! Да!
– Так вот, волею судеб, ваша собака у меня. Вот она лежит у ног. Ну, подай голос хозяйке! Погавкай! Лень? – по-доброму засмеялся говоривший. – Она еще утром увязалась за мной.
– О, боже мой! Какое счастье! Спасибо вам, спасибо, что вы ее подобрали, что позвонили! Я прямо не знаю, как и отблагодарить вас! – кричала Ольга Анатольевна, схватившись за трубку обеими руками.
Ликующая Милочка, в синих брючках, в красном свитере, прыгала рядом, смеялась, шептала:
– Адрес, адрес! Фамилию спроси, фамилию!
– А где вы живете?! Где живете?! – кричала Ольга Анатольевна.
– Минуточку, минуточку… – успокаивающе зазвучал ласковый голос. – Дело в том, что ваша собака оказалась невоспитанной, она все-таки хотела куснуть меня и вот – порвала брюки. Теперь вопрос: кто же мне за них заплатит?
– Ой, да что вы! – Ольга Анатольевна замахала рукой. – Сколько вы скажете, столько я и заплачу! Даже и не беспокойтесь!
Милочка прибежала с карандашом, с бумажкой.
– Вы только скажите, куда мне прийти! Я сейчас же приеду! Немедленно! Так… Проспект Дзержинского… – Ольга Анатольевна судорожным жестом показала дочери: «Пиши». – Сорок два? Квартира семнадцать? Кириллов? Ну вот и хорошо. Спасибо вам! Я сегодня весь день так мучилась, бегала, искала. Спасибо вам, тысячу раз спасибо. Вовеки не забуду этого. Я сейчас же, сейчас же еду!
Ольга Анатольевна заметалась, хватая дошку, шапочку, поводок. Мужа, как на грех, не было, он ушел за папиросами, и она бросилась к соседям за деньгами – нужно же оплатить порванные брюки.
– Ой, мамочка, скорее! – кричала Мила. – Ура! Ладка нашлась! – И ее круглое лицо с чуть раскосыми глазами стало красным, как свитер.
Когда Владимир Сергеевич пришел и все узнал от Милы, он с теплотой подумал об этом позвонившем человеке. Хоть Владимир Сергеевич и не видел великой беды в пропаже собаки, ему было жаль жену, как бывает жаль ребенка, потерявшего любимую игрушку.
– Надо было подождать, я бы с ней пошел, – сказал он. – А то ведь темнота. И мороз. А ехать далеко. Мамка, поди, сама не своя?
– Ой, она как заметалась, закричала, забегала!
Владимир Сергеевич ласково усмехнулся. Много было недостатков у жены – и говорливая она, и не хозяйка, и слишком любвеобильна к животным и птицам, и по-актерски чрезмерна в проявлении своих чувств, но все это он прощал ей за душевность и искренность. Она шла к людям доверчиво, с открытой душой, и никогда у нее не было расчета, лицемерия, зла или зависти. Никому и никогда не портил жизнь этот чудаковатый человек.
А как она любит жить!
Случится какое-нибудь горе, поплачет-поплачет и вдруг встряхнется, обеими ладонями смахнет слезы со щек и скажет: «И все-таки хорошо жить! Пусть трудно, пусть по-всякому, но все равно хорошо!»
Она переживала наступление старости и все же подбадривала себя и Владимира Сергеевича: «Да что мы приуныли? Подумаешь – сорок! Да это же самый расцвет. Вот полсотни – это другое дело!» Прошло время, и она опять воскликнула: «Подумаешь – полвека! Это же самая зрелость. Опыт, ум. Вот шестьдесят – это не шутка!»
Владимир Сергеевич уселся у телевизора в яично-желтой комнате, а Милочка в соседней занялась уроками.
Эта желтая комната была загромождена большущей черной ширмой, над которой возвышался пестрый, сказочный терем-теремок, выпиленный из фанеры. Стол был завален грудой кукол, из нее торчали морда медведя, лапы волка, хвост лисы, высовывались лягушка и мышка-норушка. Куклы, всякий реквизит, части декораций валялись и на полу, и на серванте, и даже на телевизоре.
Ольга Анатольевна организовала в Милочкиной школе театр кукол. Вчера здесь шла репетиция, комнату заполняла толпа орущей ребятни, которая восторженно гонялась за Ладой. В коридоре зеленого цвета прямо на полу была навалена гора шапок, пальтишек, портфелей, ранцев, к стене прислонилось множество красных и синих лыж – в этот день Милочкин класс делал вылазку в рощу.
Ловкая Лада шныряла между ранцами, чуя в них бутерброды и конфеты. И уж если ранец был не закрыт, она расправлялась с ними.
Владимир Сергеевич только иронически гмыкал, но не сердился. Он чувствовал, что жена тоскует о театре, и понимал, что эта возня с ребятами как-то утешает ее. А так ли уж долго живет человек и много ли у него радостей? Так зачем же лишать его этих радостей? Да и, пожалуй, без всего этого ералаша, без фантазий жены жизнь его, Владимира Сергеевича, была бы намного скучнее.
На экране телевизора за столом сидел председатель колхоза и рассказывал о заготовке кормов для скота. Особенно умилял Владимира Сергеевича работник телевидения, который вел беседу. Этакий лысый, толстый, низенький дядя! Он явно считал себя знатоком сельского хозяйства и поэтому с глубокомысленным видом задавал председателю наводящие вопросы, иногда поучающе поправлял его и спорил с ним. Он изрекал истины, колхозникам давно известные, а городским людям ненужные…
Прошел час. Наверное, Ольга, сама не своя от радости, уже едет в трамвае с Ладой на поводке и всем рассказывает о случившемся. Владимир Сергеевич иронически изогнул правую лохматую бровь, завозился на стуле, закурил. Он даже не расстроился, когда после беседы о коровьих кормах начали показывать киноочерк о новых методах погрузки труб на железнодорожные платформы…
Через некоторое время Владимир Сергеевич начал тревожно поглядывать на часы.
– Чего это наша мамка загуляла? – подумал он вслух. – Пора бы ей вспомнить о нас!
В голове забродили разные пугающие мысли. Куда она пошла? К кому? В чей дом? Мало ли что может случиться! Уже поздно. Всякие люди бывают.
Владимир Сергеевич попробовал ходить из угла в угол, но ширма, груды всякой кукольной рухляди встали на его пути. Чуткой Милочке мгновенно передалась его тревога: она испуганно смотрела на отца. А Владимир Сергеевич вспомнил давнишнюю историю, как у знакомого художника исчезла жена. Так же вот ушла куда-то вечером и пропала.
Владимир Сергеевич мотался по загроможденной комнате и то без нужды причесывался, то смотрел в черное окно, то брал книгу или рылся в куклах, надевал на руку всяких зверушек.
– Какой адрес? Адрес ты какой записывала? – допытывался он у Милы. Но она помнила только проспект Дзержинского, и все. – Что же такое? Где она замешкалась? С ней вечно что-нибудь случается. Еще под машину угодит. В милицию, что ли, позвонить? – Владимир Сергеевич иронически изогнул бровь: «Дескать, сбежала жена с молодым донжуаном!»
Уже было одиннадцать, когда он начал одеваться.
– Потащусь к трамвайной остановке!
– И я с тобой! – воскликнула Мила, хватая пальтецо.
Ледяная, ветреная улица была усыпана огнями. На аптеке огненная змея обвилась вокруг ножки пылающей чаши, заглядывала в нее, на гастрономе, на кафе, на столовой горели фиолетовые, зеленые, красные буквы. Около безлюдной остановки в полустеклянном пустом киоске почему-то пылала лампочка. Журналы, книги, портретики киноартистов, коробки со значками и почтовыми марками, выставляемые днем на обозрение, сейчас были уложены на прилавке стопками и закрыты газетами.
Потрескивала, похрустывала угрюмая сибирская ночь, когда уже в одиннадцать всякая жизнь на улицах замирает. Из центра шли полупустые трамваи, убегали к березовой роще на месте бывшего кладбища. А оттуда прибегали совсем пустые.
Ольги Анатольевны все не было. Пряча лицо в поднятый меховой воротник, Милочка тихонько плакала. У Владимира Сергеевича от предчувствия беды пропала вся ирония. Он уже совсем собрался звонить в милицию, когда из тьмы появилась Ольга Анатольевна. Она шла тяжело, медленно и как-то равнодушно. По темному от сажи снегу волочился зажимчик поводка.
– Что ты?! Где ты была?! Почему так долго?! – бросился к ней Владимир Сергеевич.
– А где Лада? Где Лада? – тормошила ее Милочка.
Ольга Анатольевна слабо и почему-то виновато улыбнулась:
– Обманули, доченька… Пошутили по телефону… Николай Кириллов в том доме не живет. Я обошла, наверное, домов десять… А дома огромные, пятиэтажные. Устала. Никто и ничего о Ладе не слышал… Пошутили. А я сошла на соседней остановке, думаю, а вдруг бегает здесь…
– Ладно, бог с ней, с Ладой! – облегченно проговорил Владимир Сергеевич. – Хоть ты-то, божья душа, цела-здорова. Ну, идемте, идемте домой. Все перемерзли. Чаю попьем.
– Кто же это?.. Как же это мог он обмануть? – с недоумением все спрашивала и спрашивала пораженная Милочка…
Свет погасили. Все улеглись. Ольга Анатольевна взглянула в окно. В черноте ночи дома пропали, виднелись только золотые окна. Так художники в театрах, чтобы показать на сцене город и уходящую вдаль улицу, устраивают из лампочек на черном бархате окна в несколько рядов, и чем дальше, тем окна становятся меньше и меньше и наконец начинают походить на золотые соты, а между несуществующими домами тянутся светящиеся нити – цепочки лампочек. И даже катятся зеленые, красные огоньки машин.
Ольга Анатольевна смотрела во тьму. За каким же окном находится сейчас Лада? Под чьей кроватью свернулась она калачиком, вздрагивает во сне и сиротливо поскуливает?
В голове туманилось, руки и ноги чугунно отяжелели. Ольга Анатольевна легла, и ей почудилось, что затрещавшая кровать готова рухнуть от ее тяжести. Она мгновенно забылась и тут же очнулась от какой-то смутной тревоги. Но это ей только показалось, что она очнулась тут же: на самом деле она спала уже часа три.
За окном в морозном, туманном мраке лаял пес. Лада! Ее голос! Молоденький, мальчишеский, задиристый!
Ольга Анатольевна вскочила, стряхнув с себя усталость, приникла к окну. В темноте смутно проступал противоположный дом с четырьмя огненными прерывистыми полосами, расчертившими его от крыши до земли, – это горели огни на лестницах подъездов. В окнах виднелись куски этих пустынно-печальных лестниц. Внизу смутно белел снег. Больше ничего не было видно.
Ольга Анатольевна открыла морозно затрещавшие двери на балкон. Седая стужа обдала ее. На балконе из сугроба торчала кадушка с соленой капустой, а на гвозде висела обросшая инеем сетка с продуктами.
Собака лаяла за соседним домом. Неужели Лада прибежала? А почему бы и нет? Или, может быть, ее тайком вывели гулять в этот поздний час?
Ольга Анатольевна, не зажигая света, торопливо оделась, схватила поводок и вышла. Оставляя на темном снегу белые следы-провалы, она прокралась среди кустов к соседнему дому. Глухо, пусто, мертво в эти три часа пополуночи. Трескучий мороз обжигал лицо. Казалось, в городе ничего нет живого, поэтому так тревожно и тоскливо лает собака. Ольга Анатольевна выбежала из-за дома и увидела возле мусорных железных ящиков темное пятно.
– Лада, Лада! – закричала она, бросаясь к собаке. Та метнулась от нее. Ольга Анатольевна остановилась, провела рукой по лицу, горестно смотрела на удиравшую черную собачонку.
Еще походила между домами, вглядываясь в туманную темноту, из которой проступали деревянные грибки с заваленными снегом песочницами, железные воротца качелей, длинные ледяные дорожки, что тянулись от дощатых горок, тоже покрытых сверху льдом, скамейки и узкие столики, заваленные снегом. Летней порой здесь не умолкая стучат костяшками домино.
Услышав глухой лай на другой стороне улицы, где жались деревянные дряхлые домишки, Ольга Анатольевна направилась туда. За ветхим забором не умолкал пес. Он, должно быть, сидел на цепи и от стужи, от неволи, от голода лаял и лаял. Ольга Анатольевна, провалившись по колена в снег, притаилась у забора, послушала. Нет, голос не Лады! И она заспешила домой, в темный уют квартиры с горячими батареями…
В воскресенье Ольга Анатольевна пошла на птичий базар. В городе ему не отвели место, и люди просто собирались в уголке березового парка. Еще недавно здесь было кладбище.
Среди берез, кутая шарфами лица, толпились люди. В клетках на снегу мерзли голуби, прыгали по жердочкам красногрудые снегири, серые чечетки, зеленые синицы. Из мешочков продавали для них маслянисто поблескивающее льняное и конопляное семя, которое не сыпалось из стаканов, а лилось. В корзинах сидели, шевеля носиками, кролики. Мальчишки таскали, закутав от холода, стеклянные банки с водой, в которых вспыхивали золотые и алые рыбки. Тут же на снегу рвались с поводков, дыбились и лаяли друг на друга собаки. Их лай гулко разносился по занесенной снегом роще, исполосованной глубокими лыжнями. За пазухами, в корзинах с тряпьем проносили задумчивых мордастых щенят.
Гладкоствольные березы, как сосны, только вверху разбрасывали ветви. Эти голенастые, высоченные березы упруго шатались под ветром, зябко шумели коричневыми вершинами.
Посиневшая на ветру Ольга Анатольевна протопталась здесь почти весь день, надеясь, что приведут и Ладу. Но ни одного спаниеля в этот день не было, и вообще не было хороших, породистых псов. Продавали только дворняг под видом лаек или овчарок, и лишь позднее привели ирландского сеттера да сибирскую гончую.
Ольга Анатольевна рассказывала любителям собак о Ладе, рассказывала многословно, доверчиво, горячо, со слезами. Люди сочувствовали ей и советовали купить другую собаку.
Она посмотрела, посмотрела на пляшущего сеттера, почувствовала, что не может изменить своей Ладе, и, разбитая, поплелась домой…
1968
Шумела Обь, текла
1
Когда белоснежный теплоход «Патрис Лумумба» медленно отваливал от пристани, Таня, схватившись за поручни, с тревогой смотрела на маму. Речной вокзал с середины Оби тоже походил на двухпалубный сине-белый пароход. Мама стояла у решетчатых перил, увешанных спасательными кругами. Словно и она уплывала, но только в другую сторону.
В темном платье, высокая, когда-то стройная, а теперь просто худая, она стояла отдельно от провожающих. Все сгрудились на одном конце, перегибались через перила, махая руками, платочками, шляпками, она стояла в стороне, одинокая, недвижная, охваченная думой… О чем?
«Папа умер… И вот теперь я уплываю бог знает куда… Одна остается… Стареет, и все для нее в прошлом. Чего теперь ждать ей? Об этом, наверное, она и думает», – решила Таня и умоляюще закричала: «Мама!» – и заплакала. Она уже готова была броситься с теплохода. Ей стало не по себе оттого, что свершалось. Она уходила в иную, неведомую жизнь. Что ее ожидает?
– Анна Максимовна! Ждите от нас телеграмму. И сразу же к нам. На свадьбу! Самолетом! – крикнул Николай и прощально поднял руку, а другой прижал к себе Таню.
Мама теперь, как и все, махала платком. Она уже, конечно, забыла о себе и думает только о ней, о Танюше…
Пустынная Обь перекипала золотом. Они стояли на палубе и смотрели, как по реке катились волны от их теплохода. Он был весь в светлых «зайцах». Солнечные блики текли по стенам кают, по палубе, по бортам, по фигурам пассажиров. Солнце слепящим пятном бежало рядом.
Широкая Обь часто разветвлялась на несколько рукавов, образуя уютные острова и тихие протоки. В теплой воде булькала рыбешка, вспыхивали солнечные молнии, пересыпалась золотая чешуя бликов, носились чайки. С глинистых бережков в зеленоватые струи свешивались ветвями гибкие деревца. Пески отмелей и кос были совершенно белыми. Иногда пролетали утки и гуси к синевшим далеким лесам.
Все это понемногу успокоило Таню. Уже началось новое в ее жизни. И ничего в этом новом не было плохого. Оно манило и волновало.
На Оби было оживленно. Великое открытие сибирской нефти подавало голос: буровикам, геологам, нефтяникам сплавлялись на длинных и узких баржах огромные трубы, ящики с продуктами, машины. Баржи едва выступали из воды. Белые, трехпалубные, увенчанные рубками красавцы буксиры-толкачи, уперевшись лбами, гнали их вниз, на север. А им навстречу выплывали из-за островов белоснежные танкеры с серебристыми баками-цистернами. И, обгоняя всех на реке, птицами стелились, почти не касаясь воды, белые «Ракеты» с красными днищами. Река любила белый цвет.
– Эх, вот где рыбалка да охота! – проговорил Николай. – Черт! Дьявол! Болтаешься все время в городе да за кулисами, а здесь вон что размахнулось!
– Папа здесь плавал и рассказывал об этих местах, – откликнулась Таня.
Отец ее – архитектор Инютин – умер недавно, и она все тосковала о нем. Она гордилась его домами, его славой, гордилась, что она его дочь, и всегда с удовольствием чувствовала эту свою особенность среди подружек. При отце жизнь была повернута к Тане только своей солнечной и доброй стороной. Отец охранял ее от всех тяжелых впечатлений…
Ветер трепал темно-рыжие волосы Тани, облеплял фигурку светло-синим полотняным платьицем, охватывал им ноги, пузырил сзади.
Николай был в узких, какого-то сизого цвета брюках, в просторной, легонькой куртке без подкладки и воротника. Все это было довольно помятым. Такая небрежность теперь считалась хорошим тоном. Одеваться в новое, с иголочки – это значило выглядеть провинциально. Надетый через плечо, на боку его болтался маленький транзистор в кожаном футляре.
Они стояли на носу, под белоснежной крышей, и перед ними ничего не было, кроме висящей наискось шлюпки да разлива искрящейся реки. Порой Тане казалось, что они не плывут, а скользят в воздухе.
– Пойдем обедать, а то что-то под ложечкой сосет, – проговорил Николай и повел Таню в ресторан, уверенно положив на ее плечи загорелую руку с поблескивающими часами.
В круглом голубом ресторане было людно и нарядно от белоснежных скатертей, сияющих под солнцем бокалов, рюмок и ваз с краснобокими яблоками. Таня чуть не всхлипнула. В такие уголки ее и маму не раз приводил отец, когда они ездили на Черное море.
В большие окна Таня видела извивы реки и прибрежные леса и луга. По потолку пробегала золотая рябь, отраженная рекой. Иногда среди этой ряби проползал черный силуэтик лодочки. Человек в ней взмахивал веслами величиной со спичку.
Таня закрыла лицо ладонью, посидела так немного, а потом попросила:
– Возьми мне бокал вина. Есть такое болгарское вино «Рубин». Папа его очень любил. Оно красивое, душистое и вкусное.
Ей повезло: «Рубин» оказался в ресторанной карточке. Она смотрела на солнце сквозь бокал, дивясь чистоте и прозрачности темно-красной влаги, полной огненных искр.
– Остановись, мгновенье! Ты прекрасно! Тебя сейчас можно писать, – проговорил Николай, откинувшись на спинку стула и щуря на Таню, как на картину, один глаз. – Девушка в светло-синем у белоснежного стола. Она вздымает к солнцу пылающий темно-красный бокал! А! Эффектно?
– И доволен, и доволен! Как будто уже нарисовал, – засмеялась Таня.
Николай, как и всюду, держал себя в ресторане уверенно. Он громко подзывал официантку, как знаток просил улучшить блюда огурчиками, лучком, подливками, пускал сильные струи дыма до самого потолка, снова окликал, заменяя какое-нибудь блюдо другим.
– Ладно, ладно, хватит тебе привередничать, – распорядилась Таня. – Это неприлично.
После первых же трех глотков ее переполнила радость, и все показалось славным.
– Ой, я совсем опьянела и хочу танцевать, – сказала она, смеясь.
И они ушли в пустой салон. Полукруглый, он был почти весь из стекла. Николай включил свой транзистор, поймал музыку. Они медленно двигались в такт кубинского танго, долго стояли на месте, покачиваясь. Таня танцевала все время с закрытыми глазами, точно боялась, что окружающее может вспугнуть счастливую легкость в душе. А Николай смотрел ей в лицо и еле слышно говорил о своей любви, о том, что они на следующий сезон уедут к знакомому режиссеру в Сухумский театр и будут жить на берегу Черного моря.
Таня вспомнила, как она с отцом и мамой жила в Гагре, и уже подумала об отце без горечи; она подумала о нем как о живом, увидела его улыбающимся, с бокалом сухого вина в одной руке и с шашлыком на шампуре в другой.
Но тут же увидела и маму. Одинокую, в пустой квартире. Может быть, она сейчас плачет… «Вот у нее все кончилось, а у меня только начинается. Какая все-таки жизнь жестокая штука! Нет, это не жизнь, а все уносящее время жестоко и беспощадно». Таня нахмурилась и открыла глаза. Ей расхотелось танцевать… И Николай не удивился; он уже привык к внезапным переменам в ее настроениях. Она была, как листок на ветке, трепетно-отзывчивая на малейшее дуновение жизни. Эта, драгоценная для актрисы, особенность помогала ей жить на сцене по-настоящему…
Они сидели в плетеных креслах на корме. Еще солнце не зашло, а уже появилась луна, смутная, как бы прозрачная.
На берегах, заваленных подмытыми деревьями, кустами, обломками стволов, показались островерхие черные ели, окруженные белизной берез. Иногда на далеких островах пылали костры. Все это появилось в сумерках. Солнце скрылось, и теперь луна уже была не прозрачной, как льдинка, а плотной и яркой. Под ней, через реку, будто кипела полоса серебряной икры. Лунные блики проносились как сверкающие рыбки.
По палубе бродили пассажиры, с разных сторон слышались разговоры и смех. Светились окна кают. Таня мысленно перенесла себя на темный берег и оттуда взглянула на «Патриса Лумумбу». Весь усыпанный огнями, белый и царственный, как лебедь, он легко скользил между тальниковыми островами.
Удивительно! Африканец, убитый на родине, ожил в Сибири, из черного став белоснежным.
Николай укутал Таню от комарья в свой пыльник. Они то шептались, то молчали, то пели тихохонько; порой Таня, положив руки и голову на поручни, дремала. С островов наносило запах смородинных листьев, а с заливных лугов травяную свежесть…
Николай вспоминал весну. Вот он, радостно возбужденный, в шапке пирожком, сбитой на затылок, расстегнутый, распахнутый, вваливается в гастроном и торопливо просит у знакомой продавщицы бумагу. Обыкновенную оберточную бумагу. Большущий, каменно тяжелый рулон ее виднеется в открытую дверь, ведущую на склад.
– Только отпластайте мне, Фаиночка, целиком три метра. – Он будто ножиком чиркает по воздуху, обдавая продавщицу мартовской свежестью, запахом ветра и талого снега.
В городе многие болели гриппом, и поэтому на лице продавщицы была марлевая повязка, скрывавшая и нос, и рот, виднелись только лоб да глаза.
– Кошмар! Зачем это вам столько? – удивляется она, беря большой, для масла, нож. Руки у нее удивительно маленькие, почти детские. Из-за того, что розовые ногти острижены острыми треугольничками, руки кажутся по-кошачьи царапучими.
– Письмо! Письмо о любви буду писать, – декламирует Николай.
– Вы бы мне хоть на одном метре написали! – Продавщица кокетливо смеется, и повязка сначала пузырится, а потом продавливается в открытый рот.
– А мы с вами без всякой бумажной волокиты договоримся, – улыбается Николай и подмигивает ей.
– Ну-ну, посмотрим!.. Вы сегодня какой-то праздничный. Похожи на влюбленного.
– Весна, весна, Фая-фея!
И продавщица отматывает ему длинную полосу толстой, гремучей бумаги телесного цвета. Бумага вся в темных бугорках и выпирающих соломинках…
Придя домой, Николай подмел в своей холостяцкой, пустоватой комнате с театральными афишами на стенах и, взяв бумагу за конец, тряхнул ее. Трубка, разматываясь, прокатилась до самой стены и тут же, снова скручиваясь, бросилась обратно к его ногам. Тогда он взял со стола деревянную черно-лаковую пепельницу в золотых узорах, маленький транзистор и придавил ими конец бумаги. Он раскатал трубку через всю комнату и другой конец притиснул двумя книгами.
Николай сбросил туфли, потому что ходил прямо по бумаге, положил на пол пеструю стопку сборников стихов, с десяток разноцветных карандашей, закурил, лег на бумажную дорожку и принялся писать Тане Инютиной свое трехметровое письмо. Он озаглавил его: «Передо мной явилась ты»…
Красные, лимонно-желтые, фиолетовые буквы заглавия рассыпались вкривь и вкось, как будто их бросили пригоршней. Под ними Николай нарисовал солнце, похожее на сердце. Потом принялся косо и прямо, зигзагами и кругами, в рамках и треугольниках писать отрывки из стихотворений о любви. Среди этих строчек появлялись то фигурка Тани, то сам Николай. Вот она, тоненькая, в коротком голубом платьице колоколом, стоит на земном шаре и простирает руки к солнцу, а у ног ее – материки, океаны, плывут корабли, лежат города.
А вот и он, лохматый, поджарый, голый по пояс. Одну руку протягивает к Тане, а другой закрывает лицо, чтобы не ослепнуть от ее вида.
А вот они появились вместе – их туманные силуэты уходят в какую-то даль, в заросли, в росчерки, в путаницу пылких изречений. И было что-то грустноватое в их спинах, в его руке, положенной на ее плечи.
Иногда Николай бросал то там, то здесь забавную карикатуру на себя или на Таню, громко смеялся и, как мальчишка, загибал ноги и пятками стукал себя по заду.
Три дня, в свободные часы, он работал лежа на полу, среди разбросанных книг, в клубах сигаретного дыма. И это письмо о любви, длиною в три метра, удалось ему на славу…
Николай часто встречал Таню в сквере, когда она шла из театрального училища. Из-за поворота аллеи она возникала всегда неожиданно. Он знал, что она появится, и какая она – знал, и все-таки каждый раз удивлялся ее появлению, удивлялся ее лицу, фигурке, будто видел ее впервые.