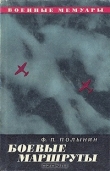Текст книги "Листопад в декабре. Рассказы и миниатюры"
Автор книги: Илья Лавров
сообщить о нарушении
Текущая страница: 26 (всего у книги 32 страниц)
Закусив, снова пошли к морю. По пути им повезло: в стеклянном киоске, похожем на аквариум, они обнаружили несколько любимых книжек. Продавщица с рыбьими глазами вытащила их со дна аквариума.
В обеденный час пляж пустовал. Всюду между камнями; где был песок, взлетали золотистые фонтанчики. Это купалось множество вездесущих воробьев. Дед и внук развалились на берегу и стали рассматривать рисунки в книжках.
Ты читаешь только заглавия, – ворчал дед, – а кто написал книжки – тебе плевать. А нужно в первую голову прочитывать имя автора. Вот «Золотой ключик», а кто написал про Буратино?
– «А-лек-сей Тол-стый», – старательно прочитал Максим.
– Неправильно.
– «Тол-стой»! – поправился Максим.
– Это замечательный писатель. Ты запомни его.
– А где он сейчас?
– Он… он умер, – неохотно ответил Ковшов.
– А почему?
– Болел.
– Мар-шак, «Кош-кин дом». А где Маршак сейчас?
– Тоже… умер… – совсем уж неохотно буркнул дед.
– А почему?
– Старый он был… Давай-ка лучше почитаем.
Но Максим спросил и о Бианки, и о Гайдаре, и пришлось Ковшову буркать это нехорошее «умер». Ему не хотелось говорить об этом с мальчишкой, но тот припирал его вопросами.
– Деда, а что такое смерть? – опять задумчиво спросил Максим.
Ошарашенный Ковшов молчал, палил папиросу. Потом взял маленькую, облепленную песком руку мальчонки и приложил к своей груди.
– Слышишь – тук-тук-тук?
– Слышу.
– Это оно бьется… Сердце! А ну-ка, прижми руку к своей груди. Слышишь?
– Ага! Здорово стучит, будто барабанчик.
– Вот-вот, правильно. Барабан жизни. Как только этот барабан замолчит – значит, все! Конец.
– А потом в землю человека закапывают?
– Да.
– А зачем?
– А человека уже не будет… Вот у тебя гармошка есть. Хорошо, звонко поет. А вытащи-ка из нее все – останется один футляр. А зачем он? В печку его.
– А ты, деда, умрешь? – с тревогой спросил Максим, забираясь к нему на колени и крепко обхватывая за шею, точно дед куда-то хотел уйти, а он его не пускал.
– Я – не-ет, – не совсем уверенно ответил Ковшов, – у меня есть мосты. Я в них буду жить. У меня есть ты. Я в тебе буду жить.
– А я, деда, когда буду старым, как Маршак, тоже умру? – Губы мальчонки вздрагивали, на глаза навертывались слезы. Он еще теснее прижался к Ковшову, готовый вот-вот расплакаться.
Старик проклинал себя в душе за то, что сказал о смерти всех людей, написавших любимые книжки Максима, и вызвал неразрешимые для ребенка вопросы.
– Э-э, брат, у тебя впереди большая-большая жизнь, – наконец заговорили он. – Вот видишь это море? Вот такая и будет у тебя жизнь. Ни конца ей, ни края. А потом появятся у тебя мальчишки, и мы с тобой в них будем жить. Мы с тобой никогда не расстанемся.
– А как у меня появятся мальчишки? – все продолжал размышлять Максим.
– Ты женишься. У тебя будет жена.
– Девочка?
– Да.
– Как рыжая Ирка?
– Может быть, как и она.
– Нет, она вредная, она укусила меня за палец. Лучше пусть моей женой будет Люська. Она всегда дает мне полконфетки.
– Пусть будет Люся, – охотно согласился Ковшов. – Вот как вы поженитесь, так у вас появятся мальчишки. Мы будем с тобой жить в них. – У старика задрожали уголки губ, и он крепче притиснул к себе внука. – Никогда мы с тобой не расстанемся. Слышишь? Нико-гда!
Он посадил Максима на гальку, стал сгребать ее, чтобы отвлечь от этого тяжелого разговора, но Максим снова спросил:
– И тебя не зароют в землю?
– Кого? Меня?! – взревел дед. Он вскочил, поднял тяжелый камень и ухнул его в море. – Видел, какой я?
– Деда у меня сильный! Деда у меня – борец! – тоже вскакивая, завопил Максим.
Ковшов медленно приложил к груди вздрагивающую руку. «Нельзя! Еще нельзя», – приказал он мысленно.
5
Скоро многие в городке приметили их. Крупный мужчина в мексиканском сомбреро и мальчик в красных трусиках появлялись то в кафе, то на пляже, то в парке, то на улице. Они как будто куда-то все время шли и шли и никак не могли дойти. Они все о чем-то серьезно разговаривали или весело смеялись, как равные.
Они появлялись на озере Рица, в кавказских ущельях, в сухумском обезьяньем питомнике, в море на палубе теплохода, в Новом Афоне на берегах прудов с белыми и черными лебедями. И Ковшов был счастлив оттого, что смог открыть для малыша эту сказку земли, и еще оттого, что он все время был с этим мальчонкой.
Часто их видели на берегу даже ночами: они сидели, прижавшись друг к другу, и молча смотрели на море. Над ними висела яркая луна, но на воде не было сплошной серебряной дороги. Она была полосатой: лунные полосы чередовались с черными. Черные возникали от равномерно идущих волн. Мальчишку и деда притягивала к себе эта полосатая дорога, убегающая в бесконечную даль. Ковшов знал, почему она тревожила его, а мальчонка еще не понимал, почему так хотелось смотреть и смотреть на нее.
Иногда они поднимались рано утром, чтобы встретиться с морем. Небо и море сливались в сером тумане, и их нельзя было отличить друг от друга. Ковшов и Максим видели только туман, а в середине его далеко, будто в воздухе, висящую черную лодку с рыбаком.
Всплывало малиновое солнце, похожее на красную луну. Сквозь туман на него можно было смотреть. И опять это обоих тревожило.
Власть моря была неодолимой.
Счастливые, они прожили у моря уже двадцать дней. Максим поджарился на солнце, просолился в море. Тетушка Анаида души в нем не чаяла. Ей все хотелось обнять его, потискать, подержать на коленях, умыть, причесать. Но Максиму это не очень-то нравилось. Он отбивался от ее ласк, увертывался от рук, но охотно лакомился ее дарами. А любвеобильная тетушка Анаида тащила и тащила ему конфеты, фрукты, пирожные. Потом начала приносить игрушки и наконец подарила дорогой алый костюмчик.
Подкупленный этим, Максим разрешил ей умыть свое чумазое лицо и нарядить себя. Причесывая его мокрые волосы, она радостно причитала:
– Ах, Серго, Серго, посмотри, какой у нас мальчик!
Ковшов смущенно крякал, косился на смеющегося внука.
– Козленок, горный козленок! Легонький, ловкий, ножки быстрые.
«Козленок» мгновенно вывернулся из ее рук и умчался в сад, вспыхивая огоньком между стволами. В саду ему разрешалось делать все что угодно.
Ночью Ковшову опять стало плохо.
Посыпался дождик. Все эти дни мучило яростное солнце, а сейчас в тропическую, влажную духоту волной накатилась свежесть. По пояс голый Ковшов вышел в сад и сел на скамейку. Дождик шлепал по его широкой спине, сочно щелкал по асфальтовой дорожке. В пахучих шарах туи он шелестел, в коре эвкалиптов, облезающей большими засохшими лохмотьями, трещал, а по упругим листьям винограда хлопал.
В каждом дереве у дождика был особый голос. Только море молчало, будто его и не было рядом.
Переборов острую боль, Ковшов сразу же пошел на веранду, вытерся полотенцем, стараясь не делать резких движений, и переоделся в сухое.
Дождик стих. И море, и небо, и земля слились в единый мрак и молчали. Ковшов посмотрел на мальчугана, у которого ноги высунулись из-под одеяла, и ушел в комнату хозяйки.
Она дремала. Ночник – лампочка, вкрученная в маленький ботинок футболиста и накрытая голубой половинкой мяча, – мягко освещал ее. Когда Ковшов тихонько сел на стул у кровати, она очнулась.
– Еще не спишь? – прошептала хозяйка.
Разглядывая женщину с умудренной ласковостью, он осторожно и нежно погладил ее рассыпанные по подушке пушистые волосы. А она вдруг почему-то тихонько заплакала. И, плача, зашептала:
– Ты, Серго, удивительный мужчина. Я такого не встречала. Да и какие у меня были мужчины!.. Почему ты печален, Серго? Ты улыбаешься, а я слышу печаль в твоем сердце. Не уезжай, Серго! И мальчика с собою оставь. Как я его люблю! Ты сильный, у тебя теплая душа.
А он все перебирал прядки ее волос, перебирал как-то уважительно. И вдруг в этом уважении и даже почтительности она почуяла что-то пронзительно прощальное. Она порывисто, испуганно схватила его руку, точно он должен был куда-то исчезнуть, и стала тревожно допытываться:
– Что ты, что ты? Что с тобой? А? Что? Серго!
– Слушай, если со мной что случится, если только… Мне что-то в последнее время… Неважно я себя иногда чувствую. А ведь со мной Максим – вот в чем дело. Улететь я могу только через три дня. Так билет куплен… Если что – позаботься о малыше и дай телеграмму родителям. Адрес в бумажнике. Там и деньги…
– Что ты, сумасшедший! Молчи!
…Он приказывал своему сердцу все более властно. Внутри его что-то напряглось. Он как бы вздыбил скакуна и крепко держал его эти последние дни.
Дочка с мужем уже приехали с Сахалина, и Ковшов дал им телеграмму о вылете. Максим заявил, что «телеграмма – это малоразговорное письмо». Хозяйка проводила их в Адлер на аэродром как своих родных. Она плакала, целуя Максима.
– Расти, мое золотко, будь как дедушка, – шептала она, – слушайся его, береги… А это тебе подарочки, вспоминай тетушку Анаиду, – и она подала мальчику корзину, обвязанную сверху чистой тряпицей.
Потом она, вытирая мокрое лицо синим платком, принялась заклинать Ковшова:
– Я жду вас на следующее лето! Я жду! Ваша веранда будет свободна. Я жду. Весь дом для вас будет свободен. Я жду!
– Мы приедем! – кричал Максим, забираясь в красный сквозной вагончик. – Ведь мы приедем, деда?
Но Ковшов не слышал его: он молча смотрел на хозяйку, а она на него, пока цветные, игрушечно-маленькие вагончики катились к огромному самолету, широко распростершему крылья…
Когда самолет ушел в заоблачную высь, Ковшов совсем по-молодому затосковал о хозяйке. Он долго смотрел на корзину, завязанную ее руками. Максим прилип к иллюминатору, завороженно глядел на белые дымящиеся хребты облаков.
Скоро он свернулся в кресле клубочком и заснул. Ковшов укутал его пиджаком, направил на себя сильную холодную струю, бившую сверху в трубочку-вентилятор. Посмотрел на часы. Лететь нужно было семь часов…
Мчались над облаками. Здесь еще было светло, хоть солнце и бросало свой меркнувший свет уже с той стороны земного шара. Ковшов и мальчонка летели от рыжих хребтов заката навстречу тьме. Там, у них в Сибири, уже было темно, а здесь, с высоты, еще долго виднелись эти горящие вершины. Но с земли их уже, наверное, не видно. А вот и с высоты стали виднеться не хребты заката, а просто далекая-предалекая алая полоска. Она все сужалась, притухала… Самолет уносился дальше, дальше, ревел, рвал пространство… Дед и внук спускались, уходили из заоблачного света во тьму, к огонькам земли… Самолет легонько стукнулся колесами о бетон.
– Ну вот, Максим, мы и дома, – разбудил Ковшов мальчонку.
На земле их встретила ночь. Но в прорыве между облаками Ковшов еще видел оставленный им зеленоватый нездешний свет, идущий поверху с той стороны земного шара…
Дочь и зять встретили их шумно, весело.
– Получайте своего сына, – облегченно проговорил Ковшов, целуя дочь в белокурую голову.
Она была в алых вельветовых брюках, в ослепительно белой кружевной блузке, дымила сигаретой и совсем не походила на мать, имеющую ребенка.
Поджарый, загорелый зять в синих потертых джинсах, сверкающих «молниями» на карманах, подхватил Максимку, поднял его высоко.
– Мы с дедой путешественники! – закричал Максим.
Мать, смеясь, поцеловала его сбитые коленки.
– Да ты все такой же тощий, – она щупала его ребрышки.
Максим дергался от щекотки, хохотал.
Почти весь из стекла, аэровокзал кишел людьми. За низенькой загородкой ползла резиновая дорожка, тащила чемоданы прилетевших. Ковшов выловил свой чемодан и рюкзак с яблоками и грушами.
После кавказского пылкого солнца и влажной духоты сибирский свежий воздух, чуть пахнущий осенью, был вкусен и приятен. Выйдя на площадь, Ковшов глубоко вздохнул: многодневное внутреннее напряжение исчезло, и он почувствовал себя слабым и старым.
Когда подошли к такси возле скверика, Ковшов вдруг подтолкнул Максима к матери, торопливо сказав:
– Возьми мальчика, возьми… – и уронил хозяйкину корзину. Тряпица с нее слетела, и по земле покатились яблоки. Он сделал три больших шага к кустам, резко повернулся к внуку, выбросил руки вперед, точно призывая к себе малыша, и вдруг раскинул их в стороны и грянулся спиной на затрещавшие кусты, как рухнувший кедр, от удара которого земной шар слегка колыхнулся.
Ковшов еще успел услыхать из страшной дали еле уловимый крик Максима:
– Деда! Деда!!!
Но он уже не мог прийти на его зов.
1971
Сентиментальный день директора
1
Каждый входит в кабинет директора по-своему. И по тому, как он входит, можно определить характер человека…
Приемная большая, светлая. Ее пересекает синяя ковровая дорожка. Она тянется к дверям директора завода. Дверь обшита искусственной коричневой кожей. Под нее, должно быть, натолкана вата: широкие шляпки медных гвоздей утонули в ямках, и вся дверь усеяна мягкими выпуклостями.
Перед Галей на столе небольшая пишущая машинка, три телефона – белый, красный и зеленый, – стопки бумаг, пластмассовый стакан с карандашами. На большом высоком окне раздвинуты шторы, и на подоконник поставлены лиловые кудрявые астры в тяжелой стеклянной вазе.
Чтобы попасть к директору, нужно пройти мимо Гали через всю комнату.
Вот спокойно, уверенно и деловито идет главный инженер. Он высокий, сутулый, белобрысый. Во рту папироса, перед лицом клубится дым. Паркет под его ногами равномерно похрустывает, как снег.
Едва он выходит от директора, как тут же с дивана вскакивает толстяк со лбом, переходящим в бледную лысину. «Можно»? – вежливенько осведомляется он у Гали. Он семенит, изогнувшись перед директорской дверью. Скрип-скрип-скрип – тоненько, торопливо и угодливо поскрипывает под ним паркет. Зажимая под мышкой пузатенький, истертый портфель, толстяк благоговейно стучит казанками согнутых пальцев в дверь. Стук юркого толстяка, конечно, не слышен в кабинете, и он стучит лишь для того, чтобы выразить свое почтенье к тому таинственному и всемогущему существу, которое царит за этой дверью. Посетитель приоткрывает ее, сует голову в кабинет и мягонько вопрошает:
– Можно к вам, Иван Тимофеевич?
– Опять тебя принесло? – глухо доносится из глубины кабинета.
Толстяк проворно бросается в дверь, как в омут.
Через несколько минут он вылезает в приемную, и по его лицу катятся капельки пота. Галя беззвучно смеется. Это, конечно, какой-нибудь «толкач», приехавший бог весть из каких мест «проталкивать» заказ своего предприятия…
Мрачно хмурясь, краснея и комкая в руке старенькую кепку, шагает к дверям парень из ОТК. Каждый мускул у него напрягся, и он идет как деревянный. Скрип, скрип – тягуче пищит паркет. Галя тихонько фыркает в платочек…
Следующим, самоуверенно, вразвалку, с наигранной небрежностью, идет парень из механосборочного. Паркет под ним сочно пощелкивает… А выходит он из кабинета красный, весь какой-то встрепанный, Галя даже пожалела его…
К дверям направился пожилой, не по годам стройный мужчина. Его черный, лоснящийся от времени костюм тщательно выглажен. Идет мужчина так мягко и невесомо, что скрипучий паркет помалкивает под его резными, нарядными, туфлями. Он на ходу, прихорашиваясь, поправляет галстук, по-женски кокетливо взбивает на висках благородно-седые волосы, у дверей тихонько откашливается в ладонь, сложенную трубкой, и с театральным достоинством открывает дверь.
Этот человек взялся писать историю завода. Наверное, пришел просить аванс. На его счету несколько опубликованных историй разных заводов…
Люди у дверей строгого начальника – это же целое зрелище. Наблюдая за ними, Галя и веселится, и гневается, и удивляется.
Директора на заводе считают тяжелым и крутым человеком. И хоть он, как заметила Галя, всегда справедлив, его все-таки не любят, боятся. С людьми он только начальник. И все. А может быть, людям этого мало?
Последним на прием пришел директор Дома культуры Корзинкин. У него лицо удивительно свежее, нежное, как у девушки. Румянец так и пышет. И волосы как лен. Они такие мягкие и легкие, что взвиваются от малейшего дуновения. Он нравится Гале.
– Вызывал? – спрашивает она.
– Вызывал. – Корзинкин, болезненно морщась, подходит к ее столу и тихонько говорит: – Всегда идешь к нему, как к зубному врачу, который начнет тебе сейчас сверлить больной зуб.
К несчастью Корзинкина, директор, можно сказать, не сводил с него глаз. Дело в том, что Дом культуры и заводская художественная самодеятельность были слабостью Ивана Тимофеевича. Он гордился и хвастался ими перед другими директорами заводов и ревниво сравнивал свой Дом культуры с их домами. Какое-то мальчишеское тщеславие заставляло его прямо-таки ликовать, когда его танцоры и певцы «клали своих соперников на обе лопатки». Если кто-нибудь захотел бы смертельно обидеть его, он просто должен был бы пренебрежительно отозваться о заводском хоре или о Народном театре.
Но Корзинкин проклинал это пристрастие, потому что оно приносило только горе…
Когда он пошел в кабинет, Галя ободряюще улыбнулась ему…
– Садись, – бурчит Иван Тимофеевич. Его темное лицо изрезано морщинами. Большие рабочие руки лежат на столе. Он в упор разглядывает Корзинкина. Лицо у того делается все красней и красней.
– Ну, рассказывай, как ты дошел до такой доблестной жизни, – после длительного молчания зловеще произносит Иван Тимофеевич.
Корзинкин хмурится, елозит на стуле, точно сел на что-то очень неровное и твердое.
– Вы о чем, Иван Тимофеевич?
– Хм, о чем… Он, видите ли, не понимает. Душа у него чиста, как у младенца. И румянец вон так и пышет… Младенческий румянец!
Взгляд Ивана Тимофеевича притискивает Корзинкина к стулу.
– Ты хоть на столько вот любишь свой завод? – Иван Тимофеевич показывает кончик пальца.
– Да что вы, Иван Тимофеевич! Конечно, люблю! – так и вскидывается Корзинкин.
– Тебе его честь дорога? – допрашивает директор.
– Еще бы, Иван Тимофеевич, да я за него…
– Так как же ты мог провалить нашу самодеятельность?! – уже гремит директор. – Ведь ты же убил нас всех. Осрамил! Подумать только, на смотре ни одного первого места не заняли! Да когда еще такое бывало?
– Как – ни одного? А Галя вот, секретарь ваш, за пение…
– Галя… А где наш хор? – Глаза директора из серых становятся льдисто-зелеными. – Он же звучал на всю область! В Москву ездил! А теперь что с ним? Едва на третье место выполз.
– Иван Тимофеевич, это не от меня зависит! – взмолился Корзинкин.
– Как это не от тебя?! Ты всему голова. Я все надежды на тебя возлагал! Значит, напрасно возлагал?
– Все дело в хормейстере, – торопливо и волнуясь, начинает объяснять Корзинкин. – Когда был Селиванов – хор процветал. А Селиванов уволился, и все покатилось под уклон. Селиванов же был заслуженный артист республики, а новый руководитель – молоденькая, неопытная…
– А почему ты достойную замену не обеспечил?
– Ну, где ее взять?
– А это пусть у тебя голова болит. Ты в оперный театр ходил? Искал там руководителя? Ты в музкомедию толкался? Ты соизволил прогуляться в консерваторию? А то, я вижу, совсем уж засиделся. Ноги-то у тебя хоть двигаются? Или уж совсем омертвели за ненадобностью? В миллионном городе, где столько театров, и вдруг не найти руководителя хора! Это же курам на смех!
– Везде я был, везде искал, – совсем подавленный, слабо возражает Корзинкин.
– Значит, плохо искал. А с Народным театром что делается!
Корзинкин тяжело вздыхает и беспомощно разводит руками.
– Островского, понимаешь, ставили! Горький и Шекспир были ему под силу. А теперь что? Какой-то паршивый водевиль едва одолели. И то, поди, несчастные, надорвались. Небось в других Домах культуры хихикают над нами!
– Иван Тимофеевич! Ну, опять же дело в руководителе, – в отчаянии восклицает Корзинкин. – Попов уехал, пришел новый. Режиссер он слабый да еще попивает…
– Гнать его! Чтоб духу его не было! Если ты за этот год не поднимешь мне самодеятельность на должную высоту… смотри не обижайся потом… Мы тебя растили, воспитывали, выдвигали, а ты что выкинул? – скорбит директор. – Пожалуй, я вот что сделаю: переведу-ка тебя в кладовщики. Чтобы ты заведовал не культурой, а всякими там железяками… металлоломом. Иди, пожалуйста, пока я не начал ругаться… Представляю себе, как на других заводах потирают от радости руки да над нами потешаются. Быть тебе кладовщиком!
Иван Тимофеевич не раз угрожал Корзинкину, но угрозы почему-то так и оставались угрозами. Когда Корзинкин вышел из кабинета, Галя безмолвно, одним лицом, спросила: «Ну, как дела?» Корзинкин только сморщился и приложил к щеке руку, будто у него вырвали зуб.
2
Прием кончился… Нехорошо как-то стало на душе у Ивана Тимофеевича. Будто бы сам себе надоел или сам от себя устал. Или голова уже пресытилась всеми этими хозяйственными делами…
Иван Тимофеевич нажимает кнопку на столе. Дверь бесшумно открывается, две белых руки раздвигают бархатные портьеры, и входит секретарша. На ней вязаная, с короткими рукавами, плотно облегающая вишневая кофточка. Галя довольно рослая, у нее легкая, летучая походка. Иван Тимофеевич смотрит на ее лицо, на карие глаза, которые за величину и спокойную задумчивость хочется назвать очами. У секретарши две черных толстых косы. Из-за того что теперь никто кос не носит, они кажутся неожиданными и оригинальными.
Галя, легонько цокая каблучками, подходит к столу, принеся с собой невнятный запах не то весенней травы, не то молоденького сенца. «Духи такие, что ли, придумали?» – Ивану Тимофеевичу делается почему-то грустно. Он сам удивляется этому, необычному для него, чувству, но посмеяться над ним совсем не хочется.
– Дайте мне протокол последнего производственного совещания.
А сам думает: «На кого она похожа?.. А ведь на кого-то похожа… На дочку?» Сквозь ресницы он смотрит вслед секретарше.
Галя приносит папку.
– Привыкли к работе? – спрашивает он как можно приветливее.
– Почти. Только еще не запомнила всех инженеров, начальников…
– Ну, это невелика беда. Запомните… Вам не трудно?
– Да нет, вообще-то…
Голос у Гали чистый, серьезный, и вся она умная, серьезная. И опять в душе прокатывается что-то тревожное, смутное, как шум в вершинах сосен. «Странно, но она все-таки на кого-то похожа…»
– Хорошо, – он разворачивает папку. – Спасибо.
Галя уходит. «Ты как мальчишка!» – мысленно ворчит Иван Тимофеевич.
Легкий запах свежей травы, оставшийся после секретарши, внезапно сгустился, стал сильнее, перед глазами Ивана Тимофеевича зазеленело, запестрело. Он вспомнил поляну в березняке. И тут перед ним возникла Зина… Зиночка Ромбовская… Студентка. Такие же очи, как у Гали, такие же косы, такая же походка… Он тогда учился в Томске, в технологическом, а она – в пединституте…
В открытое окно доносятся приглушенные звуки завода: треск электросварки, гулкие удары молотка по котлу, рокот станков и моторов. Иван Тимофеевич снова вызывает Галю и просит никого не пускать:
– Я ушел. Поняли?
Он пристально глядит на Галю.
– У вас нет родственников по фамилии Ромбовские?
– Нет. А что? – слегка удивляется Галя.
– Вы очень похожи на одного человека. А впрочем, это так… пустяки…
Галя уходит.
Иван Тимофеевич в открытое окно видит плывущие кучевые облака. Он думает, что уже давно не был в лесу, у костра, на реке. Вспомнилось: мрак под кедрами такой, что он не видит лица рядом сидящей. А это Зина. И какая же чернота и теплынь под этими раскидистыми, дремучими кедрами. Так же черны и теплы ее волосы.
Чуть-чуть светлея, выделяется озеро. Далеко на берегу пылают малюсенькие костерки рыбаков… И шепот, и смех… И конечно же целовались вовсю. Куда от этого денешься? Молодые были!
А как все началось? Не забыл ведь до сих пор… Частенько он сиживал с учебником в знаменитой университетской роще и как-то заприметил проходившую мимо студентку с длинными косами. Его сначала удивила ее походка – летучая, легкая. Просто необыкновенная была походка у девчонки. Вот уж никогда он не думал, что походка может быть одно загляденье. Да еще эти косы, модные в то время, пестрое платьице и лицо цыганочки. И вдруг она после двух-трех безмолвных встреч показалась Ивану единственной среди студенческой толпы. Да чего там, во всем городе такой не было! Что ты будешь делать! Вот взяла и выделилась девчонка из многих тысяч, и вышла как бы на авансцену. Не из робких он был, Иван Кравцов. Как-то подсел к ней на скамейку. (Она тоже приходила в рощу с учебниками.) Подсел да и высказал ей все с восхищением.
– А я знаю тебя, – сказала она весело. – Ты часто выступаешь на студенческих вечерах. На баяне играешь.
Дня через два на концерте, после выступления Ивана, какая-то девчушка юркнула за кулисы, сунула ему три вишневых георгина и удрала. К цветам была прикреплена записка: «Приходи завтра в читальню после обеда». Вот так и начались их встречи…
Однажды Зина прибежала к нему в слезах. Физрук института пригласил ее на день рождения, сказав, что будет студенческая компания. Привел ее в какую-то совсем пустую комнату. Зина испугалась, когда он закрыл дверь на ключ. Он грубо схватил ее, прижал к себе. Она вырвалась, крикнула: «Откройте!» В руках ее оказался стул. Физрук бросился к ней. Тогда она размахнулась стулом и выбила стекла в окне. Наглец испугался и сунул ключ в замок. Зина вышибла стекла во втором окне. Физрук поспешно распахнул дверь…
– И ведь уже не молодой, – возмущалась Зина.
Услышав этот рассказ, Кравцов даже побледнел от бешенства. Дня через два он поймал этого физрука в роще и одним ударом сбил его с ног. Неизвестно, чем бы это кончилось, если бы Зина не увела его, Ивана.
Этот случай еще больше сблизил их. Но поскупилась судьба: немного отпустила им встреч. Она скоро преподнесла разлуку, да еще какую!..
Из памяти, видно, никогда не сотрется Томский аэроклуб… Большое сумрачное фойе полно парней с котомками. Среди них и он, Иван Кравцов. Война. И все они мобилизованы. Матери, отцы, жены, сестры толпятся при входе в клуб. А его провожает только Зина. Родители далеко – в деревне. Иван и Зина вышли из клуба, сели на камень у забора да так и просидели целый день, прижавшись друг к другу. Только под вечер раздалась команда строиться.
– Больше я тебя не увижу, чует мое сердце, – шептала плачущая Зина. – Нет-нет! Ты не погибнешь, а просто годы и расстояния разведут нас. Я это знаю, чувствую.
И она уткнулась в его грудь, и косы ее висели чуть не до земли.
Скоро его отправили на фронт. Началась трудная жизнь. Бои, раны, госпитали… Нет, он не забыл ее, он часто вспоминал ее как самое светлое, что у него было. Но он не мучился, не тосковал. Он просто радовался, что она есть на свете, что приходят ее письма. Однажды из госпиталя он попал не в свою часть, и переписка оборвалась. Зина не знала новый номер его полевой почты. Он долго не писал ей – шли бои, а когда наконец написал, Зинины соседи сообщили, что она вместе с родителями уехала куда-то в Молдавию. Так они и потеряли друг друга.
Кончилась война. Иван Кравцов вернулся в Сибирь, закончил институт, женился, много работал, стал, наконец, директором завода. И вот однажды он нашел у себя на столе письмо. Вскрыл конверт, и лицо его посветлело, как бы затеплилось: письмо было от Зины.
«Я случайно все узнала о тебе от наших томских знакомых, – писала она. – Я рада за тебя, как друг промелькнувших студенческих лет, тяжелых, но таких дорогих сердцу; поздравляю тебя, – ты во главе большого дела, имя твое произносят с уважением! Вспоминаю твою убогую комнатушку в Томске, куда я приходила. И мы с тобой готовились к занятиям. Читали вслух „Трех мушкетеров“, хохотали, валяли дурака. Ты играл мне на баяне… Летом мы купались в Томи, а зимой бродили на лыжах по чистейшим сугробам. И нам было хорошо. Нам казалось, что так будет вечно…
Милый, я плачу… Я вспоминаю свои слова, сказанные у дверей аэроклуба: „Мы больше никогда не увидимся“. Я чувствовала тогда, что мы уже никогда не встретимся. Грустно. Я не забыла и никогда не смогу забыть то чувство, которое прошло через всю мою молодость. Прости мою сентиментальность. И будь здоров».
Он сидел за своим столом взволнованный. Молодость, студенческие годы – все припомнилось. И еще он понял, что мимо его жизни прошла большая любовь, но понял он это слишком поздно.
Она не сообщила ему свой адрес, только написала на конверте «Кишинев» и какую-то фамилию. Он не смог разобрать ее. Ну, ясно же, у нее теперь другая фамилия. Он выкурил над ее письмом несколько папирос, а потом устыдился всего этого и сунул письмо в стол… Куда-то оно затерялось…
Через год он попал в Кишинев на совещание, созванное министерством.
Первый день оказался свободным. Он был жарким и душным. Иван Тимофеевич с удовольствием бродил по шумным зеленым улицам южного города, который на каждом углу предлагал груды пахучих яблок, черно-синего винограда и слегка припахивал молодым винцом. Неожиданно он вспомнил, что где-то в Кишиневе живет его Зина. Вот, может быть, он сейчас проходит мимо ее дома среди акаций, возможно, сейчас до нее всего лишь несколько шагов. И ему так захотелось встретиться с ней! Вспоминая ее облик, ее косы и летучую походку, ее рослую фигуру и голос, он бродил по тенистым скверам со знойно полыхающими на клумбах индийскими каннами и вглядывался в лица молодых женщин.
И вдруг вспомнил, что ему уже пятьдесят, значит, и ей тоже пятьдесят. «Ведь в ее памяти я остался молодым, как и она в моей памяти, – смущенно подумал он. – Мы помним друг друга такими, каких уже нет на свете. Ты что это, старикан? Ведь встреча с ней сейчас была бы самым печальным, что можно только придумать». И он, озираясь по сторонам, завернул в кафе. Среди деревьев под синей пластмассовой крышей на столбах стояли столики. За ними сидело несколько человек. Из-за синей крыши здесь сгустился голубой сумрак, и лица у всех были голубыми.
Иван Тимофеевич сел за пустой столик, заказал бутылку «Фетяски». За соседним столиком парень, коричневый от загара, ел виноград и читал какую-то маленькую книжку.
Иван Тимофеевич и не заметил, как наползли тучи, померкло пылающее солнце. Он очнулся, когда грянула великолепнейшая южная гроза. Ливень затрещал по синей прозрачной крыше. С нее потекло, и кафе как бы задернулось со всех сторон струистыми занавесками. Бушевали вершины высоких деревьев, а внизу, вокруг кафе, душная чаща была странно недвижной. Только трепетали от дождя листья. Особенно мотало высокие пирамидальные тополя. На фоне черного неба их летающие вершины внезапно, как бы вспыхивая, становились белыми: ветер поворачивал листья серебряной изнанкой.
За низенькими решетчатыми перильцами дождь разбивался о листья, и водяная пыль сыпалась на лицо Ивана Тимофеевича. Но это ему было приятно, и он не отодвигался.
Парень то и дело, не отрываясь от книжки, нащупывал виноградную гроздь, отрывал ягоду и совал ее в рот. Иван Тимофеевич прищурился и разглядел стихотворение в книжке, даже смог прочитать: