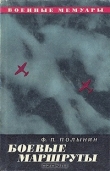Текст книги "Листопад в декабре. Рассказы и миниатюры"
Автор книги: Илья Лавров
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 32 страниц)
Ветер шумит в березах
Жесткая, большая рука Полины Петровны вцепилась в шершавый ствол вербы. По стволу текло, и через толстые пальцы перекатывались невидимые во тьме ледяные капли.
Ноги в больших сапогах глубоко провалились в мокрый снег. Но Полина Петровна ничего этого не замечала. Грудь ее высоко поднималась. Морщинистое темное лицо стало суровым, губы гневно сжались. Она не видела, как черное апрельское небо трепетало от звездного огня.
Но те двое, там, за калиткой, видели это звездное пламя. И еще они слышали, как в глубокие ямки, словно в бутылки, стекала, звучно булькая, прозрачная снеговая вода. Они различали смутные шорохи, шлепанье, всхлипы, всплески – это оседали, таяли сугробы. Вот где-то между забором и снегом забормотала, захлюпала вода и иссякла. Передохнула, и вновь – то же самое.
Весна порывами осиливала зиму, медленно подтачивала посиневшие сугробы, размывала их. Пахло талым снегом и вербной корой.
И это замечали те двое, там, за калиткой.
Но Полина Петровна не слыхала эту затаенную весеннюю возню в темноте. Она слышала только шепот и тихий, счастливый смех, который то возникал по ту сторону калитки, то глох, словно это невнятно булькал под снегом ручьишко.
Сердце ее билось гулко, дышать становилось трудно. Она так напрягла слух, что ей мнилось, будто она слышит шорох пальто и вздохи. По звукам старалась определить, что делают там те двое.
«Примолкли! Обнимаются! – рука крепче вцепилась в ствол вербы. – Бесстыжая!»
Мягко, еле слышно, точно во сне, засмеялся мужчина. Голос был совсем юношеский. Потом донесся озорной шепот:
– Идем… побродяжим еще… песню споем… Ночь-то какая… Весна же, весна! Идем, Ксюша! Смотри, на руках унесу!
– Нет, нет, пора домой… потом… завтра, – нежно шептала женщина.
– Такой ночи уже не будет!
С крыши сорвалась большая сосулька, с треском и звоном разбилась в осколки о завалину.
– Будет еще, будет… До завтра!
– Да ведь я скоро закачусь в деревню – и ты меня только и видела! Такое уж наше дело! Землей запахло! А ты знаешь, что такое для агронома запах земли?
– Неугомонный! – засмеялась женщина. – Озорной!
«Воркуют! – Старуха даже всхлипнула от злости. – Вот она, память человеческая! Так же ворковала и с Пашей. Он сложил голову за нее, а она… Где только совесть у людей! И этот ухажер… вьется тут! Здоровый, как бык, войны и не нюхал, а Паша!..»
Там еще пошептались, потом глухо хлопнула намокшая калитка. Ксения, в легком светлом пальто, прошла, держа шляпу в руке. Она совсем как девушка, хотя ей уже двадцать шесть.
Взбежала на крыльцо, поправила волосы, надела шляпу, глянула на звезды и вдруг подняла к ним руки, помахала, засмеялась. Не отворачивая головы от звезд, она вытянула руку вперед, чтобы не наткнуться на что-нибудь, и нехотя уходила в дом, все глядя в небо.
Полина Петровна чуть не бросилась вслед, чуть не крикнула: «Бесстыжая! Где совесть твоя?» А там, за калиткой, неизвестный запел тихонько, но широко и раздольно:
Ой, да ты калинушка, ты малинушка!
Проваливаясь в снегу, Полина Петровна подошла к ступенькам, тяжело опустилась на них. О, она-то хорошо помнит тот день, когда вместе с Ксюшей провожала на фронт Павла! Всего лишь годок удалось ему поработать хирургом после института.
Своими бы руками задушила того, кто затеял войну!
Помнила, все помнила Полина Петровна, и как на вокзале прощалась с Павлом – помнила. «Не скучайте тут, – сказал он. – А мы постараемся побыстрее управиться с делами, да и домой ко щам!»
Так и зажили одни. Ксюша работала врачом. Она звала ее, Полину Петровну, мамой. Вместе ждали, когда же ребята «управятся с делами» на фронте, и растили Асеньку, у которой глаза были Пашины, а личико – Ксении.
А через полгода и свершилось, пришла повестка: вызывали Ксению в военкомат.
«Забыла теперь, как шли мы с тобой, и такая же была весна, и у нас подкашивались ноги, и мы почти уже все знали. Сердце-то – оно вещун!
Забыла, как с крыльца военкомата почти сползла женщина в мужской шапке, в порыжелом мужском пальто и в сапогах. Знать, обносилась за войну, надела сыновнее, не сберегла. В руке она держала корзину с картошкой. Должно быть, завернула в военкомат, возвращаясь с базара.
Посередке широкой улицы бульвар. Шла женщина по аллее старых березок, ровно пьяная шла. Бросало ее горе лихое то вперед, то назад, и она выкрикивала только одно, все время одно: „Ой, Коленька! Ой, Коленька!“ – и валилась на дерево. Постоит, постоит, оторвется от него, сделает несколько неверных шагов, снова припадет к березе на другой стороне.
Так она и шла от дерева к дереву, продев руку под дужку корзины. Видела ли она чего? Слышала ли? И сколько же ей нужно было времени, чтобы пройти этот тяжкий путь, дотащить свое несчастье, войти в дом и криком испугать детей?
А мы даже не взглянули друг на друга – страшно было. Запинаясь, чуть не падая, взбежала на мокрое крыльцо.
Ты, знать, забыла эту белую дверь в кабинет номер четыре. Рядом в стене – окошечко. А стена такая толстая, что окошко походило на туннель. В кабинетик тот вошла молодая, свежая, такая нарядная женщина. У нее тоже в руках была повестка.
Мы прижались друг к другу.
Недолго пробыла в кабинете женщина.
Много ли времени нужно узнать про это? Вышла она. И где же ее краса и свежесть? Лицо постарело, глаза ввалились, вокруг них черные круги, как будто огнем опалило. Шла, милая, держась за стену, точно впервые поднялась после долгой болезни, такой долгой, что разучилась ходить.
А в открытых дверях стоял седой майор и хмуро смотрел вслед. Гимнастерку расправлял под ремнем, а ее-то совсем и не нужно было расправлять.
Ведь и в его положение нужно войти. Лучше бы уж ему воевать, чем сидеть в этой комнате! Что отчаяния, что горя повидал он! Скажет слово – и закричит, застонет мать или жена офицера, упадет пластом в кабинете. Скажет слово – и в пепел все надежды, в осколки сердце, вверх дном вся жизнь.
Нет, лучше бы уж старому солдату самому идти на поле сражения, чем выносить этакое!
Ни одна женщина, побывавшая в этом кабинете, не забудет до смерти его лицо, слова и голос. И это лицо, слова и голос всегда будут рядом со страшным.
И хоть сидел он уже не первый день в своем кабинете, наверное, все не мог придумать, как ему говорить об этом с матерью или женой. Да и есть ли такие слова, которые бы сделали посветлее те черные вести, которые сообщал он?
Мы тогда смотрели на него умоляюще, будто просили: „Не надо! Не надо!“ Майор-то понял это: нижнее веко задергалось сильнее. И опять он поправил гимнастерку и пригласил:
– Войдите.
Усадил перед столом, развернул синюю папку, глуховато этак осведомился:
– У вас муж на фронте?
– Да, – еле выговорила ты.
– Хирург?
– Да, – сказала уже я.
– Капитан?
– Да, – сказала ты.
– Павел Куклин?
– Да, да, – сказала опять я.
Помнишь, майор заторопился, прикуривая, зачем-то графин с водой придвинул к себе, пальцы переплел. А руки-то у него подрагивали. Начал он тихо так, ровно бы извиняясь:
– Как мне ни тяжело, но я обязан поставить вас в известность…
А больше я ничего и не помню. Ты уж сама потом рассказывала, как повалилась я со стула, как подхватила ты меня, как майор уложил на диван…
Видишь, я ничего не забыла!
С тех пор и жили памятью о Павле. Только Асенька вносила в дом радость и свет, как солнечный лучик.
И вот пришла сегодняшняя ночь. И вчера то же самое творилось у калитки».
Полина Петровна поднялась и резко дернула дверь.
– А! Ты еще не спишь?! Почему? – ласково спросила Ксения, добираясь до чайника на плите, закутанного в телогрейку, в старую шаль и накрытого сверху подушкой.
Полина Петровна пронзительно взглянула на нее и впервые поняла, что Ксения красива. Ее немного располневшая фигура в шерстяном темно-зеленом платье дышала силой. Круглое лицо, пышные, светлые волосы, темные глаза, пухлые, веселые губы, белые руки – все это сейчас показалось Полине Петровне неприятным, вызывающим. Уж лучше бы Ксения была стареющей дурнушкой!
«Такая разве засидится?» – старуха сжала бледные губы и холодно бросила:
– В сенях возилась… с дровами.
Полина Петровна собрала на стол ужин: вареную картошку и полученную по карточкам селедку.
– А ты чего? Садись! – позвала Ксения. – Целый день не виделись!
И хоть Полина Петровна не ужинала, она отказалась:
– Я уже… сытая… по горло!
И эта мягкость, доброта и врожденная ласковость Ксении, так нравившиеся Полине Петровне, сегодня представлялись лицемерными. Она всегда считала, что у невестки искренняя, открытая душа, но теперь все казалось притворством. И эти книги, и бесконечные занятия на каких-то курсах – все уже злило.
«Больно культурная стала», – подумала старуха и ушла за занавеску.
Асенька спала. Липкие щеки ее раскраснелись. Ложась, она всегда требовала конфету. Сонно катала ее во рту. Слышно было, как о зубы точно камешек постукивал. Бабушка ворчала: «Заснешь и подавишься, непутевая!» И девочка действительно засыпала, а бабушка вытаскивала изо рта прозрачный леденец.
Полина Петровна взяла платьице Асеньки, села чинить, украдкой следя за невесткой. Котята в коробке под кроватью пищали так тихо и так тоненько, словно они были где-то за толстой стеной.
Ксения ела картошку и, о чем-то думая, улыбалась. Улыбалась откровенно, широко и даже один раз тихонько засмеялась. Полина Петровна сердито двинула стулом, Ксения удивленно посмотрела на нее, потом огляделась, еще плохо понимая, где она.
– Весна-то, мама… Снег под березами рябой, весь в дырках – капли с веток проклевали. Даже ночами под сугробами тихонько булькает.
– Не знаю я… не слушаю ночами-то… Булькает ли там или еще что… делается…
– С фронта уже отзывают специалистов, – весело продолжала Ксения, – едут инженеры, строители, геологи! Хороший признак!
Она вспомнила, как весь день за окнами больницы падали золотые капли, как потом сорвались с карниза причудливые наросты сосулек, пролетели пылающей хрустальной люстрой, на миг озарили кабинет.
Весь день на потолке трепетала золотая рябь – отражалась сияющая под окном лужа. По этой ряби скользили черные тени от ног прохожих.
Ксения бросила в тарелку недочищенную картошку, подперла щеки руками и, думая о чем-то своем, тайном, спросила:
– Скажи, мама, у тебя была весна… Ну, та, единственная, которую не забывают? Ты никогда не рассказывала, как жила девушкой, как потом… все устроилось…
– А ведь память-то человеческая – она подлая, – пробурчала Полина Петровна, пришивая заплатку на внучкино платьице. Оно было розовое с голубыми цветами. Стеклянные красные пуговки до того походили на леденцы, что Асеньке всегда хотелось пососать их. – И ту весну я уже запамятовала… Человек ухитряется все забыть. Забывчивый он, человек-то! Был у нас на селе парень… Федя Крюков… Ты такого и не видела… Не встречаются большие такие. Богатырь, кровь с молоком, шутник, певун! Выйдет на улицу, ровно солнце появится. Да и я тоже девкой-то была… Глянем друг на друга, да так бы и смотрели всю жизнь. А тятенька возьми да и просватай меня за богача горбуна. Кинулась я в баню на огороде – и за веревку. Да успели, выдернули из петли. А теперь вот забыла. Все забыла! Теперь вот даже посмеиваюсь над этим, над петлей-то! Вот она какая, память-то человеческая! Дырявая! Чуть тряхнешь головой – все вылетает!
– Ну, не все же, – улыбнулась Ксения, – плохое, это верно, забывается, а хорошее – никогда!
– Все, матушка, забывается! – сердито и четко выговорила старуха, глядя в лицо Ксении. – Война еще не кончилась! И Павел вот… и тоже… с глаз долой – из сердца вон!.. Калякаем, чаи распиваем… как будто так и надо!
Голос Полины Петровны прерывался, она уколола палец, не заметив, кровью испачкала платьице.
– Как у тебя только язык повернулся, мама! – поднялась Ксения. – Кто же забыл Павла?
– Ты ешь… пей чай, а то остынет. – Полина Петровна быстро ушла в кухню.
По радио хрустально зазвенели позывные Москвы. Еще два года назад Ксения вздрагивала от этого звука: «Господи! Снова, наверное, сдали какой-нибудь город!»
Но в эту весну каждый день передавали по радио приказы Верховного командования о взятии уже нерусских городов. Ночами гремели салюты, заставляя дребезжать черную тарелку над комодом.
Советская Армия с боями подошла к Берлину.
Вот и сейчас диктор торжественно прочитал приказ о том, что войска штурмом овладели столицей Австрии Веной.
– Мама, наши взяли Вену! – радостно крикнула Ксения.
Полина Петровна тихонько всхлипывала, сморкалась, гремела посудой.
Ксения мгновенно, какими-то непостижимыми путями поняла, что матери все известно. Ксения растерялась, не зная, что сказать.
– А помнить – это разве плакать? Отказаться от всего? – пробормотала она несмело.
– Ну, вот и пляши теперь барыню, – охрипшим голосом ответила старуха из кухни.
У далекой Кремлевской стены грянул первый залп, зарокотал в репродукторе.
Ксения, слушая залпы, остановилась у дверей, смотрела на сгорбленную старуху, которая полотенцем вытирала тарелки. Может быть, Полина Петровна права? Ксения вдруг почувствовала себя виновной перед Павлом…
Она нахмурилась, отошла от двери.
В тишине ясно услыхала, как вешний ветер радостно шумел в березах, стегал мокрыми ветвями по сырым скворечникам. Они скрипели, слабо привязанные к стволам сгнившими веревками. Ветер торкался в ставни. Ксения представила, как из водосточной трубы в ледяную чашу падали капли, как на железной крыше домика изнемогало, растапливалось последнее пятнышко снега.
А за окном ровно бы кто-то пел. А может быть, это мерещилось?
Били залп за залпом – Москва салютовала. И Ксения поняла: победа стоит на пороге. Идут последние дни бесконечно длинной и кровавой битвы.
Поймут ли поколения мирных времен, поймет ли Асенька, что это значит: в воздухе запахло концом войны?! Поймут ли они, что для нас это начало второй жизни! Что это возвращение всей прелести земного бытия, отобранного у человека!
В магазинах сколько угодно теплого хлеба. Все бойцы дома. Ночами сияют огни незатемненных городов. Каждое утро люди идут на мирную работу, а вечерами в кино, в парки. И ни одного выстрела, ни одной смерти от пули, ни одного стона от раны, ни одной разлуки у солдатской теплушки. А в клубе медиков закроется опустевший госпиталь, и снова молодежь закружится в вальсе.
Боже мой, неужели все это возможно на земле? И как же мы все будем любить эту мирную жизнь, беречь ее! Другому поколению так не любить ее. Для них она будет обычной, а для нас она – отвоеванная.
И конечно же, перетерпев такое ради жизни, человек должен отбросить все мелкое, нечистое, глупое. Во имя павших миллионов мы не имеем права осквернять нашу землю, нашу жизнь чем-то плохим.
Снова гремящие салюты, как дыхание победы, пронеслись над землей. И от этого дыхания, от этих мыслей, да еще от пения, которое мерещилось в шуме ветра, такое счастливое подкатило к горлу, что Ксения радостно всхлипнула, кулаком вытерла мокрые ресницы и вдруг, ни с того ни с сего, сказала:
– Прости меня, мама, я хочу выйти замуж! Как ты посоветуешь мне?
В кухне воцарилось молчание, словно дом стал нежилым. Словно заколочен и никого нет. И в этой тишине только слышалось – ветви стегают по ставням да гремят ликующие залпы Москвы.
– Сама не маленькая, – прозвучал низкий, почти мужской голос. Он так напомнил голос Павла, что Ксения вздрогнула.
– Но ты же все-таки мама. Я не могу – не сказав…
– Ненавижу тебя за это, ненавижу! – прямо за спиной прозвучал голос Павла. Ксения испуганно повернулась. Перед ней горели слегка раскосые черные глаза Павла.
Ксения тряхнула головой, отгоняя призраки. Полина Петровна, бледная, с хищным ястребиным носом, вытянула к ней руки.
– Убирайся! Уходи с моих глаз!
– Мама! Что ты? – Ксения растерянно прижала полные руки к высокой груди. – Ведь я еще… Ведь мне жить хочется!
По радио заиграла радостная, победная музыка. А Ксении на миг почудилось, что за окном с оркестром возвращались с полей сражений полки победителей.
– А Павлу не хочется, а?! Не хочется?! Почему он должен лежать в сырой земле, а ты – обниматься у калитки?! – в ярости наступала Полина Петровна.
Ксения испуганно прошептала:
– Зачем ты так? Разве я… Что я плохого сделала?
Полина Петровна смотрела в упор на Ксению, та не отводила глаз. А музыка все заставляла трещать тарелку, рвалась из нее. Старуха сразу ослабла, уронила руки, сгорбилась и пробормотала:
– Делай как знаешь… сама себе хозяйка… А только Асю я тебе не отдам… Как мне без нее, одной-то?..
Она снова пошла в кухню, тяжело шаркая сапогами. У Ксении защемило сердце. Бросилась, обняла:
– Не обижайся, мама! Пойми все! А с Асенькой… И я ведь без нее… да и без тебя…
В ставень негромко, но четко постучали, должно быть, согнутым пальцем. Ксения быстро повернулась, прислушалась. Стук повторился. Она подошла к окну, тревожно спросила:
– Кто там?
С улицы донесся мягкий смех, а потом счастливый голос раздольно пропел:
– Я это, Ксюша! Я! Наши Вену взяли! Радио с площади слыхать! Дай хоть одним глазком взглянуть на тебя! Не выйдешь – окно выломаю, влезу!
Должно быть, тот, за ставнем, был горячий, нетерпеливый, порывистый.
Ксения смущенно глянула на Полину Петровну, заметалась по комнате, ища пальто. И хотя оно висело на обычном месте, она не нашла его, набросила на плечи пуховую шаль, вышла из дому.
Старуха быстро надела ватник, и тоже вышла, и опять схватилась за вербу, и опять через пальцы покатились ледяные капли.
– Сережа, ты сумасшедший! – счастливо и вместе притворно-сердито говорила Ксения.
– Ну и что же?! – смеялся тот. – Вот возьму и проторчу всю ночь у твоих окон! Буду стоять и петь, чтобы тебе веселее спалось.
Там долго длилось молчание. Наконец раздался вздох и шепот:
– Теперь иди.
– Нет, не отпущу! Всю ночь будем бродить.
Ветер приоткрыл калитку. Проехавший грузовик фарами высветил Ксению и молодого парня. Их тени пронеслись по земле. Полина Петровна вздрогнула, рука ее скользнула по мокрому стволу. Из темноты возник… Федя Крюков! Тот, далекий, который, бывало, выйдет на улицу – и ровно бы солнце появится. Тот, с которым песни пела.
И у этого парня та же стать, та же осанка. А может быть, ей почудилось, что он так похож на Федю? Ведь фары светили в молодое, гордое лицо только миг.
– Сумасшедший! Уходи! Мама же сердится! – смеялась Ксения.
– Почему сердится? Пойдем, я скажу ей спасибо за такую дочку! Хочешь, на колени встану перед ней?! Хочешь?!
Полина Петровна шершавой ладонью провела по лбу. И вдруг как-то всей душой, всем телом вспомнила, ощутила, почувствовала это молодое счастье, этот порыв сердца. И у нее такое же было. Хоть потом и надругались над этим, но все же оно было. Вот так и она стояла с Федором.
Теперь Полина Петровна услыхала далекую, с площади, музыку.
Где-то прогромыхал грузовик, и ей представилось, как он разбрызгивает раскисший снег. Снег шлепается в стены, в заборы и прилипает ошметками.
Услыхала, как ветви стегают по ставням, по забору, по крыше.
Услыхала, как булькает под трубой, как журчит у забора, как шлепнулось у кадушки, как льется из дырявых водосточных труб.
Увидела на вербе множество плюшевых шишечек и множество капель. Они едва уловимо светились, отражая звездный свет.
Иногда слышался тончайший стеклянный звон – на сугробе опадало ледяное кружево, под которым была пустота. Девчонкой она подсовывала руку под такую корку.
Серый, тощий снег таял от ветра неудержимо. Там и сям проступали островки сухой земли. Они пахли волнующе, как разломленный гриб. Днем Полина Петровна видела на них маленькие следы детей. И теперь это было для нее как цветы на летних полянах.
«Да что же это я, старая хрычовка! – подумала Полина Петровна. – Разве жизнь может остановиться?» Сжав зубы и вздрагивая плечами, она осторожно, бесшумно пошла в дом, наступая в лужи с утонувшими трепещущими звездами.
1956
Тарелкин за облаками
Директор мебельной фабрики Тулупников собирался домой обедать. Он складывал в стол служебные бумаги. В открытое окно кабинета из цехов доносились храп пилы, стукотня молотков, завывание моторов. Со двора пахло смолистым деревом, опилками.
На грузовики взваливали новенькие столы, стулья, кресла, сверкающие зеркалами шифоньеры. От зеркал через весь двор проносились огромные и ослепительные, как само солнце, «зайцы». Иногда зеркала взрывались снопами сияния.
– Осторожнее! Не бревна грузите! – сипло кричал начальник заготовок и сбыта.
Под окном раздались мужской хохот и женский визг.
– Оставь прихоть – ешь курятину! – кричал шофер Коля Тарелкин.
– Ишь, дерет глотку, – проворчал Тулупников.
Он как-то видел своего шофера на пляже. Тарелкин был весь в татуировке. Во всю грудь размахнул крылья голубой орел. На животе изображена бутылка, из которой лилась в стакан синяя струя водки, а на спине – голая русалка. На ногах выколоты слова: «Они устали», на руках: «Ты, работа, меня не бойся: я тебя не трону», на плече: «Не забуду мать родную». На левой руке по букве на пальцах: «Л-е-н-а», а на пальцах правой: «К-о-л-я».
Шофер он был первоклассный, но лихач неисправимый. Он терпеть не мог тихой езды, а тащиться в хвосте у другой машины считал для себя просто унизительным. Если же кто-нибудь обгонял его, он видел в этом оскорбление. Даже зубы стискивал. Даже багровел.
В общем, он озоровал на дорогах, и ездить с ним было жутковато.
Тулупников, не вставая из-за стола, крикнул в окно:
– Тарелкин!
– Я, как всегда, на посту, Пал Николаич! – лихо откликнулся шофер.
– В кабинет! – скомандовал Тулупников.
Тарелкин крякнул, какая-то девчонка ехидно захихикала.
Дверь вкрадчиво визгнула, и в кабинет, чуть косолапя, вошел коренастый крепыш в клетчатой ковбойке с засученными рукавами, в синей спецовке с лямками через плечи и с перехватом на груди. Два нашивных брючных кармана оттопырились, набитые красными яблоками. В третий карман на груди был втиснут томик Джека Лондона. За ухо заложена лиловая астра, за другое – папироса, а под кепку подоткнут карандаш.
Коричневые глаза Тарелкина, обычно плутоватые, озорные, сейчас сияли детски кротко, невинно. И все скуластое, монгольское лицо сделалось простоватым, добродушным. «Простак от хитрости», – подумал Тулупников и подчеркнуто любезно спросил:
– Может быть, вы соизволите, многоуважаемый Николай Дмитриевич, объяснить мне: что вы там вытворяете?
– Где? – наивно и кротко спросил Тарелкин.
– За окном, если изволили не забыть.
– Ах, за окном? Да проводил культработу с девчатами! Темный народ! – Тарелкин добродушно ухмыльнулся.
– A-а, вы, значит, просветитель. А я и не подозревал у вас таких талантов! – Тулупников ядовито улыбнулся, изогнув одну бровь. – Послушайте, уважаемый товарищ Тарелкин! А не кажется ли вам, что человеку присуще иногда иметь ум? А? Особенно если мудрая природа отпустила ему уже двадцать один год!
– Правильно, Пал Николаевич, правильно! Конечно, пора уже оставить прихоть и есть курятину, – смиренно и простодушно согласился Тарелкин.
Разными интонациями он придавал своей любимой поговорке любой смысл.
– Ведь кое-кем из сидящих за рулем уже давненько интересуется вся милиция. На днях вы, осмелюсь напомнить, опять учинили небольшой шум в ресторане!
Тарелкину доставляло удовольствие следить, как начальство плетет замысловатые кружева из ехидных слов. «Ишь, как насобачился, удав!» – восхищался Тарелкин. Его пушистые брови весело дрожали.
– Так вот, пусть некто, сидящий за рулем, зарубит себе на носу: если подобное повторится – он вылетит из-за руля, как пробка из бутылки шампанского!
У Тарелкина на лице появилось самое искреннее раскаяние. Он мог сейчас даже всхлипнуть.
Тулупников резко приказал:
– Поехали!
«Кикимора ты!» – мысленно сказал ему Тарелкин, облегченно вздохнул и вышел. Он сунул в рот стебельком астру, прыгнул на перила, лихо съехал на первый этаж, идя через двор к «Победе», мимоходом растрепал девушке прическу, щелкнул по лбу пробегавшего мальчишку, бросил сторожихе яблоко и, насвистывая, сел за руль.
Пока Тарелкин ожидал начальство, ему вдруг стало неимоверно скучно. Во всех мускулах и даже в душе он испытывал раздражающий зуд, томление. Захотелось опять что-нибудь выкинуть. Подраться, что ли! Или газануть через весь город так, чтобы прохожие шарахались, а куры комками перьев вылетали из-под колес.
Тарелкин даже завозился на сиденье, сплюнул сквозь зубы в открытое окошко, ловко попав в воробья. Эх, осточертела эта кислая жизнь, застегнутая такими вот начальничками на все пуговицы! И чувствует Тарелкин, что, пожалуй, вот-вот взбунтуется и так поведет плечами, что полетят к черту все пуговицы! Хорошо, что завтра начинается отпуск.
Клацнула дверца. Тарелкин хмуро следил за Тулупниковым, глядя в круглое зеркальце над рулем. Сразу же дал скорость и метеором вырвался с фабричного двора.
– Может быть, где-нибудь случился пожар, уважаемый водитель, а я пожарник и вы торопитесь доставить меня? – затянул свое Тулупников.
Тарелкин вздохнул, сбавил скорость, вяло покручивал руль. Высадив начальника у дома с зелеными воротами, он рванул обратно. На тротуаре, вытирая со лба пот, стоял мужчина около двух чемоданов. Тарелкин затормозил.
– Э, подбросить?
Узнав адрес, он воровато оглянулся и показал все десять пальцев. Мужчина кивнул.
Потом Тарелкин три раза сгонял на базар и перевез трем женщинам картошку.
Однажды он видел в кино, как негр-шофер мчался, правя ногами. Это его восхитило. Но у «Победы» руль был слишком высоким, и поэтому Тарелкин овладел искусством негра только наполовину. Когда перевозил третьей женщине картошку, правя левой рукой, ловко забросил на руль одну ногу и, грызя яблоко, мчался, напевая:
Посмотри-ка, приехал Чико,
Этот Чико прибыл к нам из Порто-Рико!
Чико-Чико из Порто-Рико!
У него в петлице алая гвоздика!
Испуганная женщина замерла. А когда остановились у ворот, облегченно вздохнула:
– Ну и лихой ты парень!
Влетев с отчаянными гудками на фабричный двор, Тарелкин остановил автомобиль, хлопнул по голове, где под кепкой лежал комок денег, подмигнул в зеркальце:
– Ловкость рук и никакого мошенства!
Выдернул из кармана томик Джека Лондона и лег на сиденье, закинув ногу на ногу.
* * *
Мать пришла из леса, принесла корзину груздей. Сейчас она, сидя на крыльце, мыла их в тазу. Большие скользкие грузди до странного походили на свиные опаленные уши. Старуха солила их только в новолуние ранним утром на тощак. Это у нее такая примета: груздь вкуснее будет.
– Опять потащился до утра куролесить! – заворчала она. – Хоть бы помог по хозяйству. Заборишко вон едва держится, ставни болтаются, калитка еле дышит!
– Ладно, ладно! – отмахнулся Тарелкин. Он из умывальника, привешенного к забору, мочил лохматые волосы. Причесавшись, нарядился в новые светлые брюки, в спортивную, из синего вельвета, куртку с «молнией».
В калитку заглянул Ванюшка. Он обладал здоровенными ручищами, широченной грудью, железными мускулами и совсем мальчишеским, даже нежным лицом. В школе он учился вместе с Тарелкиным, но, когда ухитрился остаться в шестом классе третий раз, ушел из школы и теперь работал грузчиком на мебельной фабрике. К любой учебе он испытывал просто отвращение.
Сейчас Ванюшка явился к Тарелкину щеголем. В кармашек черного пиджака он затолкал вишневый георгин. У лепестков были белые кончики – от этого георгин казался седым.
– Опять налакаетесь, зальете глаза! – закричала мать.
– Что вы, что вы, мамаша! За кого вы нас принимаете? – изогнулся Ванюшка. – Культурненько потанцуем и – домой.
На тротуаре ждал краснодеревщик Юрка. Его очень ценили на мебельной фабрике. Этот губастый разбитной парень в парусиновом костюме, несмотря на свои девятнадцать лет, был скуповатым и хозяйственным и уже копил деньги для будущей женитьбы. А жениться он запланировал в тридцать лет.
– Куда двинем, шарлатаны? – спросил Тарелкин. Он высоко подпрыгнул, сорвал ветку над головой.
– Сначала завалимся в «забегаловку», если у вас есть гроши, а потом в сад, – предложил Юрка.
Стояли тихие сумерки. В палисадниках клубилась желтеющая, но все еще пышная зелень. Деревья шапками листвы переваливались через изгороди, как переваливается букет через края кувшина. Сады оцепенели, точно к чему-то прислушивались. Из палисадников так крепко пахло душистым табаком, что казалось: еще миг, еще усилие – и глаз увидит клубящийся запах.
Тарелкину было необыкновенно хорошо. Заложив руки за спину, он тихонько шел, насвистывая.
В «забегаловке» толпились люди, тускло горела единственная лампочка, в клубах дыма кто-то хрипло ругался. Стоял противный запах водки и соленой рыбы. Тарелкин взял три стакана водки и три кружки пива. Пена шапками оплывала через края тяжелых кружек, шмякалась на пол белыми лепешками.
– Поехали за орехами! – чокнулся с приятелями Тарелкин и, содрогаясь, начал пить. – Ну, сила! – с трудом выдохнул он и минут через пять скомандовал: – А ну, ребята, слушай сюда! Двинем еще!
– У меня в кармане – вошь на аркане, – торопливо объявил Юрка, незаметно щупая пачку денег. Он сегодня получил за стеллажи, сделанные известному в городе профессору.
– Ерунда! Я плачу! Шофер всегда с деньгами!
– Глотаешь рубли, а выплевываешь полтинники? – бросил старик с желтыми от курева усами.
– Деньги что голуби: улетят – прилетят! Иди, папаша, хлебни с нами! – и Тарелкин браво хватил:
Милый Чико! Этот Чико
Прибыл к нам из Порто-Рико,
Сколько блеска, сколько шика,
У него в петлице алая гвоздика!
Хохоча, вывалились на улицу.
Из мрака доносилось грозное погромыхивание. Тарелкин на миг подумал, что хорошо бы сейчас всем сидеть на крыльце, следить за молниями и рассказывать что-нибудь такое, от чего дух захватывало бы. Но приятели, шатаясь, побежали к трамвайной остановке. Трамвай был полон: люди стояли даже на ступеньках.
– Вперед! На штурм! – закричал Тарелкин. Он пытался пристроиться на подножке.
– Колька! Брось! Сорвешься, гад! – орали Ванюшка и Юрка.
Трамвай резко дернулся, и вся толпа ахнула: Тарелкин свалился. Трамвай потащил его, и у всех перехватило дыхание. Чудилось, что колесо уже отхватило ногу Тарелкину, потом руку, а вот и… Но трамвай ушел, а Тарелкин поднялся на колени, сплюнул и высморкался. Толпа ринулась к нему.
– Колька?! Жив?! Здоров?! – кричал Ванюшка бабьим голосом, ощупывая ему руки и ноги.
– Оставь прихоть – ешь курятину. – Тарелкин выдавил улыбку на спекшихся губах. Он уже протрезвел и весь дрожал.
Ванюшка отер со лба пот и неожиданно, от всей души, влепил Тарелкину оплеуху. Другую припечатал Юрка.
– Без руки мог остаться! Без ноги! – сыпались на него затрещины.
Избивали от радости, от облегчения, оттого, что заставил пережить эти сумасшедшие секунды. А Тарелкин мотал головой от оплеух, смеялся, и по щеке его сползали слезинки. Так ему, балбесу, и надо, так и надо! Эти удары даже доставляли удовольствие.