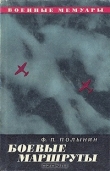Текст книги "Листопад в декабре. Рассказы и миниатюры"
Автор книги: Илья Лавров
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 32 страниц)
Надины яблони
Когда Андрей Петрович и Верочка пришли с кладбища, комната показалась им холодной и пустой.
Верочка, семнадцатилетняя, худенькая, не снимая пальто, из которого успела вырасти, опустилась на кровать. Андрей Петрович медленно стянул с себя синий плащ, повесил у дверей на гвоздь.
Андрею Петровичу сорок шесть лет. Он уже лысый, и только на затылке остались светлые волосы. На измятом, бледном лице посверкивают очки. К морщинистому лицу никак не подходит еще по-молодому стройная фигура.
Он судорожно потер щеки: не верилось, что навеки ушла Надя, жена.
Андрей Петрович осмотрел комнату и поднял с пола пестрый поясок Нади, бережно повесил на спинку стула. На проволочных плечиках в углу висят ее платья. На вешалке – коричневое пальто, от него еще пахнет духами. На столе лежит голубая расческа, тетрадка с последней ролью из комедии «Свадьба с приданым» и катушка черных ниток с воткнутой иголкой. Как будто вышла хозяйка за хлебом в магазин и вот-вот вернется, примется стряхивать с шапочки дождинки, весело скажет:
– Ну, заждались? Сейчас разогрею, будем обедать. Опять очередь в магазине!
Андрей Петрович глянул на ссутулившуюся Верочку, – она смотрела в пол, ничего не видя, – сел рядом, обнял. Верочка прижалась, закрыла глаза, а он, как маленькую, качал ее, убаюкивал.
– Разденься, – шепнул он.
Верочка не ответила.
Андрей Петрович расстегнул пуговицы на ее пальто. Она с усилием поднялась, и он снял пальто. Верочка опять опустилась на кровать, сбросила сырые туфли, испачканные кладбищенской глиной, и легла. Андрей Петрович укрыл ее, сел рядом. Измученная Верочка сразу уснула.
Темнело. Летели птицы на юг. Грустно было слышать их тревожные крики в темном небе, их посвисты, зовы, шум крыльев. Холодный ветер с гор зацепил под окном за куст газету, яростно трепал, и она, треща, облепила полуголые сучья.
Андрей Петрович тихо поднялся, закурил старую трубку и принялся ходить, не зажигая света. Он ходил и вспоминал Надю.
Вышла она замуж рано. Вскоре у нее родилась Верочка. Муж ее, Милованов, оказался человеком сухим, ревнивым. Он требовал, чтобы Надя бросила сцену и сидела дома. Ему, инженеру, было непонятно, почему театр занимал главное место в ее жизни.
Надя была зеленоглазая, с жесткими прямыми волосами, которые приходилось всегда завивать. У нее была фигура спортсменки.
Встречаясь с Надей, Андрей Петрович начинал неудержимо улыбаться и поправлять галстук и очки. Ей было двадцать пять лет, а ему тридцать шесть. Он приносил ей за кулисы цветы и ничего не говорил.
Однажды в яркий майский полдень Надя встретила его в парке меж серебристых елей. Андрей Петрович был мрачен: в газете разругали его за последнюю роль. Смеясь, Надя сказала:
– Есть такие чудаки: неувязка по работе – им жизнь отвратительна, не хватает зарплаты – жизнь ни к черту, подметку оторвал – на белый свет глаза бы не смотрели. Жизнь коротка, а они бормочут: «Боже, как тянется время!», «Прямо не знаю, как убить время!», «Ну, слава богу, прошел день». Кощунство, Андрюша! Ведь всего лишь неделю назад кончилась война. Ну, что значит твое огорчение рядом с этим? Мир, цветы, птицы!
Андрей Петрович ласково улыбался.
– Большая ты любительница жизни!
– Грешна. Люблю.
– Кого?
Он серьезно и нерешительно смотрел на нее. Она взяла его за борт пиджака.
– Ты, Андрюша, прежде чем поцеловать женщину, начнешь, наверное, уныло решать мировую проблему: «Поцелуй и вселенная», «Поцелуй и его последствия».
Он поправил очки и смущенно полез за трубкой. Тогда она сама зажала его голову в крепкие ладони и поцеловала. А он стоял, разведя руки и держа в одной трубку, а в другой спички.
– Неужели я нужен тебе? – изумился он.
Зеленые ящерицы шмыгали в траве и грелись на белых камнях. Ели разморились под солнцем. На паутины между их лапами нацеплялись капли смолы. Паутины провисали, как янтарные, липкие бусы. В гуще ветвей пискнула, точно мышонок, птаха, по клумбе пламя лилось – красные цветы клонились под ветром. Толстая девочка в голубых трусиках пробежала за бабочкой. Облака были по пояс белым горам.
И все это подарила ему Надя.
Они брели среди лип и груш, густо набитых теплой листвой. Он молчал, она пела «Сулико». Ленточкой с головы привязала к палке отвязавшийся кленок. Молоденький воробышек сорвался с каштана, порхал в траве. Надя поймала, попоила изо рта, подбросила на верхние ветви…
Милованов не дал развода… Андрей Петрович не смог зарегистрироваться с Надей и удочерить Верочку. У нее осталась в метриках фамилия отца. Скоро Милованов переехал в Грозный, где, как он сказал знакомым, «для человека лучше материальная база». Андрей Петрович запомнил восковое, холодное лицо с горбатым носом и ненавидящими глазами.
…Верочка застонала во сне, Андрей Петрович вздрогнул, включил свет и подошел к ней.
Так стали они жить вдвоем.
С утра Верочка уходила в школу, Андрей Петрович – на репетицию, потом встречались и шли в столовую. Вечерами Андрей Петрович был занят в спектаклях, а Верочка, боясь пустой комнаты, сидела у хозяйки и готовила уроки.
Обледеневшие листья, срываясь с каштанов, гремели по сучьям, как жестяные. На юг улетали жирные перепелки. Они летели низко, во тьме ударялись о провода, трепетали на дорогах. Мальчишки собирали их в корзины.
Однажды, придя с репетиции, Андрей Петрович сидел у окна и, поджидая Верочку, читал газету. В дверь постучали, вошел, шелестя плащом, высокий худой мужчина. Андрей Петрович сразу узнал восковое, высохшее лицо и холодные глаза. Не здороваясь и глядя мимо, Милованов сказал:
– Я к вам по делу. Мне сообщили, что Надежда Николаевна умерла.
Он помолчал, расстегивая плащ, потом так же молча спять застегнул.
– Я пришел к выводу, что мой долг забрать к себе дочь. С родным отцом ребенок не сирота.
Андрей Петрович резко повернул голову, но сдержался и тихим, чужим голосом проговорил:
– Девочка отвыкла от вас. Она потеряла мать. Ей легче будет со мной.
– Я не имею никакого морального права доверить своего ребенка вам, – жестко возразил Милованов, – я не знаю, что вы за человек и какой образ жизни ведете. Девочке нужно переменить обстановку.
Их глаза встретились враждебно.
– Как решит сама Верочка, – ответил Андрей Петрович, отвернулся и принялся читать.
В это время вошла Верочка с потертым портфелем в руке. Взглянув на Милованова, она растерялась. Верочка не знала, что ей делать. Глянула быстро на Андрея Петровича, – он ободряюще улыбнулся.
– Что, не узнала отца? – спросил Милованов, с интересом разглядывая дочь. – Ну иди же, поцелуемся.
Верочка покраснела, смущенно подошла. Когда Милованов целовал, губы ее не шевельнулись. У отца рот был обветренный, жесткий, чуть колючий.
– Как живешь?
– Ничего, – тихо ответила Верочка. – Садитесь.
Милованов сел у стола.
– Садись и ты.
Верочка присела на краешек стула. Отец был в плаще, от которого пахло резиной, она – в пальто, с портфелем на коленях.
Верочка умоляюще глянула на Андрея Петровича, но тот облокотился на подоконник, не отрывался от газеты.
Милованов рассказывал, зачем он приехал, а Верочка испуганно смотрела в сторону.
– У меня жена, она славная, добрая, значит, у тебя будет мать, – закончил Милованов. – Согласна?
– Я… не знаю, – пробормотала Верочка, а сама напряженно слушала, как зашуршала газета в руках у Андрея Петровича, как скрипнул стул под ним, как долго чиркал спичкой – не мог прикурить.
– Я не знаю, – уже решительней и торопливей проговорила она, глянула на отца и растерянно прошептала: – Я… подумаю.
– Проводи меня, – поднялся Милованов и, даже не взглянув на Андрея Петровича, вышел. Верочка нерешительно пошла за ним, прижимая к груди портфель.
– Не забывай, что я тебе родной отец, – наставлял Милованов, шагая степенно, – по всем законам и документам ты ничего общего не имеешь с этим человеком. Я высылал деньги на твое воспитание и никогда не отказывался от тебя, так же, как и ты, по всей вероятности, от меня.
Слова эти не нравились Верочке. Но потом отец заговорил теплее о своей близкой старости, о том, что он всегда помнил ее, любил, и ей стало жаль его.
– Пойдем ко мне в гостиницу, ночуй у меня, – ласково предложил Милованов.
– Нет, нет, я не хочу, я домой, – вырвалось у Верочки. – До свиданья!
Готовя уроки, а потом лежа в кровати, она все думала об отце. Ей было стыдно отказать ему, и в то же время она не находила сил расстаться с Андреем Петровичем.
Тот слышал, как она потихоньку всхлипывала. Он сжался в клубок под одеялом, сунул голову под подушку.
На другой день, погладив ее по плечу, Андрей Петрович сказал:
– Решай, Верочка, сама. Не думай обо мне. Совсем не думай. – Но он понимал, что она только о нем и думала. – Нужно сделать так, чтобы тебе жилось лучше. А я… ничего. Будет хорошо тебе, значит, будет хорошо и мне.
– А ты… как все-таки считаешь ты? – волнуясь, допытывалась Верочка. – Ехать или нет?
Андрей Петрович представил себе лицо Милованова и задумчиво сказал:
– Нет.
Верочка облегченно вздохнула и решительно пошла в гостиницу, но, лишь увидела отца, растерялась.
– Я, папа… Не бери меня сейчас… Потом… на будущий год… – проговорила она и покраснела до слез.
Милованов сурово сдвинул брови и резко, твердо сказал:
– Больше я не прошу. Сегодня же собирай вещи. Завтра едем. Я требую.
Верочка растерянно стояла посреди номера.
Вечером она сказала Андрею Петровичу, что уезжает с отцом.
– Ну вот… Ну, вот и решила! Может быть, тебе и лучше будет. И уже не волнуйся, не мучай себя! – нежно и весело проговорил Андрей Петрович, но Верочка увидела, как у него вздрогнуло и побелело лицо. Улыбался, помогал укладываться, шутил, а сам, начиная говорить, забывал мысль, тер переносицу:
– О чем я начал? Ах, да… главное – береги здоровье!
И чем больше он старался быть веселым, тем страшнее становилось Верочке.
В то утро за окнами было чудо: алые розы цвели в снегу. Снег нагрянул в полночь, и пылающая белизна его под ослепительным солнцем была вся забрызгана огненными пятнами. Листья застыли, поголубели, стали цинковыми. Тронешь куст – и они загремят.
Самые поздние цветы в Кабарде – дубки. Они и в снегу еще цвели – белые, лиловые, похожие на мелкие астры. Андрей Петрович нарвал их, отряхнул снег с букета и принес на вокзал Верочке.
Обнимая Андрея Петровича на мокром перроне, она всхлипывала и шептала:
– Все равно я к тебе вернусь. Не забывай маму. Ты самый для меня родной…
Когда Андрей Петрович пришел домой, ему показалось, что шаги в комнате звучат гулко.
«Не смог, не сумел отстоять…» – думал он.
За окном листья роз под солнцем уже отмякли, задымились. На лучистые сугробы выпадали темные лепестки, обваренные ночным морозцем.
…Теперь Андрей Петрович постоянно думал о старости, об одиночестве, о смерти. Исчезли для него небо, солнце, люди, цветы. Товарищи заговаривали с ним, звали в гости, шутили, – он молча сторонился всех. Во время репетиций ходил и ходил по фойе, заложив руки за спину, и все думал о том, что смерть всесильна, а жизнь мимолетна и хрупка.
Ночами просыпался, и становилось страшно. Где те, кого он любил. Пустынны улицы. Слышно было, как рядом с киоском, заколоченным крест-накрест досками, на голой акации гремели под ледяным ветром высохшие стручки с семенами.
И Андрей Петрович вспоминал. Весна. Он смотрит в окно. В саду Надя сидит на корточках в его рваных туфлях на босу ногу, в стареньком вылинявшем платье, с платком на голове. Она поет, разминает черными пальцами землю, делает клумбу.
– Я ведь крестьянка, в деревне родилась! Отец у меня председатель колхоза! – кричит она. – Не актриса твоя жена, а скорее агроном. Вот мои три яблоньки! Видишь? – и вытирает нос рукой, чистым местом в сгибе. – Я и лошадь могу запрячь, и хлеб посеять, и с коровой управиться!
– А на сцене графиню сыграть! – смеется Андрей Петрович…
У Нади оказалось больное сердце. Врачи запретили жить на Кавказе, и они уехали в Белоруссию, потом в Фергану. И в Белоруссии и в Фергане посадила Надя яблони. Везде, где она жила, она оставляла на память яблони.
И еще вспоминает Андрей Петрович: бывало, порой мрачнел от нехваток, а Надя смеялась: «Не вешай нос!» И он тоже начинал улыбаться. Бывало, порой приходила трудная работа, боялся ее, а Надя кивала: «Смелее!» Он брался, и все получалось.
Ушла молодость, их потянуло в Нальчик. Этот город был для них особенно дорогим. Здоровье у Нади стало как будто лучше, и они решили вернуться.
Поселились на старой квартире.
– Смотри, яблони уже большие! – радовалась Надя. – Боже мой, какие яблони. Милые! – Она была актрисой и все переживала острее других.
– Идем, идем, – тащила Андрея Петровича за руку, – встретимся с нашим городом!
Она помолодела, щеки разрумянились, двигалась стремительно.
И вот он, парк. Бушевали под ослепительным солнцем могучие заросли деревьев, кустов. Парк дышал на город цветами и травами. Вздымались снежные цепи хребта, то белые, то алые, то золотистые, то голубые. Каждый час дня клал на горы свои краски.
Надя плакала, смеялась, гладила старые скамейки, ствол толстой ели, – здесь они однажды решили свою судьбу.
В Нальчике, среди гор, Наде стало хуже. По утрам опухали руки. Но она много работала, удачно сыграла Варвару в «Грозе», начала репетировать Ольгу в «Свадьбе с приданым». Она весело говорила:
– Мы ведь, Андрюша, счастливые, только сами этого не понимаем. Войны нет, в магазинах сколько хочешь хлеба, мы здоровые, молодые, работаем, сияет солнце, вокруг цветы!
На репетиции с ней случился сердечный припадок. Андрей Петрович испугался. На такси привез ее домой. Помог подняться на крыльцо. Она остановилась.
– Андрюша, смотри, какие георгины, мои георгины, – показала она под окна, – белые, вишневые, последние. Люблю. А яблони! А белые горы! Какие горы! И люди…
Внезапно пошатнулась. Андрей Петрович подхватил, прижал к себе. Лицо ее побелело, а глаза, которые уже не видели, все пристально смотрели на горы, губы, которые уже не шевельнутся, все улыбались…
Андрей Петрович торопливо наливал в стакан водку, жадно проглатывал, закуривал. По заколоченному киоску стегали ветви. Черт с ней, со смертью! Думать о ней – значит умереть, будучи еще живым. Последние слова Нади: «А яблони! А белые горы! И люди…» Никогда не думала она о смерти, не отдала ей ни одной секунды. Мгновенно забылась – и все.
Андрей Петрович пьянел и засыпал.
А на другой день опять ходил по фойе, заложив руки за спину.
Андрей Петрович был хороший комедийный актер. Но неожиданно ему не удалась знаменитая роль Аркашки Счастливцева в «Лесе». Он был не смешной, все делал принужденно, искусственно. А когда стал репетировать вторую роль, все поняли: он погас. Так бывает: внезапно гаснет актер, словно огонек костра, залитый водой. Выходил Андрей Петрович на сцену мертвый, тусклый, и зрители отвечали холодом…
Однажды весной Андрей Петрович пришел с репетиции к себе в комнату и, открыв дверь, остановился пораженно.
Перед ним стояла чудом воскресшая молодая Надя. То же красное платье в белый горошек с рукавами до локтей, те же зеленоватые глаза, немного восторженные, немного удивленные, те же пухлые губы, фигура спортсменки.
Андрей Петрович закрыл глаза, открыл – это была Верочка. За зиму она повзрослела, расцвела.
Андрей Петрович протирал очки, но видел все хуже, а Верочка уже исчезла. Он растерянно оглядывался, и тут налетела она, обхватила. И когда он обнимал Верочку, ему все казалось, что он обнимает Надю. Глаза вновь стали плохо видеть. Он схватился за очки и бормотал несвязно:
– Приехала? Как же ты? Приехала! Какая ты стала… А я вот…
– Я все время мучилась – зачем оставила тебя. Очень мучилась, – Верочка заглянула ему в глаза.
– Ничего, ничего, пустяки… Ты не могла иначе…
– Чужие они там, – грустно объяснила Верочка. – Я как маму вспомню, всегда рядом с ней стоишь ты. Только ты, а не… Но я не могла тогда остаться с тобой. Ты понимаешь?
– Да, да, успокойся. Успокойся.
И пока он смотрел на Верочку, пока говорил с ней, он все думал, что не умерла Надя, а живет юная, свежая, как десять лет тому назад. Только теперь зовут ее Верочкой. Не умирают в жизни. В ней только обновляется все. Как листва на деревьях каждую весну. Зачем же он отдал столько дней думам о смерти?
Верочка осмотрела холостяцкую комнату и вдруг заплакала. Андрей Петрович быстро ходил, пуская большими клубами трубочный дым, разгонял его рукой перед лицом и все время покашливал.
У открытого окна жужжала белая яблоня. Золотистые, лохматые пчелы клубились в ветвях.
– Мамина яблоня! – сказала радостно Верочка. Андрей Петрович остановился среди комнаты беспомощно. Верочка увидела на сорочке торчащую ниточку на месте пуговицы, небритые щеки. Когда он целовал, ей казалось: по лицу проводили щеткой. Сжала хрустнувшие пальцы и принялась прибирать в комнате, кипятить чай.
Андрей Петрович смотрел на нее: Верочка даже посуду мыла, как Надя.
– Ты не снишься мне, Верочка? – тихо спросил он.
Перед вечером небо завалили грозовые тучи. На черном фоне кружились два белых голубя, как две трепещущие бумажки. Стемнело. Подул ветер. Надины белые яблони клонились, осыпая лепестки. Защелкали в окна первые капли. Верочка вышла в сени, распахнула дверь, положила кирпич, чтобы ветер не закрывал ее, села на толстое полено. Андрей Петрович вышел к ней. Сверкнула молния, словно кто-то швырнул золотую ветвь во все небо. Андрей Петрович на миг увидел клубящиеся горы туч и оглох от грома. Дождь припустил вовсю. Во тьме шлепало, точно мальчишки бегали босиком по лужам.
Верочка любила грозу, как и Надя.
Хозяйка, пропахшая чесноком, накинув на плечи брезентовый дождевик, выносила из дому цветы.
– Дождик будто нанялся, господь с ним, – говорила она оживленно. – Давай, давай, давай, а то земля сухая!
Ветер перевертывал горшки, освеженные цветы лежали в пенных потоках. Верочка убежала в дом и выскочила оттуда босая, в стареньком белом платьице, сшитом еще Надей.
Андрей Петрович замечал все мелочи.
Вот, весело прыгая по лужам, Верочка принялась толкать под клокочущие трубы ведра и рассохшиеся кадушки. Струи певуче звенели о цинковые днища. Дождевик на хозяйке намок, торчал коробом, капли звучно щелкали по нему, как по фанере. Белое платье обклеило Верочку, с волос текло. Она, шумно дыша и отфыркивая струйки, бегущие в рот, гремела болтами, закрывала мокрые ставни. Три Надины яблони метались под ветром и дождем. Верочка подбежала, схватилась рукой за вырывающийся ствол, ее стегали белые пахучие ветви.
Андрей Петрович смотрел на белую девушку и белую яблоню за решеткой из полосок дождя. И это все была Надя. Сейчас, наверное, и в Белоруссии и в Фергане так же весело бушуют Надины яблони. Это была жизнь. На душе становилось ласково и светло. Он ушел в комнату, включил радиоприемник, сел бриться.
И вдруг радостно заволновался, вспомнив, что завтра будет играть в новом спектакле. Перед ним ярко вставала вся его роль, он шептал отдельные строки и чувствовал, что они наполняются трепетом.
А над землей шумел и шумел дождь.
В окна громко стучали белые ветви.
1954
Девушка с зонтиком
Вере БОКОН
Решили ставить пьесу «Любовь Яровая». Оформлять спектакль пригласили художника Звездоглядова. Он работал в соседнем городе. Лично знал художника только актер Андрей Калабухов.
Звездоглядов с вокзала пришел в театр. Он стоял посреди фойе, молодой, высокий, но уже лысеющий со лба, в белом шерстяном костюме, с соломенной шляпой в руке. Добродушно синели глаза. Широкий, мягкий и некрасивый нос не портил лица.
Мимо Звездоглядова пробежал мальчик с афишами под мышкой и с ведерком клейстера в руке. Шумно разговаривая, прошли электроосветители со шнурами и лампочками. Быстро прошагал взлохмаченный, усталый машинист сцены, ругаясь с кладовщиком и требуя гвоздей. Бутафор-старичок протащил яблоню. Цветы на ней были сделаны из ваты, а кора вылеплена из тряпок. Кричал помощник режиссера, собирая актеров на репетицию. В голубом фойе на блестящем, скрипучем паркете рабочие разложили декорации, расстелили полотно, и художник-декоратор в комбинезоне ползал на коленях, рисовал дворцы Неаполя. В углу два молодых актера в черных плащах сражались на шпагах. Из верхнего фойе неслись звуки оркестра, а из зала грохот молотков, – на сцене устанавливали декорации.
Неожиданно из зала вышел Калабухов. Звездоглядов узнал его сразу. Калабухов бросился к нему, они обнялись.
Калабухов был маленький и длиннорукий. Его пушистые каштановые волосы так блестели и отсвечивали, что казались порой седыми. На бледном худом лице горели черные глаза. Темный поношенный костюм был ему велик, брюки задевали землю, обтрепались, а рукава почти закрывали пальцы. Двигался Калабухов стремительно и, разговаривая, так усердно махал руками, как будто постоянно спорил.
Он тормошил художника:
– Да где же ты остановился?
– Еще нигде. В гостинице, конечно, придется, – с доброй улыбкой отвечал Звездоглядов.
– Какая там, к дьяволу, гостиница, – возмутился Калабухов, – у меня остановишься!
Звездоглядов засмеялся.
– Ты все такой же… неудержимый!
Ему все нравилось в Калабухове и даже то, что он такой некрасивый и что на нем, как и прежде, нескладный костюм, – ведь Калабухов был частицей его прошлого. Они вместе начинали работу в ферганском театре и прожили в одной комнате пять лучших молодых лет.
В конце фойе показалась девушка.
– А вот и дочка Солонина, режиссера нашего, – проговорил Калабухов с особой теплотой. – Любимица театра.
Калабухов ласково поманил ее рукой. Девушке было не более восемнадцати лет. Она шла и медленно вертела на плече красный плоский зонтик. Под лучами солнца он пылал огнем, бросая на белое платье розовый отсвет. На груди девушки резко чернели пушистые косы. Звездоглядову понравились ее мягкие, горделивые движения. Но особенно заинтересовали большие серые глаза на подвижном, почти детском лице. Они смотрели очень пытливо, настороженно.
– Домой идешь? – спросил Калабухов, улыбаясь и показывая на дверь.
– Д-да, – с запинкой, словно чуть заикаясь, неуверенно ответила девушка.
– Познакомься: художник Юрий Григорьевич Звездоглядов.
Девушка вопросительно посмотрела на Звездоглядова, протянула руку, глухо произнеся не то с легким акцентом, не то косноязычно:
– Тамарра, – и быстро перевела взгляд на губы Звездоглядова.
Он с интересом спросил:
– Вы актриса?
– Нет, – возразила неуверенно Тамара, настороженно глядя в лицо художника.
В это время из зала выскочил растрепанный сутулый старик в черной толстовке и, потрясая книгой, сдавленным голосом закричал:
– Калабухов! На выход! Реплика уже, безобразие! – и ринулся обратно в зал.
Калабухов бережно тронул Тамару за плечо, – она оглянулась.
– Подожди. Вместе пойдем! – Он бросился на сцену.
– Опоздал, – усмехнулся Звездоглядов. – Сядемте?
Тамара продолжала стоять.
– Если не спешите, сядемте, – повторил Звездоглядов, показывая на диван.
– Благодарю, – Тамара сложила зонтик и опустилась на тугой диван.
– А где же вы работаете? – спросил Звездоглядов.
Тамара не ответила. Художник удивленно осматривал ее.
Белый театр стоял среди большого парка. Снаружи к огромным, от потолка до пола, окнам тянули лапы серебристо-голубые ели. На них сыпался крупный «слепой» дождь, струйки мелькали, словно велосипедные спицы. Тамара облокотилась на валик дивана и неподвижно, не мигая, смотрела в окно.
– Вы где работаете? В театре?
Но девушка опять не ответила.
Звездоглядов смутился.
Тамара не спеша, мягко повернулась, взглянула на него.
– Простите, но почему вы не отвечаете?
– Сказали что? – спросила она, сильно шевеля губами и чеканя каждый слог.
– Я спрашивал, где вы работаете?
Она глядела напряженно, сурово и вслед за ним шевелила губами, как будто беззвучно повторяя то, что говорил он, и вдруг совсем по-детски обрадовалась:
– Работа? Театр… Портниха…
Говор ее был монотонный, иногда она делала неправильные ударения.
Прибежал, тяжело дыша, Калабухов.
– Ну, познакомились? Хорошая девушка, правда?
Звездоглядов сдвинул брови, – дескать, неудобно.
– Да ты не волнуйся. Она же не слышит. Глухонемая. Хотя теперь, пожалуй, к ней это название не подходит. Раз говорит – значит, какая же немая? – задумчиво объяснял Калабухов.
– Позволь, да как же она понимала меня? – поднялся пораженный Звездоглядов.
– По губам.
– Каким же образом?
– Да ведь губы-то для каждой буквы складываются по-разному? Правда? Она изучила это и читает по ним. Это целая наука. Их обучают в специальных школах. Тамара получила среднее образование, профессию. Портнихой работает у нас в костюмерном цехе. И, надо сказать, хорошая портниха.
Тамара взглянула подозрительно и нахмурилась, – поняла, что говорят о ней…
Калабухов привел художника в большой фруктовый сад, где стояли два старых дома. В одном доме жила Тамара с отцом и матерью, в другом – Калабухов.
В его комнате – скрипучая кровать, накрытая одеялом из шинельного сукна, два стула и стол, застеленный афишей. Над ним лампочка, обернутая куском подгоревшей газеты. На столе замасленная коробка грима, баночка вазелина и оторванный рукав от старой сорочки – разгримировываться.
Несмотря на холостяцкую бедность, комната показалась Звездоглядову уютной. Два открытых окна выходили в сад, в комнате было много солнца и цветов. Цветы стояли в стеклянных банках с наклейками: «Фасоль в томате», «Кабачковая икра», «Варенье».
– Послушай, а я тебя не стесню? – заботливо спрашивал Звездоглядов, раскрывая кожаный чемодан.
– Чепуха, – весело кричал Калабухов, втаскивая деревянный диванчик, – ты ляжешь на кровати, а я на этом сооружении. И не спорь, пожалуйста!
Вечером выпили бутылочку вермута, и художник стал показывать уже сделанные эскизы к оформлению спектакля «Любовь Яровая». Калабухов хвалил, и Звездоглядову было приятно слушать его.
Началась шумная гроза. Вспыхивали молнии, стекла дребезжали от грома, плескался дождь, и шумел ветер. Он мотал тяжелые ветви яблонь. Звездоглядов и Калабухов слушали, как они стукали яблоками в стены. Яблоки ударяли в железную крышу, скатывались в лужи под окнами или застревали в желобах, и вода бурлила через них. Одно залетело в водосточную трубу и загремело сверху вниз, булькнуло в бочку.
Звездоглядов снял пиджак, повесил на спинку стула. Он ходил по комнате и ел большую маслянисто-мягкую грушу. На ней от пальцев оставались вмятины. Художник вслух вспоминал, как они жили в Фергане лет десять назад и Калабухов покупал вместо носков женские чулки, а когда они протирались на пятках, подворачивал их. Вспоминал, как они влюблялись, спорили об искусстве, шумели на собраниях и жадно работали.
– Богатство наше было в душе у нас, – Звездоглядов потер руки, счастливо засмеялся и подошел к окну. – Гроза! Разве забудешь ее? И темный сад, и молнии над ним? И наши воспоминания, и тебя, и твою келью, и этот абажур из газеты?
Звездоглядов снова тихо засмеялся, чувствуя себя молодым, и с удовольствием поглядел на себя в зеркало над кроватью.
Калабухов смотрел на Звездоглядова ласково и рядом с ним сам себе представлялся некрасивым, неинтересным. Он прилег на диван, положил руки под затылок и с грустью уставился в потолок. Но тут же лицо его посветлело, он вскочил, – прибежала Тамара, укутанная в отцовский плащ. И хотя она набросила плащ на голову, он все же доставал до земли. Взглянув на Звездоглядова с любопытством, она сразу же застеснялась, нахмурилась и так понравилась художнику, что он счастливо улыбнулся.
– Папа зов-вет, – проговорила Тамара, смущаясь еще сильнее.
– Иду, – кивнул Звездоглядов.
Он надел пиджак, набросил на плечи короткое пальто Калабухова с одной только болтающейся на нитке пуговицей.
Они вышли. Художник взглянул на Тамару. Вот сейчас грохочет небо, сад шумит, дождь плещется, а перед ней, как на экране в немом кино, разворачивается странная, безмолвная гроза. Только беззвучно вздрагивает земля, вспыхивает небо, бесшумно бушуют деревья. Что понимает Тамара? И что ей недоступно?
Она растерянно остановилась около потока. Звездоглядов подал руку, Тамара прыгнула. В спину ему шлепнулось яблоко. Не отпуская руки девушки, он пошел дальше. Когда они вошли в дом, Тамара посмотрела на него удивленно и покраснела.
Навстречу вышел высокий, сутулый мужчина – режиссер Солонин. Он протянул белую руку, очень худую, беспокойную. Скуластое лицо освещали печальные серые глаза. Он страдал одышкой, вид имел болезненный.
Солонин усадил художника за большой круглый стол, накрытый белой скатертью. В голубом кувшине стоял букет чайных роз, обрызганных водой. Одна роза упала на скатерть, где лежало красное яблоко с ржавой ямкой от укуса.
Звездоглядов разложил эскизы.
Когда они обо всем договорились, жена Солонина, пожилая, но очень похожая на Тамару, принесла чай. Она ушла. Звездоглядов не удержался и стал расспрашивать о Тамаре. Солонин сразу нахмурился. Помолчав, он нехотя заговорил глуховатым баском:
– Девочке было два года, когда она оглохла. Мы с женой уехали на три месяца в гастроли. Она осталась с няней и заболела скарлатиной. Нам не сообщили. Без нас, конечно, за ней недоглядели, болезнь дала осложнение на уши. И вот все это и случилось. Она забыла те два-три десятка слов, которые знала, забыла, что существуют звуки.
Солонин говорил сухо, отрывисто. Он принужденно откашлялся и, сдвинув брови, смотрел в сторону. Худые, длинные пальцы чуть заметно дрожали. Пахли надкушенное яблоко, вянущие розы. Солонин продолжал еще более сурово:
– Когда подходил ко мне ребенок и не говорил, а… мычал… душа холодела, – он резко повернулся и хотел еще что-то сказать, но сдержался.
Оттолкнул стакан, ушел к окну, распахнул его. Мокрая ветвь шлепнулась на подоконник и прилипла. Листья склеились. Дождь утих. В саду летучие мыши стремительно и мягко чертили зигзаги. Сильно пахли, невидимые художнику, белые звезды табака, забрызганные грязью. Солонин вернулся к столу, сел в хрустящее плетеное кресло. Он снова замкнулся, лицо потемнело, как будто на него пала тень. Худые руки щипали розу.
– Я отдал Тамару в школу… для глухонемых… в Москве… Все, что я смог сделать…
Пальцы вырвали щепотку лепестков.
Голова Тамары появилась в окне. Девушка смеялась и ела абрикос, лохматый, точно обтянутый оранжевой замшей. Звездоглядов кивнул, она шаловливо улыбнулась и скрылась.
– Интересно все-таки, как она понимает говорящих? – допытывался Звездоглядов.
Солонин пристально глянул на него и медленно отвернулся. Сухо бросил:
– Читает по губам, жестам, мимике… Интуиция, чутье…
– Это непостижимо! Но как же все-таки… Не понимаю!
Солонин вновь недовольно глянул на лицо художника, полное любопытства, точно Звездоглядов слушал занимательный рассказ о приключениях.
– Извините, мне пора в театр, – неожиданно сказал Солонин, глядя в окно.