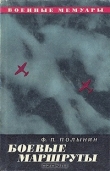Текст книги "Листопад в декабре. Рассказы и миниатюры"
Автор книги: Илья Лавров
сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 32 страниц)
Прекрасный Цезарь
Голубой автобус привез меня с вокзала в центр небольшого города.
Стояла яркая осень. Подсолнухам уже открутили головы, и в огородах торчали одни будылья. Хозяйки несли замазку, похожую на халву, стаскивали с чердаков запыленные зимние рамы и мыли стекла. Крыши стали рыжими и лохматыми от нападавших листьев.
У автобусной остановки сидел медно-красный ирландский сеттер. Я загляделся на него: так он был хорош. Он удивлял спокойной, львиной величавостью. Сидел он неподвижно, высоко подняв большую, умную, седеющую голову с обвисшими шелковыми ушами. Только влажный нос его чуть заметно шевелился. Пес ловил запахи и по-своему прочитывал их.
И еще меня удивило: все почему-то знали сеттера. Многие обращались к нему: «Цезарь, Цезарь!» А кое-кто гладил его спину. Женщины с кошелками отламывали кусочки хлеба или колбасы и клали у ног его. Но пес был недвижим. Он точно и не замечал людей.
Вышел водитель автобуса до того выбритый, что щеки его и подбородок были блестящими и казались эмалированными. Он провел рукой по нагретой солнцем голове Цезаря и сел рядом на тротуар. Пес чуть-чуть шевельнул хвостом с обвисшей шерстью. Автобус опустел, а Цезарь все не спускал с него глаз.
– Нет, брат, не дождешься, – задумчиво произнес водитель. Сеттер как будто что-то понял, повернул к нему голову. А потом гордо и царственно пошел среди людей по улице. И, странно, во всей его поступи, во всей фигуре я уловил что-то похожее на человеческую тоску.
Это была моя первая встреча с прекрасным Цезарем.
Устроившись с квартирой, я вечером снова пошел на автобусную остановку, чтобы съездить на вокзал за вещами. Еще издали я увидел Цезаря. Он сидел у остановки и, как и утром, был недвижим.
Кругом бегали ребятишки, собаки, толпились ожидающие автобуса, но никто не трогал Цезаря. И все знали его и почему-то относились к нему с уважением и любовью.
Но вот подкатил автобус, и Цезарь поднялся и стал смотреть на выходящих. Нос его ловил струйки запахов. И опять его гладили, говорили с ним, и опять вышел водитель с эмалированным голубым подбородком и задумчиво закурил около него.
Что за тайна окружала сеттера?
Я сел в автобус, и мы поехали.
– А Цезарь все на своем посту, – тихо проговорил мой сосед, красивый, могучий старик.
Я спросил: что это за пес?
– Вы, как видно, приезжий, – определил старик. – Городишко наш не ахти как велик, и мы все знаем Цезаря. Он, если уж хотите, знаменитость наша.
И старик рассказал мне удивительную историю Цезаря.
Хозяином его был начальник вокзала Коробов, одинокий, молчаливый человек. В выходные дни он уходил с Цезарем на охоту. Каждое утро Цезарь провожал Коробова на автобусную остановку и каждый вечер встречал его здесь.
Может быть, еще и долго прожили бы они так. Но тут началась война с фашистами. И Коробов добровольцем ушел на фронт. Ушел он внезапно, быстро. А вещи и Цезаря оставил на время соседу.
Пес, как всегда, проводил хозяина на автобусную остановку. Коробов взял его морду в большие ладони, долго смотрел в собачьи глаза, потом потрепал его длинные уши и, сгорбившись, вошел в автобус. Цезарь ласково вилял хвостом. Вечером он пришел встречать хозяина. Но Коробов не приехал. С тех пор вот уже шесть лет Цезарь каждое утро и каждый вечер приходит к автобусу. А друга его все нет и нет. И не придет он уже, друг его. Он пропал на фронте без вести.
Цезарь не стал жить у соседа. Многие брали его к себе, но он уходил. Он спал под крыльцами, в коридорах, на вокзале.
Он, наверное, не хотел изменять Коробову.
Каждый день Цезарь обходил все места, где часто бывал его хозяин.
О Цезаре написали в газете и даже поместили его фотографию. О нем складывались легенды.
– Вот как, дорогой товарищ, – кончил старик. – Тут есть над чем задуматься…
И я задумался, а потом зашел на вокзале в ресторан поужинать. Через некоторое время здесь появился и Цезарь. Это никого не удивило. Он бесшумно и спокойно прошел около столиков, не обращая на людей внимания, и вышел. Я – за ним. Все так же, не торопясь, Цезарь обследовал зал ожидания, постоял у билетных касс и направился на перрон. Здесь он сел у дверей кабинета начальника вокзала и замер, глядя, как приходят и уходят поезда.
Очень я люблю вокзалы. Столько огней, шума, встреч, разлук! И как волнуют поезда, которые приносятся из неведомой дали и снова уносятся, кто знает куда. А сколько мелькнет перед тобой неведомых, интересных людей! Стоишь на перроне и не то встречаешь кого-то дорогого, не то кого-то провожаешь. И радостно, и грустно, и сильнее колотится сердце. А может быть, просто вспоминаешь свои дороги, свои отъезды и приезды.
Мне показалось, что и Цезарь любил эту, поспешную, дорожную жизнь перронов.
В сумерках моросил мелкий дождик. В мокром асфальте отражались огни.
Вот из полей, из лесов, где хозяйничает пестрая осень, примчался, сияя, курьерский поезд. Люди высыпали из вагонов, заполнили перрон. А Цезарь, влажный от дождя, все сидел. И мне вдруг померещилось, что Коробов жив, что вот он сейчас распахнет дверь, и Цезарь деловито пойдет с ним среди дорожной суеты. И я почему-то уже любил этого незнакомого Коробова и очень хотел, чтобы он вышел из своего кабинета.
Поезд, сияя, снова умчался в поля и леса, где хозяйничала пестрая осень, шурша над всей страной листопадом. И на пустом перроне только Цезарь сидел под моросящим дождиком…
На новом месте я хорошо выспался. И вообще хорошо устроился. Купил себе кровать, два стула, вот только стол не купил: не хватило денег. «Ну, ничего, – думаю, – у соседей попрошу на время».
Утром пошел на работу и вернулся только в пять вечера. Плохо без стола-то. Постучался к соседке. Так и так, мол, выручайте. Соседка оказалась приветливой женщиной и уступила мне тумбочку.
В это время в дверь заскреблись.
– Хозяин пришел, – сказала соседка и открыла дверь. И тут на пороге появился прекрасный Цезарь.
Вот так иногда живешь, живешь, и вдруг случайно войдет в твою жизнь такое событие, что потом всегда его помнишь и всегда о нем рассказываешь. Так посчастливилось мне прикоснуться к судьбе Цезаря.
– В этой комнате он когда-то жил с хозяином, – объяснила соседка. – Вы, конечно, знаете эту историю?
– Да, да!
– В пять вечера Цезарь приходит к автобусу, а потом сюда: проверяет – не пропустил ли хозяина.
– Поразительно, – пробормотал я и погладил Цезаря. Он понюхал мои колени, осмотрел комнату и лег на свое прежнее место, у кровати.
– Вот полежит с часок и уйдет, – вздохнула соседка. – Уж я и так и этак старалась приручить его – не живет. Знаете ли, удивительные собаки иногда встречаются. Вот, помню, жили муж с женой. Хорошо жили, только детей у них не было. А без детей-то скука смертная. Вот они и привязались к собачонке. Такая маленькая, черная, пушистая. Уж они и купали ее, и расчесывали, и чуть ли не с ложечки кормили. Вы только подумайте, пуховую перинку ей завели! Ну куда это годится? Стали мы им говорить: «Чем так с собакой возиться, вы уж лучше ребенка возьмите в детдоме». И правда – взяли они сиротку. И такая милая девчоночка попалась, что уже через неделю они души в ней не чаяли. И всю ласку и заботу перенесли на нее. И что вы думаете? Ведь собачонка все это поняла. Она пряталась под кровать, ничего не ела. Ревновала хозяев к девочке. И так ведь обиделась, что совсем из дому ушла. Хозяева поймают ее, приведут, а она забьется под кровать, а потом снова убежит. Так вот и отбилась, стала бродячей!
Я воскликнул в душе: «Цезарь! Цезарь!»
Потом я постоянно встречал Цезаря в разных концах города. Он все шел куда-то, шел спокойно, уверенно, точно по делу, точно его где-то ждали. И при виде его я твердо верил: жив его хозяин! Вот-вот – и выйдет из-за угла.
И в то же время, когда я смотрел на Цезаря, меня охватывала печаль. Такая преданность, такая дружба не должны остаться без ответа.
Особенно щемило сердце, когда я видел Цезаря глухими ночами.
Однажды возвращался я в полночь. Ярко сияла луна, бушевал холодный ветер, густо листопадило. Это удивительно: листопад при луне. Вот я шел и представлял себе, как сейчас в лесу над светлыми полянами кружатся листья. Многие ли знают, как хорош тревожный листопад в глухом лесу при луне?
Тут меня и отвлек от воспоминаний Цезарь. Он шел среди пустынной, ярко озаренной улицы. Шерсть его лоснилась под луной. Он шел одинокий, гордо подняв голову. Так и чудилось, что он погружен в какие-то свои, суровые мысли.
– Цезарь, милый мой друг, – сказал я громко, – куда же ты? Идем лучше ко мне. Я заменю тебе Коробова. Ты прекрасен, Цезарь, и я люблю тебя!
Но Цезарь даже не взглянул на меня.
Густым черным дождем сыпались листья, и он ушел в этот, шуршащий дождь. Ушел – верный, терпеливый, гордый и печальный.
Но скоро случилось такое, о чем позабыть нельзя. Об этом говорил весь город.
Было ослепительное, солнечное утро. Ночью немножко посыпало снежком. Он смешался с опавшими листьями. Они с одной стороны обросли серебристой шерстью инея и звенели под ногами. В город прилетели стайки зеленых синиц. Мальчишки вешали на голые деревья ловушки.
Я пришел на автобусную остановку. Цезарь был на месте. Ждали автобус минут пятнадцать. Наконец он подкатил. В нем ехало человек пять. Вдруг один из пассажиров, в шинели, с погонами лейтенанта, прижался к окну, глядя на Цезаря, потом бросился к дверям и выскочил первым.
– Цезарь! – тихо, нежно и ликующе окликнул он сеттера.
Собака насторожилась, поднялась и, сильно втягивая в себя воздух, пошла к приехавшему.
– Цезарь! Ко мне! – радостно и властно грянул приказ.
И тут старый Цезарь напрягся, стал гибким, молодым. Неожиданно он взвился на задние лапы, а передние бросил на грудь человеку. Тот охватил его, притиснул к себе.
– Батюшки мои! Товарищ Коробов?! – закричала какая-то женщина. – Живы?!
– Жив! – крикнул лейтенант.
Все столпились вокруг него и Цезаря. Перебивая друг друга, возбужденные, радостные, махая руками, люди рассказывали Коробову, как ждал его Цезарь. Коробов сильно щурил глаза, теребил седеющие усы.
– Ну, спасибо, товарищи, – за что-то поблагодарил он.
Я долго смотрел вслед ему и Цезарю. Пахло первым снежком. На земле от него и от солнца была дивная светлынь.
Цезарь шел уже не гордо и царственно, а бежал, как молодой, и с удовольствием обнюхивал все тумбы, заборы и деревья…
1958
Веселый сказочник
Приехали в три часа утра. Их встретили стужа, мрак, хруст снега, дремучий лес вокруг села и непролазные сугробы.
Администратор Виктор Абакумов – быстрый и легкий, как птица, – привел в клуб. Сначала прошли через большую темноватую комнату. В ее углу притулилась касса, сколоченная из фанеры. При свете на ней можно было бы увидеть разные росписи, изречения и нелепые рисунки, оставленные посетителями.
Потом зашли в небольшой зал, уставленный скамейками. Низкий потолок кое-где подпирали беленые столбы. Словно дыра, зияла маленькая темная сцена без занавеса. На ней уже была установлена оранжевая ширма. На двух сдвинутых ящиках с куклами, декорациями и реквизитом лежал парень лет восемнадцати, рабочий Подойницын.
В зале тускло светила лампочка. Кое-где вместо стекол чернели на окнах фанерные заплаты. Пахло махоркой и сыростью. В углу стояла холодная печь. «Ну и хозяева, черти!» – подумал Устьянцев.
– Я, дорогуши мои, мотался по соседним колхозам, заделывал спектакли, – объяснил Абакумов, – и вот, уж не обессудьте, не успел приготовить квартиры!
– Вы бы лучше уложили нас в пуховые сугробы. Теплее было бы, – ехидно протянула тощая, красивая, злая Аня Гуляева.
Она всегда играет мачех, вредных, капризных дочек и льстивых лисиц.
– Небом крыто, светом горожено, в печке сосульки висят, – засмеялся на сцене Подойницын. У него были такие сонно-пьяные глаза и распухший сизый нос, что многие принимали его за пьяницу, хотя он водку в рот не брал.
– Таскаемся по дырам, валяемся где попало, как бродяги, – заворчал Истомин, – а еще об искусстве толкуем!
У Истомина обвисший горбатый нос и пронзительные истерические глаза обозленного человека. На впалой щеке большая бородавка с длинными волосками. Истомин неплохой актер, но не ужился с дирекцией, и его уволили из областного театра. Временно он поступил в кукольный.
Бывшая певица Клеопатра Михайловна, старуха с накрашенными губами и ногтями, обиженно вздохнула и недовольно глянула на Абакумова. Она его, как и всех молодых, считала невоспитанным. «У них дурные манеры, они не умеют держать себя в обществе». У нее звонкий голос, и поэтому старуха удивительно удачно играет мальчишек-сорванцов.
И только одна ленивая, изнеженная Катя Клыкова длинно и сладко зевала. У нее лицо пухлое, точно сдобная булка, в которую воткнули две изюминки хитрых глаз. Она хорошо играет несчастных сироток, добрых зайчиков, примерных пионерок.
Закутавшись в дорожные «спецовки» – старенькие дохи из собачьих шкур, усталые кукольники улеглись на ледяных скамейках.
Режиссер Гоша Устьянцев, долговязый, с длинной худой шеей, близоруко щурил маленькие глазки в рыжеватых ресницах. Перед ним колыхался желтый туман. Лампочка расползалась золотым пятном, как в клубах банного пара. Нет, и Гоше тоже было не очень-то приятно после дороги спать в ледяном клубе…
На другой день зал заполнили ребятишки. Они бегали, кричали, шумели. Устьянцев вместе с Подойницыным раскладывал реквизит и куклы. Он любил этих маленьких человечков. Все куклы были сделаны им.
Вот рыжая лохматая Каштанка. Немало пришлось поработать над ее мордочкой, чтобы придать ей выражение доброты и озорства. Она получилась очень смешной. Особенно хороши и выразительны были уши, которые болтались во все стороны.
На скамейке рядом лежали клоуны, наездники, коты, дрессировщик в цилиндре, крошечные деревья, домики, цирк. Вокруг арены сидели зрители. Их Устьянцев выпилил из фанеры. Когда дергали за веревочку, они шевелились, хлопали руками, вскакивали.
Из раскрытого ящика выглядывал «умывальников начальник, знаменитый Мойдодыр». Вместо носа у него медный кран, уши – две мыльницы, волосы – мочало, глаза – два зеркальца. Бывало, Устьянцев ночью вырезывает, выпиливает, раскрашивает и вдруг начнет хохотать над важным «командиром мочалок». И даже заговорит с ним: «Ну ты, брат, молодец! Куда там! Вельможа!»
У Гоши Устьянцева удивительный дар оживлять простые вещи. Игрушечный утюг он сделал мрачным, а свечку игривой, с легкомысленно загнутым фитильком, книжку веселой, растрепанной, яркой, как сарафан, а сковородку добродушно-сальной, аппетитно обжаренной на огне. Так и казалось, что она чудесно пахнет котлетами.
И чего только Устьянцев не умел делать!
Комната его походила на мастерскую. В ней пахло скипидаром, стружками, лаком. На плитке в кастрюле булькал, извергая клубы пара, клей. На полу валялись обрезки материй, щепки, опилки, стружки. Даже кровать его, словно верстак, была засыпана ими…
И вот в это морозно-сверкающее утро сокровища таинственных ящиков ринулись к зрителю. Первый перед маленьким занавесом выскочил Петрушка и закричал:
Здравствуйте, здравствуйте!
Я – Петрушка!
Я живой, а не игрушка!
Он заиграл на гармошке, и в зал будто высыпали мешок серебряных колокольчиков – захохотали ребята. Гоша Устьянцев тоже засмеялся, близоруко щурясь.
Разместились в библиотеке. Подойницын острил:
– Двухэтажный дом – наверху землянка!
В одной комнате – читальня. Здесь трюмо, жесткие диванчики, столы, застланные кумачом, на них газеты, журналы. В другой комнате – шкафы и полки с книгами. В третьей живет заведующая библиотекой, хрупкая, болезненная Валя Постникова. Она показалась Устьянцеву детски беззащитной и доверчивой. Так и хотелось от кого-то оберегать ее.
Кукольники устроились в читальном зале. Устьянцев сразу же бросился к стеллажам. Он вытаскивал книги, листал их, уткнув нос в страницы, увлеченно прочитывал отдельные строки.
– Да у вас здесь чего только нет! – сказал он Вале.
– Да, книжки… Много их… – вяло ответила она.
– Вы давно в селе? – поинтересовался он.
– Уже два года… В Томске окончила библиотечный техникум и вот… сюда…
– Не очень-то сладко тянуть лямку в этой берлоге, – проворчал Истомин, небрежно перебрасывая книги на столе.
Устьянцев метнул на него сердитый взгляд и ушел ужинать.
Что-то домашнее, душевное было в этой сельской столовой. В избе теснилось с десяток столиков. Окна ее с улицы толсто залепило снегом. Дымились добротные деревенские щи, пахли куски свинины, хрустела корочка домашнего хлеба, душистый прозрачный мед был полон пузырей. Он тянулся за ложкой светлой нитью:
– Есть хочу, как из ружья! – облизывался Подойницын.
В тулупах, полушубках, занесенные снегом, приходили незнакомые и, должно быть, очень интересные люди.
Устьянцев, почти прижимаясь к стенам, вставая на цыпочки, рассматривал плакаты о выборах в Верховный Совет, о страховании жизни, об уходе за поросятами. Потом он сел за стол.
Истомин побултыхал ложкой в тарелке и скривился:
– Бабье варево. Утонченные гастрономы: горсть картошки, горсть капусты, кусок мяса. Наворачивай, ребята!
Устьянцев не мог видеть его лица, не мог слышать голоса, – склонился над тарелкой и ел без всякого аппетита.
Выйдя из столовой, он задохнулся: по широкой улице в темноте катился снежный поток. Крутились белые вихри, снежной пылью дымились крыши и гребни сугробов.
В комнате Вали жарко от раскаленной железной печки. Уютно бурчит огонь. Светло. Валя, накрыв ноги клетчатой шалью с кистями, полулежит на кровати и тихонько перебирает струны гитары.
Протянув руки над красной, почти прозрачной печуркой, сидит Истомин. И хоть у печки жарко, он в пальто с поднятым воротником, в меховой шапке с опущенными ушами. Он потирает сине-багровые руки, трогает сильно нагревшиеся рукава, боясь, что они начнут тлеть. В этих протянутых руках Валя видит что-то жалкое, раздражающее. И хоть Истомин совсем молодой, он похож сейчас на старика.
– Ах ты, боже мой, как воет, – вздрагивает он плечами, – а ведь есть на свете юг, Черноморское побережье, пальмы, магнолии, черт возьми! И чего вы забились в это захолустье? Одинокая, прелестная. Ах! – И он целует свои пальцы, сложив их щепоткой. – Сели бы на поезд и – гуд бай! О чем здесь рыдать? Имейте в виду, эта мещанская среда засасывает с головой. Потом волосы начнете рвать, да будет уже поздно. Молодость только помашет вам издали ручкой: тю-тю!
Тоскливо звенят струны о далекой Индонезии, об острове пальм. Вьюга дергает ставень, шумит, как будто за окном ярится огромный примус. И Вале действительно ее жизнь представляется бедной, скудной, а село заброшенным. И люди здесь маленькие. Подруги устроились в городах, занимаются серьезной работой, повыходили замуж, а она…
– Я-то хоть временно влип в эти самые кукольники. – Истомин закуривает, пуская дым в гудящую красно-прозрачную печку. – Так сложились обстоятельства… Я всегда работал в солидных театрах. Но вот судьба взяла за шиворот да и забросила в Петрушкин балаган. Даже стыдно перед людьми. Талантливый человек – и вдруг: «Гав, гав! Мяу, мяу!» Умывальники играешь или какую-нибудь свечку, сковородку!
Валя грустно засмеялась.
– Честное слово, идиотски себя чувствуешь! Ну, какие здесь актеры? Или неудачники, или из самодеятельности, а то просто чудаки вроде Устьянцева. Ах, скорее бы развязаться со всей этой петрушкой! – Истомин раздраженно подбрасывает в печку березовые чурбачки.
На печурке зашипело, всклубился пар, задребезжала крышка чайника.
– Вскипел. Сто раз спасибо вам. – Истомин прихватил носовым платком дужку и вышел.
Валя поскучала, поскучала и тоже вышла в читальню.
Старый дом был как решето, и в читальне гулял такой ветер, что гасла спичка и на столах вздрагивали, тихонько шуршали газеты. Кукольники, не снимая дох и шапок, увлеченно говорили о втором спутнике Земли.
– Нет, вы только вдумайтесь в это! – воскликнул Устьянцев. – Ведь потрясающее событие! – Он возбужденно ходил по читальне. – По черному небу несется золотистая звездочка, а в ней первый космический пассажир – Лайка, хорошая, славная псина. Здорово, просто здорово!
Он сбросил доху и шапку. Его красные уши горели. Истомин, криво усмехаясь, пил чай в сторонке. Валя стояла, привалившись к косяку.
– До полета на Луну мы, конечно, доживем, – вступила в разговор Аня Гуляева, – а вот на Марс едва ли.
– Ну, это еще неизвестно, – возразил Устьянцев.
– Интересно все-таки, девочки, как там на других планетах? – мечтательно протянула Катя Клыкова. Она уютно устроилась на диване, поджав ноги, закуталась в доху. – Подумать только, девочки, люди с другой планеты! Убиться можно!
– Ах, боже мой! Конечно же какие-то существа есть! – воскликнула Клеопатра Михайловна. – Но вы попробуйте туда долететь. Все это грезы, фантазия! Крылья Икара!
– А вы знаете, что люди уже думают над фотонными ракетами? Вот вам и крылья Икара! – рассердился Устьянцев. Ему очень хотелось верить, что люди умчатся в иные миры. – В ракете вы будете лететь год, а на земле за это время, по теории Эйнштейна, пройдет семьдесят лет. – Он присел на диван и, вспоминая все прочитанное, рассказывал, что это за ракеты и что это за теория.
А мимо окон неслись тучи снега, по улице крутились белые столбы, разбивались о дома, наметая сугробы в рост человека.
– Вот мы сейчас только мыслями витаем по всей Галактике, – задумчиво продолжал Гоша, – а ведь придет час – а он обязательно придет! – и наш космический корабль приземлится, например, на Венере.
– Не приземлится, а привенерится, – Подойницын захохотал.
– Погоди… А там все, как у нас, положим, в древности. Огромные хвощи, папоротники. И вот на этих неведомых материках застучат топорами люди по фамилии Гуляева, Клыкова, Устьянцев, Подойницын.
Все засмеялись, Валя тоже. Она подсела к кукольникам.
– А я не шучу! Это же будут наши внуки. И пойдет наш род с планеты на планету. Если б внуки представили теперешнюю минуту: занесенное снегом село, глухая ночь, вой вьюги. И сидят себе в ледяной читальне кукольники. А с ними и библиотекарь. – Устьянцев улыбнулся Вале. – Они в вытертых собачьих дохах, в шапках. Пристально смотрят в окно на звезды, мечтают. Они не хотят быть ужами. Они, черт возьми, чувствуют себя по меньшей мере покорителями вселенной!
Никто не засмеялся. Валя тревожно смотрела на Устьянцева, и ей казалось, что Истомин сверлит ее спину насмешливыми глазами. Она передернула лопатками.
– Вообще-то, конечно, если улететь на Венеру, то я, прямо скажу, завыл бы там волком от тоски по Земле, – серьезно рассуждал Подойницын. – Другое дело, если, скажем, увезти, туда березы, что ли, наши, ну там сосны, пшеницу, подсолнухи, дойных коров, лошадей, грузовики. И чтобы радио, кино, ну и прочее такое. Оборудовать Венеру по образцу, скажем, и подобию Земли, тогда еще куда ни шло. А то шутка ли в самом деле навечно улететь с Земли, а там вместо зайчишки какой-нибудь мерзопакостный бронтозавр пресмыкается и регочет. Так я же, товарищи, с тоски помру без зайца-то!..
С ног до головы в снегу ввалился в комнату Виктор Абакумов.
– Честной компании! – громко приветствовал он, отряхиваясь. – Думал, занесет вьюга. Ну, братцы, завтра в колхоз.
– Опять тащиться к черту на кулички! Вьюга же! – возмутился Истомин.
– Ехать нужно. Кроме школы, выступаем еще на агитпункте. Но не волнуйтесь: с Абакумовым не пропадете! В санях будет пуховое сено, колхоз дает тулупы…
– На рыбьем меху, ветром подбитые! – веселился Подойницын.
– Зачем сани? Это для кукольников роскошно. Пойдемте уж лучше пешечком, – ласково поддела Аня Гуляева.
– Да и пешком, дорогуша моя, не страшно. Всего пятнадцать километров. Дорога через тайгу, одно удовольствие! Правда, Подойницын?
– Спрашиваешь у мертвого здоровье! – закатился тот.
– Балаган, а не театр. Ярмарки еще не хватает, – огрызнулся Истомин.
У Гоши Устьянцева покраснела длинная, мальчишески худая шея.
– Вас этот балаган и кормит и поит! – резко проговорил он. – А ваши разговорчики уже набили оскомину. Пора бы их кончать, по-моему!
– Вот это наступил на любимую мозоль, – прошептал Подойницын.
– Не кажется ли вам, что вы слишком много на себя берете? – спросила ядовито и ласково Аня Гуляева, прищурив изумрудные глаза. – Что же вы так уцепились за этот балаган? Ведь мы, как это ни печально, без вас не заплачем.
– Вы бы, молодой человек, хоть старших-то уважали, – возмутилась Клеопатра Михайловна, – пока еще как будто существуют законы приличия. А вы не умеете вести себя в обществе!
Истомин растерялся, его бородавка задвигалась пауком.
– Подумаешь, МХАТ какой! Разводим петрушку, – пробормотал он.
– Это вся ваша жизнь сплошная петрушка. Вы… чему, кому вы служите? – с презрением допытывался Устьянцев.
Вале стало неудобно от этой стычки, и в то же время ей было почему-то приятно, что Истомина осадили.
– Не вам я буду отвечать, кому и чему я служу! – Кожа на лице Истомина натянулась, и большой горбатый нос стал еще больше, точно высунулся вперед. – Не вам, многоуважаемый товарищ Устьянцев! Только не вам! Будьте уверены и берегите нервы! – уже истерически выкрикнул Истомин.
– А вам кому угодно нечего ответить. За душой одна спесь да самодовольство. – Маленькие глазки Устьянцева горели зло и весело. Он любил прямо высказывать неприятным людям свои мысли о них.
Через час Устьянцев зашел к Вале, попросил сборник пьес для детей.
– Этот крокодил, наверное, распинался у вас о том, что кукольный театр для него – пустяк, и что живете вы в дыре, и что люди здесь – серость? – весело спросил он.
– А вы откуда знаете? – удивилась Валя.
– Истомин в своем репертуаре… Пошлый тип! Для него существуют маленькие и большие люди. Этакий барский взгляд. А я не верю! – воскликнул Устьянцев. – Каждый нормальный человек – это прекрасный, сложнейший мир! А насчет дел… Так можно быть маленьким в большом деле и большим – в маленьком!
…Тонкий Устьянцев изогнулся дугой, носом почти касался стола. Он писал: «Милая моя мама! Сегодня мне приснилось, будто я, представь себе, „сыграл в ящик“. Только не пугайся, это же во сне. И меня будто хоронили. Кладбище. Талый снег. Из огромных светлых луж торчат серые кресты, ветхая, давно закрытая часовенка, старые березы. Какая чушь собачья! Проснулся я, конечно, лязгая зубами. Ты и сама знаешь, как трудно молодому, здоровому представить, что он состарится или умрет. А вот в это утро, милая моя муттер, я очень ярко почувствовал и понял, что рано или поздно отдам концы. Все будет – и люди, и леса, и небо, и ветер, а меня не будет. И такое охватило отчаяние, и так захотелось все-все успеть, схватить! Я почувствовал прямо-таки зверскую жадность к жизни. Видно, чтобы крепче любить ее, нужно порой вспоминать, что ты можешь с ней расстаться… А как я соскучился по тебе, моя добрая сказочница! Скоро я тебя сражу. Заявлюсь к тебе, а ты и не узнаешь. Я буду в очках, как профессор… кислых щей. Ведь с десяти лет передо мной все в тумане. Да я и свыкся с этим. И даже театральное училище окончил без очков. А вот теперь, когда заделался режиссером, чувствую: шалишь, брат! Надевай-ка очки! Ей-богу, обидно. Мне ведь только двадцать три… В городе нужных очков не оказалось. Может быть, здесь, в районе, случайно раздобуду окаянные окуляры…»
Вьюга стихла. И тепло-тепло. День какой-то мягкий, чуть печальный, пушистый.
Устьянцев вышел из аптеки, торопливо огляделся.
На другой стороне улицы вспухали туманные избы, люди скользили как зыбкие тени. Они уплывали в тусклую даль, где вздымалась какая-то серая рыхлая стена.
Устьянцев, поднеся к носу новенький пластмассовый футляр, вытащил очки в роговой оправе, с толстыми стеклами и неумело, осторожно оседлал нос. И тут произошло чудо: все несколько уменьшилось, отпрыгнуло, но стало поразительно резким и ясным. Исчез туман, и Гоша четко увидел дома, сверкающие окна и даже разглядел через них комнаты с белыми кроватями и развесистыми фикусами. Он увидел, как с крыш капали большущие, жгуче-холодные, хрустальные капли. С сосулек текло на электропровода, идущие в избы, и поэтому на проводах тоже наросли сосульки. Близко синел зубчатый лес, манил к заснеженным елям.
Устьянцев снял очки – и все растворилось, надел – и все возникло так резко, будто вскрикнуло. Чудо! Он видит и летящую ворону, и тяжелые, пухлые сугробы, которые, как белые медведи, придавили крыши изб, и уши собак, и дырки в скворечниках, и яркие щели в заборах, и глубокие синие следы на слепящем снегу, даже тоненькие лапки воробья. Да здравствуют эти соломинки-лапки!
Скользящие одноликие тени превратились в людей. И какие же эти люди разные! Вот старик в полушубке, с рыжей бородой, девушка в зеленом пальто, а вон парень в телогрейке и ватных брюках. На плече он несет упруго колышущуюся звонкую пилу. За ним шагает красивый большой мужчина в черной собачьей дохе с белым рукавом. Прошли два школьника. Один, в заячьей шапке, что-то рассказывал, яростно махая руками. Вот на лице его изобразился ужас, вот оно стало таинственным, а потом сердитым.
Устьянцев счастливо смеялся.
Густо-синее небо и пушистая белая земля говорили и говорили ему о чем-то, и сердце разрывалось от странной радостной тоски. «Неужели я когда-нибудь исчезну с этой земли?» – подумал он и вспомнил, как умер во сне и какой ужас, отчаяние и страсть к жизни обрушились на него.
Устьянцев заглянул в библиотеку. В ней от солнечного снега на улице было очень светло, на стенах висели портреты писателей, веселили ярко выкрашенные, промытые полы. За барьером, отполированным локтями, ходила тоненькая Валя в белом свитере, в черных валенках с серыми, толсто подшитыми подошвами.
Валя удивленно посмотрела на Устьянцева и улыбнулась. При улыбке верхняя губа ее забавно поднималась к носу, обнажая зубы. Они были очень белые и неровные: один чуть западал, другой чуть выпирал, словно им было тесно и они выжимали друг друга.
Устьянцев радостно смотрел на нее.
Прибежала запыхавшаяся доярка Нюся, платок ее сполз на плечи. Она попросила стихи о Восьмом марта и о выборах:
– На вечере буду читать.
Валя подобрала ей сборники. Нюся шепнула:
– Ну, а теперь дай еще книгу про любовь, только чтобы, знаешь, дух захватывало!
Валя подала ей «Вешние воды» Тургенева.
– Здорово?
– Не оторвешься.
Девушка засмеялась, зыркнула черемухово-черными глазами на Устьянцева, спрятала книгу на груди под шалью и убежала. Шофер попросил книгу о двигателях внутреннего сгорания.
Устьянцев, радуясь тому, что может прочитать на корешках заглавия книг, быстро заговорил:
– Мерзавец он, этот самый Истомин! Вы же среди сокровищ живете! – Высоко поднял «Тихий Дон». – Принести людям такую книгу! Да разве это малое дело? – Глаза его под очками увлажнились, он схватил другую книгу и потряс ею. – А Блок? Его стихи о России, о ее неоглядных далях, о ее бесконечных дорогах, о песнях ее ветровых… А его стихи о любви!