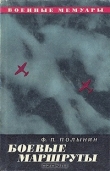Текст книги "Листопад в декабре. Рассказы и миниатюры"
Автор книги: Илья Лавров
сообщить о нарушении
Текущая страница: 24 (всего у книги 32 страниц)
Вот и сегодня она будто вылетела из-за киоска среди деревьев. Черное пальтецо, черные сапожки, из-под шапочки – темно-рыжие пряди, полудетское, свежее лицо с черными глазами, легкая походка, потертый портфелик в руках…
Николай отбросил сигарету, заторопился к Тане, протягивая бумажный рулон.
– Что это за свиток? – спросила она.
– Идем, идем, – потащил он ее за руку.
По извилистой тропинке на сером, обледеневшем снегу они устремились в глухую аллею.
Первое тепло марта растопило снежную подушку на скамейке, и сейчас с нее свисали длинные сосульки. Они доставали до серого снега, образовав прозрачную решетку.
Таня села на эту скамейку и раскатала первый метр письма. С затеплившейся улыбкой она читала написанное и рассматривала нарисованное, а Николай, стоя перед ней, держал за конец полосу бумаги и по мере того, как Таня прочитывала, отходил все дальше и дальше, пока наконец этот бумажный мостик не перекинулся через всю аллею. Хорошо, что здесь не было прохожих.
Ветерок парусил бумагу, сбрасывал на нее с деревьев соринки. Николай молча следил за нахмуренно-радостным лицом Тани.
И все это сливалось для него с сереньким мартом, со звякающими под ногами льдинками, с замершими в ожидании весны кленами, с кустами сирени еще по пояс в снегу.
Дойдя до последней строчки, Таня подняла голову и посмотрела на Николая. Он стоял перед ней по-южному смуглый, с выпуклыми ласково-черными глазами, в коротеньком, выше колен, клетчатом пальто с поясом, в шапке пирожком.
Таня смотрела, тихонько смеясь и как бы ласково говоря: «Выдумщик ты мой, выдумщик!»
Скрестив ноги в черных сапожках, она убрала их под скамейку, и там, стеклянно зазвенев, рассыпалась ледяная решетка. От всего этого на Николая дохнуло таким весенним счастьем, что и этот мартовский денек, и этот голый сквер, и эта скамейка, и эта девочка, и эта минута показались ему лучшим, что было в его жизни. И, видя только прекрасное – так ему казалось – лицо Тани, он медленно скручивал письмо, все приближаясь и приближаясь к ней.
Таня держала туго натянутое послание и уже знала, что сейчас произойдет, и совсем не боялась этого, а была радостно-счастливой и доверчивой. Руки их коснулись, обхватили рулон бумаги, и Николай склонился к ее лицу…
Таня вздохнула, прервала воспоминания Николая.
– Как настроение? – спросил он.
– Мне хорошо. Ни о чем не хочется думать. Просто хочется вот так сидеть под луной, глядя на Обь, сидеть и ночь, и день, и столетие. Лишь бы все было так, как сейчас.
– Увы, к сожалению, ничего нет вечного, – откликнулся Николай.
– Не говори банальностей, – и Таня шлепнула его по руке.
Из-за острова возникло созвездие огней и заскользило над водой к Тане, и тут же из-за другого острова засверкало другое созвездие – это могучие буксиры гнали баржи.
Всюду над зеркальной водой рдели угольки – лампочки на бакенах. Бакены были окрашены какой-то волшебной краской. Еще вечером Таня заметила: пронзительно алые, они даже в сумерках казались раскаленными, светящимися изнутри…
Уже светало, когда разошлись по каютам. Таня побледнела от усталости, чуть не валилась – так ей хотелось спать – и беззвучно смеялась над этим.
Николай было сунулся следам в ее каюту, но Таня утихомирила его строгим взглядом. А потом, стоя в дверях, она плавно подняла руку выше головы и так же плавно и горделиво, как царевна, опустила ее к губам Николая, и он начал целовать каждый ее палец, ладошку, запястье, всю руку до самого плеча. И ей это нравилось, она милостиво улыбалась.
Она уснула сразу же, без сновидений, сладко, как это бывает в детстве…
И снова было утро.
Широко размахнулась Обь. Стада деревьев грудились к воде. У ступенчатых высоких берегов вокруг норок тучами вились стрижи. Из размытых берегов свешивались бахромой черные, будто просмоленные, веревки корней. В половодье обрывистые берега, подмытые водой, обрушиваются в реку огромными пластами, с березами и соснами. И сейчас кое-где деревья торчали из воды. Изредка виднелись перевернутые рыбацкие лодки на отмелях у островов.
Теплоход обгонял самоходные баржи, сплавлявшие нефтяникам Васюганья разное имущество; другие ползли вверх, с бревнами и досками.
Нос теплохода резал воду, взбивал пену. Знойно дымились белые песчаные косы – ветер взвеивал, сносил в реку легкий, сыпучий, горячий песок. Вились чайки над сияющей солнечной дорогой, пролегшей по реке.
И все это принадлежало Тане.
У редких сел теплоход причаливал прямо к высокому берегу. Матросы бросали трап. Установив корзины на траве, бабы и ребятишки продавали смородину, молоко и мед. На берегу лежали и сильно пахли горы березовой и осиновой коры, ивовых, еще не высохших корзин, новых золотисто-белых и гулких кадок. Высились штабеля бревен и белые, веселые поленницы дров.
– Прелесть, – показала Таня на все это. – Ты меня понимаешь?
Николай кивнул: да, да!
Потолкавшись среди шумной толпы сбежавшихся жителей, они возвращались на теплоход, неся в газетных воронках черную смородину.
И снова плыли, И снова могуче и ровно шумела Обь…
2
Вдали показались дома на высоком яру.
– Вот и Колпашево, – обрадовался Николай. – Еще в семнадцатом веке основано. Это оставил след первопроходец Первуша Колпашников!
Таня разглядывала высоченный яр. В половодье его подмывает, и в ревущую воду ухают песчано-глинистые пласты.
– Уже две улицы исчезло – обгрызла Обь-матушка.
Жутковатым показался Тане этот слоистый огромный яр с желто-зелено-черными подтеками. Около него – глубины. К кучам песка у подножия были пришвартованы и теплоходы, и буксиры, и самоходные баржи, и катера. На вершину яра круто поднимались ветхие лестницы из досок.
А в одном месте Таня увидела… деревянный берег. Возле стены яра вколотили стоймя бревна, а между ними втиснули поленницы из чурок и всяких обрезков.
– Так в Нарыме крепят берега грузовых пристаней, – объяснил Николай.
С деревянного берега подъемные краны опускали на баржи контейнеры и пачки золотистых досок. А рядом на ленте транспортера уползали из барж на берег ящики с продуктами.
«Патрис Лумумба» причалил к желтому пассажирскому павильону с голубой крышей.
По длинной дощатой лестнице поднялись на улицу. Таня увидела тихий бревенчатый городок, тополя, березы и даже кедры и ели на улицах. Совсем недалеко поднимала верхушки тайга. Шаткие доски тротуаров гремели под ногами. Рабочие ломами выковыривали деревянные чурочки, которыми была вымощена улица. Теперь их заменяли бетонными плитами.
Подошли к автобусной остановке. Здесь был сколочен из горбылей сарайчик без одной стены. Сели в нем на длинную скамью из плахи. Таня посмотрела на Николая и ласково засмеялась: ее умилял этот домашний и по-сельски уютный городок. И Таня радовалась, что он такой особенный, нарымский. Ведь с него начнется ее с Николаем жизнь, и они всегда будут вспоминать его с волнением…
Николай не написал родителям. Приезд его с невестой и свадьба – все должно было стать сюрпризом.
Старая, обжитая часть Колпашева выходила на высокий берег Оби. Здесь была вполне современная улица с большими домами, магазинами, кинотеатром. Когда же дорога повернула от Оби к лесу, автобус мягко заколыхался по колдобинам, въехав в строящуюся часть города. Во дворах и на улицах еще виднелись болотные кочки, бревна, доски. За домами темнела сумрачная нарымская тайга.
Таня смотрела в окошко автобуса и все беспокоилась: как-то встретят ее родители Николая? Она только и знала о них, что отец работает директором гостиницы, а мать заведует клубом.
Когда по высокому дощатому тротуару подошли к бревенчатому особняку с голубыми ставнями и наличниками, Таня сказала:
– Дай передохнуть, – и притиснула руку к груди. Ей было трудно дышать – так она волновалась.
Они остановились у решетчатого зеленого заборчика, пахнущего краской.
– Нужно было все-таки написать, – сказала Таня, – а то… Как-то неудобно мне. Вдруг свалилась с неба и: «Здравствуйте, я ваша невеста… невестка!»
Тане почудилось во всем этом что-то ее унижающее. Будто совершался какой-то пустячок, а не…
– Все это не так нужно было сделать!
– Не будь старомодной, старушка моя, – бесшабашно воскликнул Николай.
– Не называй меня так!
– Да смотри ты на все проще… Ну, не засылать же к тебе сватов, не выполнять же обряд венчания! И чего там еще нагородили наши предки? Устроим все по-современному, без архитектурных излишеств. Так и так, мол, и никаких гвоздей. Жарьте стерлядку, вытаскивайте спирт! Представляешь, какой переполох это произведет? – Он засмеялся и даже руки потер в предвкушении этого радостного переполоха.
Таня ничего не ответила, но на душе у нее стало еще более смутно, и она почему-то почувствовала себя вроде бы даже жалкой.
Вились комары, нудно пищали над ухом.
Деревянный тротуар, пересекая двор с пеньками и кочками, от калитки вел прямо к крыльцу с перильцами и крышей.
– Во время дождей здесь все раскисает, – объяснил Николай, – болотистое место.
Их не услышали, когда они вошли в прихожую. Николай поставил чемоданы у стены и прижал палец к губам: дескать, тихо, сейчас мы их огорошим!
В это время в приоткрытую дверь донесся низкий женский голос:
– Зачем он тебе? Ну зачем, зачем, я спрашиваю? Ты садишься перед ним и засыпаешь.
– Но ты уже забрала радиоприемник, холодильник, стиральную машину, – устало возразил глухой мужской голос. – А все это я своим горбом заработал.
– А я не работала?
– Как хочешь, а телевизор не отдам. Чтобы сидел перед ним твой хахаль…
– Ну хорошо, хорошо, храпи перед ним вволю! – воскликнула женщина.
Николай непонимающе посмотрел на Таню, пожал плечами и распахнул дверь. То, что он увидел, поразило его. В сумрачной комнате был такой ералаш, как будто хозяева переезжали на другую квартиру. Неуютом дохнули на него окна без штор, стол без скатерти, прислоненные к стене никелированные спинки кровати и сетка. Чемоданы перемешались с какими-то узлами, на холодильнике стоял приемник, на табуретках лежали стулья вверх ножками.
Мать сидела за одним концом голого стола, отец за другим.
Таня увидела пожилого грузного мужчину с простоватым, крестьянским лицом и еще довольно молодую красивую женщину, очень похожую на Николая. У нее были темные волнистые волосы, ярко мерцающие черные глаза и усики на смуглом цыганском лице. Полнеющую, статную фигуру охватывало белое платье без рукавов. На выпуклом предплечье выступали две изюминки – прививки от оспы.
– Что это у вас за разгром? – вместо приветствия спросил Николай.
Спорившие резко повернулись на голос. Отец – Сергей Вавилович – ошалело откинулся на спинку стула, обветренные толстые губы его задрожали, светлые ресницы захлопали, и он глухо, прерывисто проговорил:
– Вот, сынок… Уходит от нас мать…
Несмотря на крупную, грузную фигуру, он казался совсем беспомощным.
Мать – Клара Евгеньевна – страдальчески сморщилась. Жаркая, до испарины, краска обдала ее лицо. Таня увидела, что она сидела, сняв белые туфли. Они, наверное, жали. Ноги судорожно тыкались в туфли. Наконец Клара Евгеньевна обулась и, быстро подойдя к сыну, обняла его, поцеловала несколько раз и тяжело прошептала:
– Почему ты не предупредил телеграммой?
– Как же ты это… – начал было Николай, но мать остановила его:
– Потом, потом…
Николай выдвинул перед собой Таню и пробормотал:
– Вот… познакомьтесь – Таня Инютина… Моя… – Николай замялся и ничего больше не сказал.
Все некоторое время молчали, не зная, что делать и как себя вести. В этой тишине только раздавалось тихое мяуканье где-то закрытой кошки.
Клара Евгеньевна как-то заметалась на месте, хватаясь то за плечо сына, то за Танины плечи. А Сергей Вавилович так и сидел, безвольный, раздавленный. Он облокотился о стол, сжал голову руками, чтобы, должно быть, не видеть весь белый свет. Николай смотрел на него изумленно.
А Тане было стыдно и хотелось убежать, словно это она совершила что-то плохое. Ее присутствие сделало все происходящее еще более ужасным. И это ее мучило. Не замечая, она перекладывала и перекладывала с руки на руку свой шуршащий красный пыльник.
Первой пришла в себя Клара Евгеньевна.
– Милые вы мои, милые вы мои, – горячо зашептала она, обняв их сразу обоих. – Как я рада, что вы приехали! Ничего, ничего… Не обращайте на нас внимание. Мы тут сами… Идите сюда. Коля, веди гостью в свою комнату, – и она повлекла их в раскрытую дверь.
Комната, должно быть, сохранялась в прежнем виде, ожидая хозяина. Здесь было чисто. Стояла застланная кровать, письменный стол, на стене висел ковер, другую стену занимали полки с книгами. Окно размахнулось чуть не во всю стену; такие окна зовут «итальянскими».
– Пока отдыхайте, а я… А мы сейчас…
И она вышла, плотно прикрыв за собою дверь.
Таня села посреди комнаты на свой чемодан, облокотилась, на колени, подперла лицо ладонями. Сидела будто на вокзале.
– Фу, как нехорошо! – выдохнула она. – Им и так… А тут мы еще.
Щелкнув зажигалкой, Николай закурил, шумно выпустил дым, быстро подошел к окну, не задержавшись возле него, метнулся к дверям, обескураженно поскреб в затылке.
– Ну, выкинули номер старики! Убили! Это надо же! – воскликнул он.
В комнате, где еще недавно шел дележ, стояла мертвая тишина. Николай сел на пол у Таниных ног, как садятся на траву, обхватил руками колени.
– А ведь они любили друг друга… По крайней мере, так мне казалось, – заговорил он в недоумении и, словно пьяный, непонимающе огляделся вокруг.
Таня, успокаивая, прошлась рукой по его жестким кудлатым волосам.
– Сколько же ей лет? – задумчиво опросила она.
– Сорок, кажется… Пора бы уж и… А тут вон что… Ладно! – Он поднялся с пола. – Ты посиди здесь, а я пойду разведаю обстановку. – Уже у дверей он пробормотал: – Ну и ну, выкинули фокус…
Таня подошла к окну, смотрела через огороды на близкий лес. Доносилось печальное кукованье. «Зачем мы сюда приехали!» – затосковала она. Над головой противно ныли комары.
Таня с недоверием осмотрела комнату, прошлась по ней и почувствовала себя здесь чужой и ненужной. Она звонко хлопнула в воздухе ладонями, убила комара, еще раз хлопнула. И вдруг ей отчаянно захотелось домой, где все было таким привычным, родным, еще хранящим тепло отца.
Николай долго не возвращался. В соседней комнате слышались шаги, голоса, какие-то стуки: вот что-то упало, а вот вроде бы тарелки и вилки забрякали.
Наконец Николай пришел. Его возбужденное лицо было в испарине.
– Заждалась? – спросил он, улыбаясь и раскатывая засученные рукава. – Ты уж извини за всю эту заваруху. Мне так неловко перед тобой… Нежданно-негаданно влетели в эту тяжелую историю.
Они присели на кровать.
– Уходит она к какому-то инженеру. Батя обрисовал мне его так: небольшого роста, болезненный, сравнительно молодой и красивый. Но, слушай, самое главное: жена его утонула, и остались у него на руках два мальчонки. Это что же такое происходит?! Это уж какая-то достоевщина! Из жалости, что ли, она взваливает на себя чужих детей?
– Вполне возможно, – сказала Таня, но тут же задумчиво добавила: – Хотя едва ли – только из жалости…
Она смотрела в окно, а за ним уже стояла белая нарымская ночь. При ее свете вполне можно было читать. Таня и не знала, что здесь бывают такие призрачные, белые ночи. Горела далекая, бледная и бесконечно печальная заря. Из близкой тайги долетало щемящее сердце кукованье. Должно быть, кукушка принимала эту ночь за день.
Таня замерла, напряженно потянулась к окну. За решетчатой оградкой стоял невысокий человек в белом плаще с поднятым воротником. Сначала он смотрел в сторону крыльца, а потом медленно пошел по тротуару перед домом.
– Пожалуй, он, – прошептал Николай. – Она должна была сегодня переехать к нему… Наверное, сам не свой, не понимает, что случилось.
Таня вздрогнула. И опять ей стало тревожно и одиноко от этой бледной зари, точно она попала куда-то на край света.
– А может быть, просто прохожий… Пойдем, нас ждут. Переодеваться будешь?
Тане почему-то не захотелось распаковывать чемодан, да она и не почувствовала желания показаться родителям Николая как можно лучше и красивей.
– А это платье очень измятое? – спросила она.
Николай, осматривая, обошел ее, заботливо поправил воротничок, смахнул что-то с плеча.
– Во всех ты, душенька, нарядах хороша. Пойдем!
А в соседней комнате все уже было по-другому. Закуски и графинчики с вином украшали стол, накрытый жесткой от крахмала лиловой скатертью. Чемоданы, разобранная кровать и разные узлы, куда-то исчезли. В пустоватой чистой комнате припахивало духами и краской от блистающего свежевыкрашенного пола.
– Присаживайтесь, Танюша, – приветливо встретила ее Клара Евгеньевна. Она была уже в другом, нарядно-пестром платье.
И Сергей Вавилович, надевший голубоватую нейлоновую сорочку с галстуком, тоже выглядел празднично.
Все начали преувеличенно весело и шумно рассаживаться, делая вид, что в этом доме все хорошо, все в порядке. Николай даже включил транзистор, повесил его на спинку стула, и внизу, у ног, заголосил, завизжал, загромыхал джаз.
Сергей Вавилович разлил желтое вино в стопки – стеклянные бочоночки, тяжелые от толстущих, для устойчивости, донцев.
– Ну, молодежь, за ваш приезд, за ваше счастье!
Таню опять удивила «лохматость» и глухость его голоса. Казалось, его уже за порогом не услышишь: где раздается голос, там и падают слова, у них нет звучности.
Таня пригубила из «бочонка». Николай положил ей в тарелку рыбу:
– Стерлядочка! Горячего копчения.
Она попробовала кусочек в кожистой крепкой шкурке и улыбнулась Сергею Вавиловичу:
– Вкусно!
Ей хотелось сказать ему что-нибудь ободряющее.
– Кушайте на здоровье, – ответил Сергей Вавилович, не прикасаясь к закуске.
– Мы всю дорогу мечтали о божественной стерлядке, а особенно об этой вот вязиге! – весело воскликнул Николай, вытягивая из рыбины резиново-податливую веревочку хряща. Полупрозрачная веревочка оборвалась и скрутилась как пружинка.
– Ты в детстве всегда отбирал их у нас, – совсем беззаботно засмеялась Клара Евгеньевна. – Очень он любил помогать мне. Однажды забежал на кухню и увидел на столе масло. Ткнул пальцем – сырое. Ну как же не помочь матери? И потащил масло сушить на солнце. Когда я хватилась, уже во все крыльцо на газете растеклась желтая лужа, ручейки масла ползли по ступенькам.
Все засмеялись и с облегчением начали вспоминать детство Николая.
– Как-то купил я ему пирожное, – заговорил Сергей Вавилович. – Он и спрашивает: «А чего это на нем?» – «Крем». – «Это которым сапоги чистят?»
Громче всех хохотал Николай: уж очень ему хотелось, чтобы всем в этот вечер было хорошо.
Пришлось и Тане рассказывать о своем детстве. Цеплялись то за одно, то за другое, лишь бы не молчать, лишь бы не пустить за стол тень случившегося. И сначала это удавалось, но потом все чаще и чаще в притворное оживление стало вползать смятенное молчание.
И вдруг Тане все в жизни показалось ложным, неустойчивым: не знаешь, что с тобой случится через час и каким обернется для тебя самый близкий человек.
А из-под стула Николая звучала итальянская песня. Она была такая томная, что нельзя было понять, кто поет: то ли женщина с низким, то ли мужчина с высоким голосом.
– Ну, а что же ты играешь в театре? – с преувеличенным интересом допрашивала сына Клара Евгеньевна.
– Да играть пришлось немало. Кассио играл в «Отелло», Олега Кошевого в «Молодой гвардии»…
– Ишь ты! Это солидно. Героическая тема. Ну, а еще? – прямо сгорал от любопытства Сергей Вавилович.
«Вот за театр уцепились», – подумала Таня. Она смотрела на белую ночь в окне, и все вспоминалось ей тяжелое, нехорошее. Она вспомнила, как внезапно, на ходу умер отец, припомнились старость и одиночество матери; полезли в голову разные измены и разводы. Вот и теперь она, Таня, сидит среди развалин семьи и притворяется веселой, ничего не замечающей.
Николай беспокойно посматривал на нее и тут же лихорадочно смеялся, шутил. Он заметил, что отец, никогда не пивший, вдруг хватил целый стакан разведенного спирта. Мать иногда тревожно поглядывала на него.
– Танюша! – громко обратился к Тане Сергей Вавилович. – А вы, как бы это сказать… У вас какое творческое лицо?
Однажды попалось ему в статье вроде бы такое же выражение. Губы его улыбались, а глаза были мутными, тоскливыми.
– Я еще учусь. Какое там у меня лицо! – Таня улыбнулась Сергею Вавиловичу. Повернув голову, она встретилась с глазами Клары Евгеньевны. Лицо у той было спокойным, всепонимающие глаза смотрели ласково и грустновато.
Оживление оборвалось, молчание обступило стол. И только из-под стула какая-то французская певица пела о любви.
– Сплавать бы вам вниз – в Парабель, в Каргасок, туда, где поглуше, к рыбакам, – попытался вырваться из этого молчания Сергей Вавилович.
– Да, интересно там… наверно, – растерянно откликнулась Таня, совсем не зная, зачем ей нужно плыть в этот самый Каргасок.
– Комары заедят, – засмеялся Николай.
– Этого добра хватает, – согласился Сергей Вавилович, наполняя «бочоночки».
И снова замолчали.
Клара Евгеньевна смотрела на жиденькую, северную зарю, которая, видно, так и будет тлеть всю ночь. А Таня смотрела на Клаву Евгеньевну. «Нелегко ей быть спокойной… Не хочу я всего этого, не хочу…» Вспомнилась дележка имущества вот в этой самой комнате, за этим самым столом. Таня зажмурилась, а в душе у нее будто что-то хрупнуло – стало больно и страшно. Николай, ободряя, незаметно погладил ее руку.
Клара Евгеньевна снова торопливо заговорила о детстве сына:
– Помню, Коля, понюхав обертку от туалетного мыла, произнес: «Эта мыла – она пахнет страшным воздухом».
Николай и Таня деланно засмеялись. Сергей Вавилович крепко опьянел от спирта; о чем-то думая, он тяжело и медленно качал головой.
– Я, конечно, не в курсе ваших отношений, – неожиданно громко заговорил он. – Но пусть у вас все будет по-людски… Уважайте друг друга, любите!
– Папа, – хотел остановить его Николай, но отец отмахнулся.
– Главное, нужно в человеке видеть Че-ло-ве-ка! Тогда не будешь, не сможешь топтать в нем душу.
Таня страдающими глазами посмотрела на Сергея Вавиловича. Николай выключил транзистор, опять загремевший джазом.
– Ладно, ладно. Успокойся, – в тишине попросила Клара Евгеньевна.
– Я же тебя на руках носил! – Сергей Вавилович ударил по столу кулаком. От этого удара «бочонки» подпрыгнули все как один. – Пылинке не давал упасть на тебя. И вот – нате вам!
«Зачем он все это говорит! – мучилась Таня.– Сам себя унижает. Есть вещи, о которых лучше молчать».
– К чему сейчас заводить этот разговор? Это все только нас с тобой касается, – мягко и тихо увещевала его Клара Евгеньевна.
– Нет! Не только нас. Им – жить!
– Ладно, папа. – Николай поднялся. – Идем, идем. Мы с тобой еще как следует не толковали. – И он увел отца в спальню.
Таня молчала, не зная, о чем говорить. Клара Евгеньевна отодвинула тарелки, положила крупные, красивые руки на стол.
– Вот так-то, – наконец тяжело вздохнула она. – Жизнь она и есть жизнь. И чего только в ней не нагорожено.
Таня тоже отодвинула тарелки, пепельницу – стеклянное блюдце с застывшими внутри стекла пузырьками – и тоже положила узенькие руки на стол, сцепив их замком.
– Жили мы с мамой плохо, – устало заговорила Клара Евгеньевна. – Война, голод… Раздеты, разуты. Отец на фронте. А тут Сергей Вавилович приметил меня, девчонку восемнадцати лет. Махнула я на все рукой и вышла замуж, хоть он и был старше меня… Ну, жила и жила. Платья были, а любви не было. Теперь вот ухожу. Полюбила человека и ухожу. Сына я вырастила, поставила на ноги. Зачем же смотреть на меня как на преступницу?
– Да нет, почему же вы преступница? – прошептала Таня. – И все-таки не хочется, чтобы случалось такое, – совсем по-детски призналась она. – Внутри как-то все против.
– И правильно, что против… И пусть никогда с тобой подобное не стрясется… Не так-то просто решиться на такой шаг…
Помолчали. Таня почувствовала что-то вроде теплоты к этой женщине, даже не сказавшей, что она берет чужих детей.
– А что же вы с Колей… Какие у вас планы? – осторожно спросила Клара Евгеньевна.
– Не знаю… Мы… – И неожиданно для самой себя сказала: – Просто Коля пригласил меня посмотреть Нарым. – И сразу же после этих слов почувствовала странное облегчение, на душе даже повеселело…
3
Потом Николай повел ее на Обь. Они тихонько брели окраиной. Спали среди белой ночи бревенчатые домишки, похожие на бани. На огородных плетнях сушились рыбацкие сети, у изб лежали опрокинутые старые лодки. Прибрежный переулок был усеян рыбьими головами и перламутровой чешуей. Донимали комары. Они просто уже начинали заедать. Таня застегнула пыльник, набросила на голову пестрый платок, завязала его под подбородком, закрыла и лоб и щеки.
– Тут всюду, среди тайги, киснут болота. С них и валит тучами гнус, – объяснял Николай, как-то настороженно присматриваясь к ней. – Охотники и рыбаки надевают на лица сетки, смоченные дегтем. У новичков от укусов лица опухают.
Таня даже вздрагивала от омерзения.
По съезду спустились на берег Оби. Вокруг валялось много отшлифованного водой и галькой плавника, сосновой коры, палок. Николай умело и быстро, как истый таежник, распалил большой трескучий костер.
Они сели под дым на перевернутую лодку, наполовину засосанную песком. Пламя стелилось по ветру. Огромная, косматая от волн Обь глухо шумела, дышала холодом. На далеком, другом берегу горел рыбачий костер. И Тане казалось, что там, у того костра, хорошо, весело и совсем нет комаров. А здесь было довольно угрюмо. Низко волоклись слегка подпаленные зарей тучи. Другой берег едва угадывался – так широка была Обь. Среди свинцовых волн в розовых бликах мелькал вертлявый остяцкий обласок. Кто в нем плывет? Куда?
И комарье, и неестественно белая ночь, и клубы дыма, и дышащая холодом Обь, и ее огромность, и этот день, проведенный среди развалин семьи, – все это подавило Таню. Ей стало так жутко, что она закрыла лицо ладонями и пробормотала:
– Не хочу, не могу я сейчас…
– Ты о чем? – встревоженно спросил Николай.
– О свадьбе.
Николай помолчал и наконец с досадой согласился:
– Ты права, Танюша, прямо скажем – обстановка хуже некуда. Ну, что же, вернемся домой и там все оформим по-студенчески незаметно, тихо.
– Нет-нет, я вообще не хочу, не могу… Мне это сейчас противно все!
– Дурашка! Чего ты испугалась? Ведь не у всех же так. Не все же разводятся. – Он обнял ее за плечи.
– Знаю, знаю… Всего лишь половина разводится. Кажется, так по статистике?
Николай полез за папиросами, долго не мог их найти; пока закуривал, комары облепили его руки.
– Послушай, но это же детство! – воскликнул он.
– Вот-вот, мне еще рано, я еще зеленая. Все эти сложности, пошлости, мелочность… Начинают с поцелуя, а кончают разделом барахла. Я – не о твоих, а вообще. Не могу я такое принять!
– Ты что, не веришь мне?
– Я вижу, что в жизни случается всякое. Самое неожиданное! Ты и сам не знаешь, что будешь чувствовать и делать через год.
– Ты любишь меня?
– Ты лучше спроси: «Будешь ли ты любить меня через год?»
– Так ты себе не веришь?
– Я завтра же – домой. И не потому, что не люблю, нет. А… Я уж и сама не знаю, как объяснить… Но у меня перед глазами все этот раздел имущества.
– Слушай, чудачка моя милая, это все у тебя минутное. Как налетело, так и улетит. Листок ты мой на ветке, подуло – ты и затрепетала. Мы же любим друг друга.
– Дай мне отдышаться!
Они замолчали. Сидели у костра, точно первобытные люди, – так пустынна была эта река, бегущая среди лесов и непроходимых болот. Мутная Обь хлюпала и бурлила почти у костра. Тяжелые лоснящиеся волны шлепались на берег.
– Пойдем. Здесь невозможно. – Таня вскочила. – А то я закричу!
Николай палкой столкал в реку пылающие головни. Комары и мошки могли свести с ума. Таня хлопала по рукам, по шее, по лицу. Наконец она бросилась от реки и начала карабкаться вверх, на берег…
Со стола все было убрано. У стены появилась кровать. На ней спала Клара Евгеньевна. У другой стены белела застланная раскладушка, наверное, для Николая.
Таня ушла в его комнату и закрылась на крючок. Долго не могла уснуть, взбудораженная всем происшедшим. Да еще было непривычно светло, и гнусно пищали вокруг лица несколько комаров, как-то проникших в комнату. Наконец она закрылась с головой. Но даже сквозь одеяло слышалось комариное зудение. На руках и шее чесались вздувшиеся лепешки от комариных укусов.
Чувствуя себя бесприютной и никчемной здесь, Таня заплакала…
Не заметив как, она уснула. И приснился ей Николай. Он как будто бы шел берегом Оби и все оглядывался на нее. Он уходил в белую ночь, в тайгу, к бледной заре. И Таня знала, что он уходит навсегда.
Она проснулась от боли и тягостной печали, вернее, еще не совсем проснулась, а только поняла, что это сон. Но она продолжала видеть Николая, и у нее пронзительно болело сердце: она любила его, а он уходил берегом все дальше и дальше, и Таня рвалась за ним и плакала.
Вот она всем телом ощутила кровать и поняла, что лицо ее мокро от слез. А Николай исчез, потому что она уже совсем проснулась. Но не исчезли из ее сердца ни горе, ни любовь, и Таня не открывала глаз, чтобы не погасить их, и старалась силой воображения снова вызвать Николая. И она еще некоторое время видела его и белую ночь над Обью…
Но вот все исчезло. Таня вскочила с кровати, быстро оделась и, приоткрыв дверь, позвала Николая. Он поспешно вошел. Таня крепко провела руками по щекам и как можно спокойнее сказала:
– Я уезжаю сегодня… А ты оставайся. Ты сейчас нужен отцу.
– Но, может быть, ты поживешь еще хоть три-четыре дня? – в отчаянии почти закричал Николай.
Она неожиданно уткнулась ему в плечо и тут же схватилась за чемодан.
– Да подожди, Танюша! Нужно узнать, когда приходит теплоход.
Но Таня, боясь встречи и объяснений с родителями Николая, распахнула дверь и быстро вышла из дома. Он выскочил следом, взял у нее чемодан. Она почти бежала, и он едва успевал за ней.
По длинной дощатой лестнице молча спустились к речному вокзалу. Николай, мрачный, ушел брать билет, а Таня села на чемодан под березой и устало огляделась. Она увидела причал, желтый нарядный дебаркадер, суда у странного деревянного берега, а ниже по течению намытые рекой пески, на них синие, зеленые, белые лодки, загорающих мальчишек, плывущий на другую сторону паром с лошадьми и машинами, лодку с собакой на носу… Совсем рядом с Таней возчик таскал на телегу ящики с пустыми бутылками. Вот он вынес из буфета кирпич хлеба и стал кормить работягу лошадь. Она откусывала-отрывала от буханки и, прижмурившись, долго, степенно жевала.
Услыхав мягкий гудок, Таня вскочила. Из-за поворота выплыл лебедино-белый «Патрис Лумумба». Он возвращался домой. Возвращалась и она. Схватив чемодан, Таня побежала вниз, к причалу. Под ее ногами хрустела галька, потом заколыхались сходни с набитыми поперек рейками. Каблучки цеплялись за них. Загудел железный настил дебаркадера. Это догонял ее Николай. И все эти мелочи врезались в память, чтобы потом ожить в воспоминаниях.