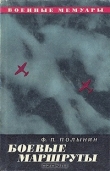Текст книги "Листопад в декабре. Рассказы и миниатюры"
Автор книги: Илья Лавров
сообщить о нарушении
Текущая страница: 18 (всего у книги 32 страниц)
– Как-то я подсчитал, что человек за свою жизнь шесть раз обходит земной шар. Делая по двадцать пять тысяч шагов в день, человек за семьдесят лет проходит астрономическое расстояние в пятьсот миллионов шагов. Вот, пятьсот! – И он, помусолив во рту жало карандаша, два раза жирно подчеркнул цифру. – Ну, а я решил еще один виток добавить к этому.
И он поставил плюс и цифру 40000 км.
Вьюков ловил каждое слово старика, точно хотел понять что-то очень важное для себя. Он стал обстоятельно, со свойственной ему дотошностью, выспрашивать у небывалого пешехода о встречах, о местах, где он побывал, о том, что видел. От одних названий только крупных городов у Вьюнова закружилась голова: Москва, Ленинград, Таллин, Рига, Вильнюс, Минск, Киев, Тбилиси, Ереван, Баку, Ашхабад, Ташкент, Фрунзе, Алма-Ата… Перечислял и перечислял старик, глядя в книжечку, где был записан весь его маршрут. Он шел по железной дороге, из республики в республику.
– Побывал я и у Белого моря – в Архангельске. Уж очень интересно узнать: что на земле творится, как люди живут, какие реки журчат, как там в пустынях, в тайге, на берегах морей? Заболел я вроде! Спать не могу. Душа переворачивается, как только подумаешь, сколько времени уходит на сон. Из Архангельска пошел я в Киров, Пермь, Свердловск, Саратов. Оттуда подался в Среднюю Азию. Через Семипалатинск прибежал я на Алтай к целинникам. За спиной у меня уже… – карандашик на шнурке пополз по листку, – уже двадцать восемь тысяч девятьсот одиннадцать километров. Вот, – он показал Вьюкову цифру. – В вашем городе у дежурного по станции я сделал, – карандашик опять побежал по страничке, уткнулся в цифру, – я сделал свою две тысячи пятьсот девяносто пятую отметку в пути. – Цифры он произносил четко, с особым удовольствием.
Вся книжка была заполнена колонками цифр. Эти колонки походили на стихи с короткими строчками. Видно было, что все у старика рассчитано и весь путь, все замыслы и мечты выражены цифрами. Пожалуй, и силы свои, и возможности сердца он тоже рассчитал и отразил в этих колонках-стихах.
– А сейчас вот навострил лыжи к Тихому океану. – Карпов сунул в петельку карандаш в красной рубашке, захлопнул блокнот. – Побываю на Камчатке, на Сахалине, а после махну в Иркутск. Там и закончу свой «виток». Можно до вечера перечислять города, где я побывал, но не в количестве дело. Важно – что я увидел! Какие чудеса природы! Каких людей! Какие творения человеческих рук! Я ведь встречался со многими знаменитыми людьми: с учеными, с писателями, со строителями.
– Говорят, чтобы любить дороги, надо родиться в пути. – Вьюков улыбался, с волнением глядя на Карпова.
– А я родился в доме и всю жизнь прожил на одном месте. А вот теперь меня понесло. Ну что ты скажешь – понесло, и все. И не могу остановиться… – Старый бухгалтер рассмеялся. – И я доложу вам, голубчик: эти пять лет в пути были в моей жизни самые радостные.
– Да, один живет, чтобы есть, а другой ест, чтобы жить, – задумчиво пошутил Вьюков.
– Вы слыхали о королеве цейлонских пальм – талипотовой пальме? Сорок лет живет она, а потом выкидывает вверх, как знамя, огромное кремовое соцветие до восьми метров высотой. Дождется, когда созреют семена, бросит их на землю и тогда уже погибает.
– А вы… что – вы? Что хотите сделать? Зачем пошли? – словно бы сердясь, начал допрашивать Вьюков.
– Я? Книгу буду писать, книгу, – ответил Карпов, сам радостно изумляясь своей затее. – Уж больно хочется рассказать о нашей земле какими-то… поющими, что ли, словами. Чтобы они в сердце западали. Вот расскажу и тогда с легкой душой отправлюсь в последний путь. А в нем не сорок тысяч километров. Он бесконечный. И по нему не вернешься к этому костру.
Голос Карпова стал глуховатым. Пешеход притворно откашлялся, взял кружку с чаем.
Жадно слушавший Вьюков вспомнил о скитальцах-китах. Тысячи километров проплывают они в штормы и в штили. И все плывут и плывут. И безбрежна их воля. Дни их кончаются в плавании. Бум, бум, бум – гремят в глубинах океанов сердца великих пловцов.
Потрескивал костер, клубился дымок. Дашенька бегала со скворцами вдоль пенистой полоски.
– А вы что же… Куда и почему? – осторожно спросил Карпов, обмакивая в кружку сахарный квадратик.
– Да вот… тронулся и я в путь с дочкой, – неопределенно ответил Вьюков, песком засыпая густо задымивший костер. – Только путь наш невелик: всего до Петушков.
Карпов пристально глянул на Вьюкова из-под густых черных бровей, спросил:
– Что-нибудь… случилось?
И, всегда сдержанный, Вьюков почему-то сказал откровенно:
– С женой у меня… Паршиво все… Идем вот к бабушке…
– А может, погорячились? Может, уладится?
– Не хочу улаживать, – отчеканил Вьюков. – Все, что позади у меня, все это надо… отрубить!
Кучка песка над головешками дымилась, чадила… Вьюков раздраженно выплеснул на нее воду из чайника. Теперь над мокрым песком курился уже не дым, а легкий парок.
Сверкающая Обь всей громадой воды двигалась и двигалась к океану. Легко поднялся пружинистый пешеход, ловко забросил на спину рюкзак. За ним поднялись и Вьюков с дочкой…
Они пробрались через комариные заросли тальника, и вдруг Дашенька вскрикнула: светлая речонка ударила ей в глаза сиянием. Речушка-шалунья, речушка-змейка клокотала в камнях, будто кто-то прополаскивал большое горло. Мостик через нее был сколочен из белых березок, с них даже ветки не обрубили, и на ветках еще болтались вялые листья.
Словно из детства выбежала эта речонка, и вспомнил Вьюков, что зовут ее любовно: Ягодка.
– Вот по ней мы и придем в Петушки, – сказал он.
Двинулись по берегу.
Ягодка шалила: то начинала бурлить, взбивать-пену между камней и коряг, то притворялась дремлющей среди желтых кувшинок, то неслась вприпрыжку, устраивала веселые водопадики, то прикидывалась мелким, стеклянным ручейком, позванивала на галечных россыпях, и вдруг размахивалась вширь, топила камыши и замирала, чернела, пузырилась, дескать, она недвижная, а сама украдкой текла – об этом говорили серебряные стрелки в тех местах, где вода разрезалась о стебли белых лилий с холодными, резиново-плотными лепестками.
Вьюков оживленно рассказывал о Ягодке. Летом она безобидная, воробью по колено. А вот весной эта Ягодка дает о себе знать: бушует, разливается, топит деревни. Да и сейчас, тихоня-тихоня – а сама таит множество омутов, иные и десять и пятнадцать метров глубиной. В этих ямах-котлах рыба кипит.
– Ого! – воскликнул Карпов и вытащил книжку.
Вьюков увидел, как он записал: «Отец и дочка. Идут в Петушки. Речка Ягодка. Ее нрав».
Вьюков продолжал обстоятельно рассказывать: Ягодка бежит через тайгу и болота, на берег ее забредают медведи – сластены любят малину, бруснику, смородину. Иногда на закате переплывают они речку, приходят в поля, важно там сидят, как на стульях, и, зажмурившись, сосут овес, блаженствуют.
Карпов и Дашенька засмеялись…
Недалеко от леса остановились.
– Здесь я с вами распрощаюсь, – сказал Карпов. – Во-он дымок паровозный. Там железная дорога. Я ведь иду по железной дороге. Отмечаюсь на станциях. А тут сделал небольшой крюк, в селе на берегу Оби внучка живет… Рад, что повстречался с вами. Унесу я с собой и Ягодку, – он зачерпнул из нее жесткой ладонью, попил, – и Дашеньку со скворцами, – поцеловал ее в нагретую солнцем макушку, – и ваши Петушки! Счастливо добраться до них. – Карпов улыбнулся. – Ну, я пошел во Владивосток.
И, по-птичьи легкий, скорый на ногу, пошагал через хлебное поле, а Вьюков и Дашенька смотрели ему вслед.
Он уже отошел далеко, а они все смотрели. Вдали по плавному склону, среди зелени березняков, желтело хлебное поле и чернела прямоугольной заплатой зябь. Карпов оглянулся, поднял руку и неожиданно зычно, по-разбойничьи гаркнул:
– О-го-го-го!
«О-го-го-го!» – прокатилось удалое эхо.
«Вот это бухгалтер! – подумал восхищенно Вьюков. – До свиданья, говорит, я пошел во Владивосток! А туда десять тысяч километров! Это же какой-то… альбатрос!»
5
Они часто купались в Ягодке, собирали в березняках клубнику.
Наткнулись на вагончик. Возле него были устроены железные стойла, мычало большое стадо. Шумел электромотор. Доярки загоняли буренок в стойла, надевали на соски резиновые доильные стаканы.
Дашенька приседала на корточки, изумленно смотрела, как эти стаканы мягко сжимались и, словно пальцы доярок, выдаивали молоко. Вместе с ней приседал на корточки и Вьюков и тоже удивлялся человеческой выдумке.
Вышли на луг, здесь трактор таскал косилки, они срезали траву. Трактор остановился, косари спрыгнули с сидений, побежали, повалились на землю. Раздался отчаянный визг. Один из косарей поднял за уши серенького зайчишку. Малыш, убегая от зубьев косилки, запутался в траве.
Косари посмотрели на него, посмеялись и подарили Дашеньке. Папа держал его за брюшко и за уши, а он вырывался и верещал во все горло.
– Какой он славный! – кричала Дашенька. – Отпустим, папа. Он еще маленький.
И они отпустили его в березняке.
Много чудес они высмотрели в этот день. Видели, как скворец бегал по широкой плоской спине барана, теребил на ней клювом заскорузлые шерстяные кочки.
Дашенька заметила, как на поляне лягушка лакомилась клубникой: поднималась на задних лапах, выкусывала бочок у ягоды.
– Ты подумай! – удивился отец.
Они открыли, что на землянике роса алая, а на голубике – голубая.
Потом набрели на большое поле, заросшее подсолнухами. Когда вышли из подсолнухов, на них набежал теплый дождь…
Потянулся косматый лес.
Смеркалось, когда наткнулись на новый сруб среди величавых кедров. На нем уже была крыша. Темнели проемы для окон и двери.
– Наверное, для лесника строят, – сказал Вьюков.
Заглянули внутрь сруба, увидели землю и укрепленные балки для пола. Вдоль стен тянулись мостки, на них стоял таз с мохом. Им конопатили щели между бревнами. На земле валялись золотистые щепки, пахнущие смолой. Эти занозистые щепки оказались тяжелыми, липкими: в них, наверное, было больше смолы, чем древесины, она исчертила их янтарными полосками.
– Вот здесь и заночуем, – весело сказал Вьюков.
Щепки черно дымили и пылали, как факелы, обливаясь растопленной смолой. Костер освещал нижние ветви кедра. На них виднелись большие шишки. Вьюков швырнул сучок, и одна хлопнулась в траву.
Коричнево-сизоватая шишка, грузная, точно гирька, вся была обмазана смолой. После нее ладошка Дашеньки потемнела, пальцы склеились, от них запахло таежным.
– Еще зеленая. – Дашенька вздохнула. Зарево плясало на ближних стволах, на срубе с черными провалами вместо окон и двери.
– Построят, вставят рамы, стекла, повалит из трубы дымок, и заживут люди, – сказал Вьюков. И задумался. О чем? О себе? О Дашеньке? Об открывшейся ему жизни? Жизнь! Да он ее и не касался. Он годы не вылезал из-за кулис!
Лес окостенел. Ни звука. Теплынь, как на печке. Дашенька сидела в сказке. Сруб для нее уже был избушкой на курьих ножках, лес – жилищем лешего.
– Пойдем, пойдем, – прошептала Дашенька и потянула отца за руку. И столько таинственного было в ее голосе, что Вьюков тоже шел, замирая от шороха, от хруста сучка.
Они скользили все дальше и дальше между кедрами.
– Я еще мальчишкой был – шептал он, – и однажды меня с дружком застала в лесу такая же ночь. Нам будто глаза завязали. Налево пойдем – стена кустов, направо – путаница ветвей, прямо двинемся – стволы как частокол. Падали несколько раз, исцарапались, колени ободрали. Пришлось нам сесть и ждать рассвета. А осень была, дул ледяной ветер. Спичек у нас не было. Думали, окоченеем. А потом, чуть посветлело, видим: Петушки рядом.
Дашенька тихонько засмеялась. А Вьюкову так стало славно, что он удивился: «Я чувствую себя счастливым! С чего бы это?» Еловая лапа, как щетка, прошлась по его лицу. Ударился плечом о ствол, запнулся о пенек.
Дашенька шлепнулась на какой-то сушняк. Он звонко затрещал. Потом залезли в такую чашу, что запутались в невидимых ветвях. Дашенька повалилась и повисла на них, как в гамаке. Зашуршал какой-то зверек.
– Папа! Ты где? – в радостном ужасе прошептала Дашенька.
– Здесь, – как леший, прохрипел Вьюков.
– Ой, да ну тебя, страшно!
Они взялись за руки и, оберегая глаза, на ощупь выбрались из кустарника, побежали. И обоим казалось, что кто-то беззвучно мчится за ними, сопит сзади, вот-вот схватит.
Выскочили на поляну, к срубу в огненных пятнах.
И правда, как избушка на курьих ножках, – громко проговорил Вьюков.
– Вот здорово! – Дашенька шумно дышала от бега и от пережитого страха. – А дед-скороход сейчас где-то идет и идет в свой Владивосток.
– Он сейчас где-нибудь храпит, – откликнулся Вьюков, и ему вдруг захотелось тоже идти и идти. Пусть бы не кончалась дорога в Петушки.
– А в лесу, в темноте, кто-то шевелится, дышит, – проговорила Дашенька.
– Но-о!
– Вот честное слово! Я своими ушами видела… ой, слышала!
Вьюков засмеялся, по тут же оборвал смех.
– Никогда мы с тобой море не видели, – вырвалось у него грустно.
– Ну так пойдем! Мимо Петушков прямо к морю пойдем. Пешком. Как дед-скороход!
Котелок с кашей над костром пыхтел точно паровозик, выбрасывая клубочки пара…
Неплохо устроились они в срубе на скрипучих мостках. Дашенька забралась в спальный мешок, а Вьюков набросал рядом мху, веток, вместо подушки приспособил рюкзак, накрылся плащом. Они лежали как в вагоне на верхней полке. Снизу пахло щепками, новыми бревнами, таежной землей.
– Папа, ты с мамой поссорился? – спросила Дашенька.
– Нет-нет, – торопливо ответил он.
Их лица были рядом, и Вьюков чувствовал на щеке ее теплое дыхание.
– А почему она кричала: «Жрите меня с костями»? – Дашенька спрашивала серьезно, с недоумением.
Вьюков молчал. Внезапно зашумел редкий, но крупный дождик. Большие капли звучно защелкали по тесовой крыше и тут же затихли: тучка унеслась.
«Сколько можно обманывать? Ну, месяц, ну, три. Все равно рано или поздно придется сказать, – в смятении думал Вьюков. – Лучше уж сразу…»
– Видишь ли, Дашенька, – осторожно начал он, – мама… Она больше с нами… – И не нашел в себе силы нанести удар ребенку. – Она поехала далеко-далеко. Ее послали… в Москву. Учиться. Она будет учиться. А я не пускал ее. Вот она и сердилась. Поняла? Я не пускал ее. А она в Москву…
– Зачем же она поехала? – Дашенька вздохнула и вдруг жалобно протянула: – Я к маме хочу!
– Мы с тобой будем жить. И с бабушкой, – как можно веселее заговорил Вьюков. – Мы с тобой заживем на славу.
– Я к маме хочу! – Дашенька заплакала.
– Что ты, глупышка! – Вьюков сел, свесив ноги с подмостков. – Я буду работать в Петушках. Заведующим клубом. А ты будешь учиться. И нам будет весело. Поняла?
– Я к маме хочу! – Дашенька плакала долго, неутешно, томимая неясной тоской и тревогой. И даже заснув, она все всхлипывала и сильно вздрагивала.
А Вьюков задыхался от жалости к ней, от ненависти к жене, от безвыходности положения. Из души исчезло все хорошее, что дали ему дорога в Петушки, Дашенька и человек, ушедший во Владивосток.
Вьюков уже не думал о себе, ему было плевать на себя, он думал только о Дашеньке.
Чтобы вызвать еще больше отвращения к жене, он стал вспоминать все ее поступки. Она вечно блажила, выкидывала нелепость за нелепостью. Все у нее было не как у людей.
Одно время увлеклась парашютным спортом. Стала ходить в аэроклуб, прыгала с вышки. Но когда дело дошло до самолета, он, Вьюков, приложил все усилия, чтобы она бросила эту затею. «Какая тебе польза от этих прыжков? К чему они? – наседал он на Люсю. – Что за удовольствие рисковать жизнью? Разбиться хочешь? Забыла о ребенке?»
И только она развязалась с прыжками, как сразу же выкинула новый номер: начала учиться… верховой езде! И как это могло прийти ей в голову? Пропадала на ипподроме. Пропахла конским потом. «Ты с ума сошла! – точил он ее. – Да разве это женское дело? Что здесь интересного? Голову свернуть хочешь?» И снова он, почти за уши, оттащил ее от этой блажи.
Так он вспоминал одну несуразность жены за другой, чтобы доказать себе, что она была «без царя в голове». Но странно – сейчас ему эти затеи не показались вздором.
Он представил себя в самолете под вольными облаками, увидел из окошечка глубь, а на дне ее леса, озера. И вот Люся, бледнея, перебарывает страх и кидается в эту бездну. В ветре, в сиянии солнца парит она между небом и землей, под белым куполом. Все ее существо потрясено только что пережитым. Риск, опасность, страх – все позади. Она ликует. Ведь этот первый прыжок для нее подвиг.
Вьюков постарался мысленно пережить то, что могла пережить Люся. И ему понравилась эта вспышка обжигающих чувств.
А скачки?! Стремительный полет коня, шальные глаза Люси, жаркий румянец, шумное дыхание, азарт, ловкость, сила!
И опять то, что прежде считал блажью, увиделось совсем по-другому. Что это с ним стряслось?
Ее многое манило. Однажды она сказала:
– Вот так умрешь и не повидаешь Мексику, Аляску, Африку! Неужели не повидаем? Жить на земле и не увидеть свою землю! Где же справедливость? Почему я должна только читать об Амазонке, а не могу поплавать по ней?
– Вздор! – сказал он тогда. А разве это вздор? Ну почему он не может увидеть Амазонку? Почему? Он – человек! Он – житель планеты!
И тут, в тишине лесной ночи, произошло уже совсем необъяснимое: он увидел в плохом свете не Люсю, а себя.
Вьюков сидел на мостках ошеломленный. А когда понял, что он любит эту новую, открытую им сейчас Люсю, испугался. Он готов был скакать с ней на горячем скакуне, прыгать с самолета, идти пешком до Владивостока.
Вьюков и не заметил, что в проемах окна уже посветлело…
Путь Ягодки через луга обозначался узкой виляющей полоской кустов и деревьев, камышей и высокой травы.
Снова все утро шли ее берегом. Вьюков наблюдал за дочерью. Она еще сильнее льнула к нему, словно боялась потерять его. Ему даже казалось, что она смотрит взрослее, серьезнее. А он все думал и думал о Люсе.
Однажды он зашел к ней в кассу.
– Ты помнишь у Цвейга описание рук в игорном доме? – спросила она.
Вьюков не читал Цвейга. Он вообще редко читал. Но все-таки неопределенно пробормотал:
– Ну как же, помню…
– Понаблюдай, – и она кивнула на окошечко, в которое просовывались за билетами руки.
Ну и что же? Руки как руки. Но она стала тихонько «объяснять» их.
Вот просунулась в окошечко рука, большая, словно грабли, в мозолях и трещинах, оплетенная набухшими венами. Ногти от ударов расплющенные, черные. С трудом взяла она с тарелочки билетик.
– Это работяга, – сказала Люся. – Люблю таким продавать билеты. Лучшие места им отдаю.
Протолкнулась тощая желтая рука. Она злилась, чуть дрожала, раздраженно комкала деньги. Пальцы обкуренные, ногти обгрызены. Большой палец нажал указательный, и он щелкнул, точно сломалась лучинка. Рука сцапала билет и выдернулась из окошечка, будто схватила горячий уголь в печке.
Люся, беззвучно смеясь, посмотрела на Вьюкова.
– Тебе ясненько, что это за тип?
А тут в окошечко уже шмыгнула другая рука. На кисти ее чернел ремешок. Она жирная, розовая, с пузатыми пальцами. На среднем – кольцо, мизинец кокетливо отставлен, на нем длинный, острый ноготь. Рука уверенно, самодовольно забрала в щепотку два билета, сдачу и, смеясь всеми ямками, упорхнула.
– У-у, какой мелкий жулик и крупный подлец, – восхищенно шепнула Люся.
Спокойно появилась женская рука. Она была узкая, с длинными, точеными пальцами, с золотым квадратиком часов на запястье. Холеная, прекрасная, небрежно уронила хрустящую десятку. В кассе свежо запахло духами.
– Такую руку целуют. Наверное, она в маленьком кулачке держит большого генерала! – одобрительно заметила Люся…
Сейчас, вспоминая эту сцену, Вьюков подумал, что такой зоркий, наблюдательный человек должен быть умным. И еще Люся представилась ему удивительной фантазеркой.
Да разве можно было такую запирать в скворечнике кассы?
Они вышли к станции. До Петушков от нее было близко.
Перед вокзальчиком толпились люди. Дашенька и Вьюков напились у стеклянного киоска шипящей газированной воды. Она была такой сладкой и холодной, с розовой пеной, так сыпала в лицо невидимыми брызгами, что Дашенька выпила два стакана.
Двинулись дальше.
Здесь, должно быть, недавно пробежал дождь. Ветви кропили в одну сторону, по ветру, золотые капли. Деревья, высыхая, дымились; словно затлели от солнечных угольков.
– Дашенька! Вот и наши Петушки! – закричал Вьюков и, схватив ее на руки, понес через бурлящую речушку, продрался сквозь черемуховые кусты. И вот оно – родное место! Огороды, избы, а над ними двухэтажная белая школа. На гребне ее крыши пенечками торчали голуби.
– Вот же Петушки! – снова крикнул Вьюков и поднял Дашеньку выше себя.
– К маме хочу, – раздался сверху голос, полный взрослой тоски.
Вьюков долго стоял молча, прижимая к груди Дашеньку, а потом повернулся и пошел обратно. Ягодка бурлила у его ног.
– Куда ты? – спросила Дашенька.
– На поезд. Домой, – ответил Вьюков. – Домой, домой.
Дашенька схватилась руками за его щеки, заглянула в глаза, проверяя, не шутит ли он.
– Прощайте, Петушки! – сказал Вьюков.
– Прощай, Ягодка! – крикнула ликующая Дашенька…
1964