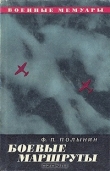Текст книги "Листопад в декабре. Рассказы и миниатюры"
Автор книги: Илья Лавров
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 32 страниц)
Синий колодец
Электропила визжала, выла, входя в крепкую древесину. Вырывалась тугая струя опилок, пахло сосновой смолой.
Семен, тяжелый, широкий, с засученными до локтей рукавами, вывел пилу из надреза и, волоча резиновый кабель, забежал к дереву с другой стороны. Пила снова взвыла, вгрызаясь.
На место Семена встал помощник Сашка Ягодко, стройный и гибкий даже в старом, мешковатом комбинезоне, и, взмахнув несколько раз топором, сделал надруб – сюда падать дереву. Схватив багор с острой железной вилкой на конце, Ягодко вонзил его в сосну.
По медному лицу Семена катился пот. Через брезентовые рукавицы он ощущал, как мелко дрожит ручка визжащей пилы.
Густая, увешанная шишками, вершина огромной сосны казалась недосягаемой. Но вот она слегка дрогнула, важно качнулась. Ягодко уперся в багор, его худое лицо покраснело. Сосна начала валиться сначала медленно, а потом все быстрей и быстрей. Срываясь с пня, застонала, закряхтела. Сучья со свистом рассекали воздух. Лесной великан с гулом, треском и шумом ветвей грохнулся на землю. Взметнулись куски бронзовых сучьев, хвойные лапы, чешуйки коры.
Семен опустил горячую пилу, кулаком стер с густых бровей капельки пота, подмигнул напарнику и подбежал к другой сосне.
– Ты загонял меня, Сенька! – крикнул Ягодко, едва успевая подтащить кабель и багор. – Чего ты как на пожаре!
– Не робей, паря! – загремел Семен, сверкнув маленькими глазами, и задрал голову: если дерево стоит ровно, то оно обязательно упадет в ту сторону, с которой больше ветвей.
– Но, милая! – весело крикнул Семен, и пила с воем вошла в ствол.
Свалив с десяток деревьев, сели на пеньки перекурить. Кругом теснились косматые, укутанные лесом сопки. Туман полз облачками по склонам, цеплялся за деревья.
Еще три дня назад на этом пологом холме шумел бор, а теперь стало просторно, пусто: бор лежал на земле, качая сучьями, будто прилег отдохнуть. Пахло опилками, хвоей. Поверженные сосны были теплые, еще живые. Торчали пни, заплывшие прозрачной смолой.
Лишь кое-где молоденькие сосенки шевелили на ветру свежими сквозными ветвями: радовались, что теперь вольно и солнечно им.
В глубине леса гудела передвижная электростанция. От нее тянулись резиновые черные кабели электропил. Моторист Светлолобов, сидя на ведре, застеленном стеганкой, точил на электроточиле зубья пилы.
Семен курил и прислушивался. Из глубины тайги доносилось гулкое тюканье нескольких топоров: женщины обрубали с поваленных сосен сучья. Один топор тюкал торопливо, слабо, другой – медленно, с перебоями, третий бил уверенно, сильно. Семен знал, что это рубит Клаша Пивоварова.
Он смотрел в небо, рассеянно пускал папиросный дым и мысленно видел статную девушку в белом платочке, в вишневой кофте, в сапогах. Девушка размахивает топором, по-мужски широко и сильно, он сверкает, летят сучья. Клаша работает без остановки, легко прыгая в путанице сучьев через большущие стволы. И только пересыхающие губы выдают, что работать тяжело.
«Тук! Тук!» – слышит Семен. Словно звали его «Жду! Жду!» Семен сдвинул кепку на брови и почесал заросший затылок, потом двинул кепку на затылок и почесал брови.
Там, где работала Клаша, тарахтел трактор: Степка Лоскутов таскал хлысты к дороге.
«Тук! Тук! Жду! Жду!» – выстукивал топор.
– Эх, елки зеленые! – пробормотал Семен и насторожил ухо в сторону дальней лесосеки…
Когда с гулом рухнула сосна, Семену показалось, что далекий топорик-дятел стих – наверное, Клаша прислушивалась к шуму.
– Свадьба-то у тебя когда? – спросил Ягодко, прищурив светлые глаза и определяя наклон сосны.
– Через три дня, – Семен крякнул и посмотрел на Ягодко радостно-изумленными глазами, точно сам впервые услышал о своей свадьбе.
– Совсем ты, брат, ошалел, – засмеялся Ягодко, – готов руками вывертывать лесины! А я бегай за тобой высунув язык!
Заголосила пила, словно хотела вырваться из рук Семена. Справа и слева тоже валились сосны, охала тайга…
В перерыв к станции пришли все вальщики, расстелили брезент и вытащили из сумок бутылки с молоком, с чаем, разложили картошку, огурцы. Только Семен скрылся куда-то.
– К Клаше своей потащился. Любовь картошкой не накормишь, – проговорил моторист Светлолобов, круглолицый, с хитрыми глазами. Он говорил басом, а смеялся неожиданно бабьим голосом: «Хе-хе-хе!»
– Клавка – девка отчаянная, оторви да брось. Запряжет его, как смирного мерина, хе-хе-хе!
Семен шел лесом и ел густо посоленный ломоть хлеба. Волчий табак – белые пампушки, похожие на грибы, громко щелкая, лопались под сапогами. Они выстреливали облачками ядовитой пыли, напоминающей нюхательный табак.
Среди зарослей целебной кровохлебки прятались маленькие кочаны заячьей капусты.
Семен срывал розовые кукушкины башмачки, надутые, как пузыри, фиолетовые кукушкины слезки, золотые шишечки девятника, который будто лечит от девяти болезней, мелкие красные цветы «богородицын чай».
Он держал букет сразу двумя руками, выставив далеко вперед, словно нес кринку, доверху налитую молоком. Цветы не бревна, а кожа на ладонях так огрубела, что стоило отвернуться – и уже не ощущал: в руках они или выпали.
Семен прислушался: трактор выл и ревел.
Выйдя на лесосеку, Семен спрятал букет за спину: он разглядел в балагане из веток Клашу и других женщин-сучкорубов. Незаметно бросив букет, деловитой походкой направился к трактору, разрывая паутину, натянутую струнами от куста к кусту.
Лесосека была завалена лесинами, кучами обрубленных сучьев, утыкана свежими пнями, застлана войлоком из опилок, желтой хвои, серых шишек. Несколько трухлявых, шерстяных от моха валежин лежало в траве. Придавленные хлыстами кусты шиповника краснели каплями ягод. Просвеченная солнцем, изумрудная сосновая поросль была по колена Семену. Пахло крепко и молодо смолкой, развороченной трактором землей. Кое-где переломленные сосенки уронили на землю верхушки.
Из бункера, позади кабины, валил удушливый дым: трактор работал на сосновой чурке. Сверкая гусеницами, с хрустом подминал он сучья, кусты багульника, молодые деревца. «И не нужно, а истребляет», – нахмурился Семен.
Трактор опустил сзади железный щит, попятился и начал толкать им тяжелые хлысты.
Лоскутов, увидя Семена, выключил мотор, прыгнул из кабины. Он был очень высокий, сильный, с ногами колесом, точно у кавалериста. Его кепка без козырька походила на берет. Красивое чумазое лицо блестело от пота и масла. Лоскутов однажды увидел инженера с бородкой, но без усов, это ему очень понравилось, и он тоже начал отращивать бороду. Она только-только пробилась и удивительно напоминала черную суконку, облепившую подбородок.
За свои тридцать лет Лоскутов плавал с сахалинскими рыбаками в бурном Татарском проливе, добывал молибден на Кавказских вершинах, мыл золото в дебрях Якутии и, наконец, приехал на Байкал валить тайгу. С пятнадцати лет, как только убежал от родных из колхоза, он все время куда-нибудь вербовался.
Лоскутов был и тракторист, и шофер, и слесарь, и токарь – его руки называли золотыми. Он всегда чем-нибудь щеголял: или уменьем плясать, или бородкой, или подхваченными особыми словечками.
– Как работается? – спросил Семен, думая совсем о другом.
Лоскутов, пританцовывая, зычно пропел:
Я на печке лежу,
Похохатываю —
Каждый день трудодень
Зарабатываю.
Он размашисто стукнул Семена по плечу.
– Так-то, голова! А у тебя как? Вопрос с женитьбой утрясли?
– Да вроде так, – смущенно улыбнулся Семен.
– Ну давай, давай, голова! Молодые соседи довольны будут! Значит, гульнем на всю ивановскую? – Плутоватые большие глаза его искрились. – Хотя вообще-то не говори «гоп», пока не перескочишь!
Приемщица, в черных шароварах и зеленой юбке, мерила толщину бревен складным сантиметром, писала на комлях цифры. Лоскутов обхватил ее за полные плечи:
– Ласточка моя, дай я тебя приголублю!
– Иди, иди, не припрягайся! – Приемщица стряхнула его руки.
– Голубонька, любовь моя крепка!
– И тюрьма крепка, да черт ей рад.
– Эх, девки языкастые! – захохотал Лоскутов и прыгнул в кабину.
«Вот, язва, лихой, в карман за словом не полезет», – восхитился Семен. Уходить не хотелось, и он тоже залез в кабину, сел на железный стул с сиденьем из алюминиевой проволоки.
Помощник Лоскутова, скуластый, с плоским носом бурят Арсалан, продолбил ломиком под двумя хлыстами дыры, просунул трос с крючком на конце, захлестнул его вокруг комлей и свистнул. Лоскутов включил мотор, заработала лебедка, трос натянулся, как струна, за ним поползли хлысты. Концы их взобрались на покатый щит.
Между Лоскутовым и Семеном ревел мотор под стареньким капотом, пропеллер-вентилятор гнал горячую струю от мотора, солнце палило в окошко без стекол, дышал зноем бункер за спиной, – от всего этого и от напряжения по лицу Лоскутова струился пот. И хлысты в сверкающих медовых каплях смолы тоже будто вспотели от натуги, всползая на щит. Лоскутов рванул рычаг, покатый щит поднялся, выпрямился, и на его площадке оказались два комля. Трактор сердито взревел, дернулся. Из-под гусениц летели куски размятых сучьев, сосновые лапы. Хлысты вспахивали борозду.
Кругом пни, лесины, и Лоскутов напряженно смотрел то в окошко вперед, то в окошко назад.
Арсалан прыгнул на ползущие хлысты, ловко, точно бурундук, пробежал по ним, сел, свесив ноги, и оскалил сахарные зубы. Семен улыбнулся ему, а Лоскутов погрозил кулаком.
Трактор вползал одной гусеницей на лесины, кренился, Лоскутова и Семена швыряло, оглушали треск и завыванье мотора.
– Чурки сырые, – выругался Лоскутов, – трактор плохо тянет!
Из бункера валил желтоватый, густой дым, вкатывался в кабину, ел глаза. Ветви стегали по лицу.
– Что, тошно? – прокричал Лоскутов. – Это тебе не с пилкой возиться в лесу на чистом воздухе. Тут к концу работы форменным образом шатаешься, в голове гудит – угораешь!
Лоскутов отцепил хлысты и лихо развернулся.
С оглушенного Семена катился пот. Даже металлический стул сделался горячим. Семен выпрыгнул и пошел к Клаше.
Женщины затюкали топорами, и только одна Клаша возилась у балагана.
– Клавдия, чего ты канителишься? Бери топор! – сипло крикнула приемщица.
– Знаешь что, катись-ка ты… – Клаша раздула ноздри, презрительно прищурила черные глаза. – Много вас, указчиков, до Москвы не переставишь! На каждого араба два прораба!
Семен, увидев ее раздутые ноздри, вспомнил, как однажды Клаша на улице била за что-то молоденькую официантку. Семен тогда остановился пораженный. А Клаша, последний раз ударив бледную девушку прямо в лицо, подбежала к нему, попросила, задыхаясь:
– Уведи меня – убью я ее!
Семен увел Клашу в березовый лесок. Она вся дрожала, пальцы то сжимались в кулаки, то разжимались.
– За что ты ее?
– Так… Любя!
Клаша расплакалась.
С той поры он стал встречаться с ней. Месяц вместе ходили в клуб. Месяц он собирал для Клаши ягоды, приносил грибы. Наконец написал в записке прыгающими буквами: «Давай поженимся».
Клаша, встретив его, засмеялась:
– Что же ты запиской-то, а не на словах? Трусишь? – Она задумалась, а потом хмуро добавила: – Смотри, я ведь сердитой буду женой. Командовать буду. Не раздумал?
– Что ты! – Семен стоял красный, счастливый, растерянный.
– Работать я не стану. Тебе придется кормить меня.
– Да моего заработка хватит на двоих! – радостно убеждал Семен.
Клаша строго и удивленно посмотрела на него.
– Я люблю боевых ребят, а ты… из тебя хоть веревки вей, – вздохнула она.
Семен уныло ковырял мозоль на руке.
– Ладно. Я пошутила. Я не сердитая. И командовать не умею. И работать буду – не люблю зависеть. Скучно мне. Увези меня отсюда, ради бога! – с тоской воскликнула она.
Семен встревожился – что с ней? А она прижалась к нему, шептала:
– Увези скорее! На Камчатку! На Сахалин!
Все это вспоминал Семен, подходя сейчас к Клаше.
Она не оглянулась на него – заправляла черные волосы, рвущиеся из-под платка.
– Работаешь? – Семен стегал по сапогу сосновой веткой.
– Нет, пляшу… – и Клаша, не повернув головы, скосила на него смеющиеся глаза.
Она разгребла горячую золу и угли. Из-под них выглянула сизая бутылка, в которой уже закипела вода.
– Хлебнешь таежного чайку?
– Чай пить – не дрова рубить, – улыбнулся Семен.
Надев брезентовую рукавицу, Клаша схватила бутылку, но та внезапно лопнула, развалилась на две части, и кипяток зашипел в углях.
– А, сатана! Чтоб тебе сгореть! – Клаша швырнула рукавицу.
– Не ошпарилась? – испуганно присел на корточки Семен.
– Не маленькая. – Широкое загорелое лицо Клаши было сердитым. – Должно быть, рукавица мокрая!
– А я все топор твой слушал, – тихо проговорил Семен, разгребая угли веткой.
Хвоя густо задымила, запахла и вдруг, треща, жарко вспыхнула. Семену показалось, что все это уже когда-то было: так же сидел у костра с Клашей, так же вспыхнула хвойная лапа, так же тюкали топоры и ревел, вставая на дыбы, трактор.
– Сяду курить и слышу: тюк! тюк!
Семену хотелось сказать много радостных, хороших слов о том, что у него делалось в душе.
– Ты, наверное, там лодыря гоняешь – куришь да слушаешь? – свысока усмехнулась довольная Клаша.
– Что ты, что ты, я все время работаю! – клялся Семен. – Ты же слыхала мою пилу?
– Ну вот, еще не хватало слушать пилу, – норовисто дернула плечом Клаша. – Подумаешь, музыка!
– Неужели не слыхала? – огорчился Семен.
– Чего так тяжело вздохнул, ровно корову продал?
Клаша горделиво засмеялась. Она смотрела в сторону, а глаза горячо косились на него. Так никто не умел смотреть, и Семен любил этот взгляд.
– Как же дела-то? – шепнул Семен, рассеянно пошевелив знойные угли рукой вместо ветки и не почувствовав боли.
– Завтра беру отпуск на пять дней, уезжаю к матери. А через три дня заявляйся собственной персоной, вот и все. Отпляшем свадьбу. – Клаша говорила почему-то сердито, а рука ее порывисто ковыряла щепкой землю.
Семен решительно обнял ее и поцеловал в сухие, солоноватые губы, пахнущие малосольным огурцом. Клаша вскочила, поправила платок и властно прикрикнула:
– Н-но! Угорелый! Люди же кругом!
Семен, шатаясь и ничего не видя, пошел на свою лесосеку. Около него упала сосновая шишка, другая хлопнула в спину. Он оглянулся: Клаша смеялась. Лицо ее опять было повернуто в сторону, и только глаза лукаво косились на него.
– Веселый ты парень – на ходу спишь! – крикнула она и убежала.
Всю дорогу в лесу шлепались вокруг Семена шишки с сосен, ему же все казалось, что их бросала из-за кустов Клаша…
Поселок лесорубов приютился на дне глухой таежной пади. Падь называлась Синий Колодец. Рассказывали так: давным-давно охотник ранил козу, весь день шел по ее следам. Капельки крови привели в далекую падь, и там в зарослях шиповника и лиственниц охотник увидел козу: она стояла в яме по брюхо в воде. Рядом будто находился колодец. Бревенчатый сруб и навес над ним были окрашены в синюю краску. Охотник уложил козу точным выстрелом. Подойдя, увидел, что первая рана на ноге почти затянулась. Охотник заглянул в колодец: там бурлила и пузырилась вода. Попробовал – она защипала язык, ударила в нос.
Кто вырыл колодец в звериной глуши? Зачем? О нем стали создаваться страшные легенды, и охотники обходили падь.
Позднее лесорубы нашли здесь заросшие травой ямы: кто-то в старину мыл золото. Наткнулись на трухлявый лоток приискателя и на скелет человека. Через темные глазницы проросли голубые цветы, словно череп смотрел ласковыми глазами.
Обнаружили и колодец. Правда, никакого сруба не оказалось, была просто яма. Со дна ее бил сильный родник, вода клубилась, кипела, переливалась через край.
Приехал ученый, исследовал и сказал, что это целебная, богатырская вода.
Поселок назвали Синим Колодцем. Новые бревенчатые домики, пахнущие сосновой смолой, вытянулись в одну улицу. На домах желтые, свежие дощечки, а на них номера и нарисованы черной краской топор, или ведро, или багор. Это указывалось – кому и с чем бежать в случае пожара.
Глухая падь сразу ожила, сделалась уютной. Из репродуктора на весь поселок загремела музыка, в клуб собирались смотреть кинокартины.
Общежитие молодежи находилось на самом краю улицы, на берегу ледяного ручья. Тайга положила еловые лапы на крышу. В доме три комнаты с тремя сенями. В первой комнате жили Семен Черенков, Саша Ягодко, Арсалан и Лоскутов. Стол, табуретки, тумбочки некрашеные, новые, пахнущие лесом…
Едва остановился грузовик, с высоты борта тяжело прыгнул Семен, будто бревно сбросили. Птицами вылетели Арсалан и Ягодко.
– Черти! Головы сломаете! – закричала сучкоруб Полина, сухая, высокая. У нее все острое – локти, подбородок, нос; и голос тоже острый, пронзительный, и взгляд колючий, и слова колючие. – С цепи сорвались, что ли!
Но «черти» даже не оглянулись. Они подлетели к общежитию, сбросили грязные спецовки и, по пояс голые, чумазые, потные, кинулись к ручью.
Ледяной, светлый ручей бушевал в камнях.
Газета присохла к куску хозяйственного мыла. Семен соскребал ее крепким, точно костяным ногтем. На мыле отпечатались буквы. Под налипшими заплатками бумаги оно не смывалось и стало бугорчатым. Вот она, холостяцкая жизнь… Но скоро все это кончится!
Семен склонился к воде и, ухая, плеснул в лицо. Арсалан внезапно вскочил к нему на спину, стегнул мочалкой:
– Н-но, каурый! – И тут же незаметно шепнул: – Сашку покрестим.
Ягодко, ничего не подозревая, смеялся. Арсалан метнулся к нему, схватил за ноги. Подскочил Семен, и они потащили Сашку к ручью. Ягодко терпеть не мог холодной воды, он извивался ужом и вопил:
– Ребята, меня уже крестили! Сегодня очередь Арсаланки! Где справедливость?
Но Арсалан и Семен затянули:
– Имя младенцу теперь Александр! – и сунули его в жгучий поток. Ягодко взгизгнул, задохнулся. – Господи, благослови! – Снова окунули, и снова визг. Положили на траву – посиневшего, дрожащего, с хохотом разбежались.
Кино в этот вечер не было. До самой темноты играли в волейбол. Потом забрались в кровати, погасили свет, и Ягодко начал пересказывать повесть «Аэлита» – про советских людей, которые попали на Марс. Он пересказывал эту книгу уже третий вечер.
– Сунулся Гусев к лодке, а мотор, проклятье, забарахлил, – Ягодко самому стало жутко, и во рту пересохло, – но солдат недолго думая поставил усы торчком, обложил с седьмого этажа Марс, взвалил на плечи Лося, как мешок с пшеницей, и ходу!
Ягодко привстал с койки. Он махал руками, шумно выдыхая воздух, точно рубил дрова.
Семен слушал лежа. Арсалан переживал больше всех. Когда марсиане принялись разбивать летательный аппарат, он подпрыгнул в постели, уронил одеяло и прошептал:
– Э, паразиты!
– А Гусев выхватил дубину и пошел крестить!
– Правильно! Шибко правильно! – кричал Арсалан.
– «Я вас, трамтарарам!» – заорал Гусев и давай отпускать направо-налево, – задыхался Ягодко, махая воображаемой дубиной, – кому по мордасам, кому по шее. Марсиане кто куда, пятки только засверкали!
Арсалан смеялся, потирал руки, даже как-то всхрапывал.
– Потом Гусев пихнул в аппарат Лося и, дай бог ноги, загудел с Марса на Землю. А Лось глазами хлопает: дескать, куда летим? Гусев плюнул на пролетевший метеорит, поставил усы торчком: «А черт его знает, ничего, дескать, не могу расчухать, темно, как ночью в амбаре, и все звездами замусорено. Прем в мировое пространство!»
– Так и сказал? – восхитился Арсалан. – Ай, наши ребята нигде не пропадут!
Ягодко обожал приключенческие книги. Он с жаром пересказывал произведения Жюля Верна, Майн Рида, Кэрвуда. Рассказы были с продолжениями. «Таинственный остров» он рассказывал пять ночей.
Сегодня слушать было особенно интересно – Лоскутов не пришел ночевать. А он обычно все убивал ехидными репликами, вроде:
– Брехня ведь это, между нами говоря! И на черта нужно писать чепуху!
– А ну тебя, не квакай! Вечно все портишь! – однажды закричал на него Ягодко. – Тебе бы только девок вокруг пальца обводить!
– А в тайге каждый зверь – кусок мяса, – захохотал Лоскутов.
– Все для себя живешь! – обозлился и Арсалан. – Все себе загребаешь!
– Да ведь руки-то гнутся к себе, а не от себя! – и Лоскутов опять загоготал.
– Критиковать тебя надо! На чистую воду тебя выводить надо! – И Арсалан упрямо встряхнул жесткими волосами.
В воскресенье Саша Ягодко и Арсалан приоделись. Ходили по общежитию, чувствуя себя неловко в новых, шуршащих костюмах. Полдня не садились: боялись измять. В село они уехали раньше, – хотели купить подарок жениху и невесте.
Семен отправился, когда уже смеркалось. От вельветовой с «молнией» куртки пахло одеколоном, и этот запах очень нравился Семену. Залез в кузов попутного грузовика, встал, держась за кабину, и почувствовал, что ноги его подкашиваются. Он усмехнулся, покрутил головой и, чтобы ветер не сорвал, натянул поглубже новую кепку.
Грузовик швыряло на ухабах. Семен думал о своей жизни. Мать, спекулянтка и пьяница, родила его от неизвестного человека. Сын был ей в тягость: он рос безнадзорным зверьком.
Наконец в это дело вмешались соседи, и Семена поместили в детдом. А мать так и спилась, исчезла где-то.
Это сделало Семена замкнутым. Ученье давалось ему с трудом. Кое-как закончив семь классов, Семен завербовался на лесоразработки. Здесь у него дело пошло, и вот он уже десять лет работает в лесу…
Грузовик остановился, шофер, высунув голову из кабины, крикнул:
– Выгружайся, парень!
Семен растерянно оглянулся: грузовик уже стоял посреди села.
Выпрыгнув, отряхнул с брюк невидимые во тьме пылинки, направился к знакомому дому.
Падающая звезда провела по черному небу фосфорическую черту. За плетнем по-старушечьи кашляла коза. На другом конце деревни играла мандолина. Она была так далеко, что звук ее походил на нытье комара. Золотые окна в Клашином доме казались прорубленными во мраке. Семен взошел на крыльцо и снова почувствовал, что ноги подкашиваются.
Знакомая комната с комодом, сундуком и кроватями у стен была ярко освещена. Вокруг стола сидело человек десять. Дымились в тарелках пельмени, торчало так много бутылок с водкой, что казалось: на столе, кроме них, ничего больше и нет.
Семен сразу же увидел Клашу, одетую в белое платье, и по лицу его поползла неудержимая улыбка. И вдруг рядом с Клашей он заметил Лоскутова, одетого в скрипучую кожаную куртку. Он почему-то обнимал Клашу и почти пел:
– Голубонька ты моя сизая! До гробовой доски вместе! И мамашу не оставим, – она с нами, как у Христа за пазухой, заживет! – Лоскутов, увидев Семена, сдвинул брови и стиснул в кулаке вилку.
Семен, ничего не понимая, глянул на своих ребят. Сашка Ягодко сидел мрачный и подавленный, у Арсалана по-кошачьи горели глаза, он кусал дрожащую губу.
А из-за стола уже поднялась пьяненькая, с пухлыми, как пельмени, ушами мать Клаши и смиренно запричитала:
– Ты уж не обессудь, Семенушко. Прости на лихом слове. Но передумала я выдавать за тебя дочку. Вот Степан Левонтьевич женится на ней. Не по-христиански получилось. Надо было предупредить, да не успели: все это как снег на голову в последний день. Не ропщи, милый! Видно, так богу угодно… – Она перекрестилась на иконы в углу. – А ты уж не горюй, молодой еще, таких Клашек десяток сыщешь. Садись, будь гостем. Прости меня, грешную… – И она отвесила земной поклон.
Все было как в нехорошем сне. Семен до того растерялся, что не знал, о чем и говорить. Он молча смотрел на отвернувшуюся Клашу и видел только красное ухо среди черных кудрей. Очнулся от голоса Лоскутова:
– Ну ты, Семен! Или садись за стол, или уходи – не порть обедню! Гуляли мы с Клашей. Понял? А потом временно разошлись наши дороги. Я провинился. Назло мне и себе хотела уехать с тобой. Но, как говорится, теперь внесена ясность. Вопрос исчерпан. Никто не виноват. Судьба.
Арсалан, бледный до синевы, вдруг бросился на Лоскутова, как рысь, но Ягодко схватил его поперек туловища, унес.
Гармонист в мохнатом свитере угрюмо посмотрел на Клашу с Лоскутовым, торопливо затолкал в футляр гармонь и, не прощаясь, ушел.
Семен опомнился, когда стоял уже за воротами. В темноте, лежа посреди дороги, белела корова: от нее мирно пахло хлевом. Перестав жевать, корова длинно и скорбно вздохнула.
Семен быстро шел полем. Глухо звучали шаги. Тупо толкалась одна и та же мысль: «Как же могли? Что же это такое?» На шее, на висках, на руках вздулись вены. И внезапно к сердцу Семена подкатило, как приступ тошноты, отвращение к людям.
Он зашагал быстрее. Запахло какой-то травой, потом донесся аромат скошенного сена, обдал запах созревшей пшеницы: она темнела стеной вдоль дороги. Все это за день истомилось под жгучим солнцем и теперь пахло особенно крепко.
Вдруг дохнуло озерной сыростью. В нее вклинился домашний запах овчины: во мраке спала отара овец. Потом в лицо повеяло свежестью сосновой хвои, грибов.
От добрых запахов земли Семен пришел в себя. Теперь он думал плохо не только о людях, но и о себе. Что сделал он хорошего? Кому он нужен? Грубый, неотесанный. Да и каким еще станешь в таежных трущобах, когда от тяжелой работы трещат мускулы? Одичал: наденет новую рубаху и стесняется.
Семена как-то мгновенно сразила такая усталость, что он едва передвигал ноги. Войдя в лес, опустился на гнилую колодину. В лесу было глухо, тихо, иногда слышалось хлопанье шишек, точно опять бросала их невидимая Клаша.
Семен на миг не то забылся, не то задремал. Очнулся от шума. Рядом по соснам и березам поползли блики света, Близились два огненных глаза. Останавливать машину не хотелось: противнее всего сейчас была встреча с человеком. Он встал за куст, а когда грузовик поравнялся, собрал силы, догнал, повис сзади и перевалился в кузов.
Семен стоял, расставив широко ноги, держась за верх кабины. Грузовик уносился в глубь тайги. В чаще то обдавали холод и сырость, то вдруг откуда-то накатывалась удивительно теплая волна.
С дороги внезапно брызнули жаворонки, они метались в лучах фар, мягко шлепались о смотровое стекло, гибли под колесами. В прохладе забайкальской ночи жаворонки и суслики грелись на дорожной гальке, пропеченной солнцем.
В свет фар сыпались, как листья в листопад, ночные бабочки.
Дорога виляла в глухом лиственном лесу, спускаясь под гору. Вершины сцепились над дорогой, и она вилась бесконечным тоннелем. На раскинутые, низкие ветви с возов нацеплялось сено, висело космами лешего.
Ветви врывались в стремительный луч, Семен пригибался, они, треща и стегая по спине, проносились над ним.
Фары внезапно озарили пятнистую собаку и охотника с ружьем, со связкой убитых уток на поясе. Иногда мелькал костер – пламя освещало лица, протянутые над огнем руки. Из тьмы на поляне появилась белая лошадь: она дремала, понурив голову.
От всего этого боль начала утихать.
Из отверстия над мотором заклубился пар. Шофер остановил грузовик, выключил свет, и Семена окружила тишина. Только слышалось, как в моторе бурлит вода. Брякая ведром, шофер убежал куда-то во тьму. Семен сел в кузове, притаился. Старая береза опустила густые, мягкие ветви прямо в кузов, на колени, на плечи Семена, обняла весь грузовик. Множество листьев висело недвижно. В душе было тихо, как на земле. Не хотелось думать, хотелось просто смотреть, как земля отдыхала в ласковом мраке, в глухой тишине под копошащимися звездами. Отдыхал и труженик-грузовик, разгоряченно бурля в лесном безмолвии. И как будто отдыхал от всего и сам Семен. Только шофер раздражал. Вот он пришел, влил ведро воды, сел на подножку.
Молчали Семен и шофер, молчали тайга и ночь, молчала береза, прижимаясь ветвью к щеке. Будто все к чему-то прислушивались. И мотор начал затихать: тоже, наверное, хотел послушать то великое, что называется жизнью. Красиво и гулко грянул далекий выстрел. И вдруг тихонько-тихонько возникла песня:
Во поле березонька стояла,
Во поле кудрявая стояла…
Как будто зазвучала сама тишина, звезды, лес и душа Семена. Песня была такой осторожной, тихой, что сначала Семену померещилось: кто-то запел очень далеко. И только через минуту он понял, что это поет шофер.
По голосу узнал Алешу Сарафанникова, соседа по общежитию. Семену нравился этот белокурый паренек.
Потом Сарафанников замолк, вздохнул и так замер, как будто его и не было. Долго он сидел и не то думал, не то спал, не то слушал глухую ночь.
Семен почувствовал непонятно откуда пришедшее облегчение. Тело его заполняла свежесть и сила. Только руки мелко дрожали. Остаться бы навсегда одному в этих таежных дебрях.
Скрипнула подножка, зашуршала галька под сапогами, и прозвучал тихий голос:
– Ну, трогай, Саврасушка, трогай.
Алеша легонько похлопал грузовик по капоту, и у Семена, точно котенок, ворохнулось в душе теплое, мягкое чувство к этому шоферу.
Вспыхнули фары, заработал мотор, медленно тронулись. Ветви березы, как бы не желая расставаться, тихонько мели по коленям, бортам, уползая из кузова. Они в последний раз погладили по щеке, шепнули что-то на ухо, смели тяжесть с плеч Семена. Он оглянулся порывисто, но береза уже канула во тьму.
Из-за поворота посыпались огоньки Синего Колодца. Семен спрыгнул. Войдя в сени общежития, он с удивлением увидел через открытую дверь Сашу Ягодко и Арсалана. Они вытаскивали кровать Лоскутова. Ягодко, бросая на нее чемодан и пальто Степана, проговорил:
– Словно форточку открыли – дышать легче!
– Собака лучше, собака своих не кусает! – яростно кричал Арсалан.
Семен смущенно спросил:
– Чего это вы тут расходились, ребята?
– А, Сеня! – облегченно воскликнул Ягодко. – А мы, как началась заваруха, потеряли тебя. Куда, думаем, провалился?
– Домой пришел! Правильно пришел! – Смоляные волосы Арсалана встопорщились на затылке, на висках. – Я бы горло им перекусил, да Сашка помешал! Зачем помешал? Собачья это свадьба! Хэ, я еще с ним посчитаюсь! А она… э, в голове свистит, ветер дует – пусто!
– Ладно тебе, – поморщился Ягодко, – слишком много им чести – говорить о них. Давайте лучше пожуем чего-нибудь.
– Редька есть, хлеб есть – живем! – выкладывал Арсалан холостяцкие запасы.
Семен покосился на свои новые брюки, куртку, и они показались неприятными. Он поспешно снял их, сунул подальше в шкаф. А когда надел рабочую одежду и сел среди ребят, опять почувствовал такое облегчение, как в лесу.
– Пей из Синего колодца! Эх, целебная! Козу ранили – рану затянуло. – Арсалан налил шипящую воду. – Как говорил солдат? Прем в мировое пространство!
Горланили петухи, поднимая из нор в соседних падях лисиц; блеяли козы, трусцой убегая на поляны; по всему поселку звякали дужки ведер и скрипели журавли колодцев. Заспанные хозяйки, плеща на ноги, тащили воду. Таежные сопки, словно подожженные, курились туманами.
Едва рассвело, а в Синем Колодце уже всё знали.
– Да что ты говоришь! – ахнула Полина, стоя у ворот с соседкой.
– С Лоскутовым, – шептала непричесанная соседка и почему-то озиралась.
– Батюшки! Ни стыда, ни совести! – хлопала себя по бедрам Полина. – Да им бы обоим за это морды набить. Ну ладно, вильнула хвостом – черт с тобой! Но ты же предупреди человека! Это уж насмешка получается… А Семен смирный парень – мухи не обидит.